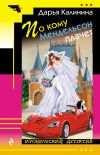Текст книги "Цирк"

Автор книги: Анастасия Носова
Жанр: Городское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Глава 7
Ком земли
13 октября 1999 года
Московская область, Малаховское кладбище
Сима шел, хромая, неловко переваливаясь и по привычке дергая правой рукой для удержания равновесия, когда приходилось пройти по узкой тропке. Раньше Сима мог ходить по канату с завязанными глазами, помахивая большим ярким балансиром, – в цирке учили всему и всех, и Сима смеялся, что он и по горизонтали, и по вертикали по канату может. Он бы и сейчас вытянул руку в сторону – вот тебе и весь балансир, – но правая рука была короче левой, и, как Сима ни старался, пошевелить пальцами он не мог. Пальцев на правой руке у него больше не было, от локтя начиналась пустота, и у Симы было ощущение, что руку ему оторвало вместе с клочком души: как откусили от него самый главный кусок, спрятали под завалами и закопали в землю. Теперь уже никаких канатов не будет, ни вертикальных, ни горизонтальных, и папы не будет, и цирка… Сима шел, а ему вслед смотрели статуи ангелов, множество чужих лиц с овальных фотографий и даты, даты, даты – одна жизнь короче другой. Сима пробирался вдоль оград и могил, перешагивая через кусты, борясь с терновником, и думал, что его отца не найдут никогда. Причем в отличие от хмурого следователя, милиции, судмедэкспертов, которые уже второй месяц после взрыва тщетно пытались опознать людей в прахе и пыли, найти в перемолотом обугленном месиве хоть каплю человеческого, Сима знал, почему его отца никто не найдет. Отца там и не могло быть. Отца не стало за долю секунды до взрыва. И только Сима это видел. Только он. Он знал, что, если расскажет, если заикнется, они все (следователь, милиция, судмедэксперты) решат, будто он сумасшедший, тронулся умом. «Бедный мальчик, нужно лечить!» – воскликнет какая-нибудь бабулька, увидев сюжет про него по телевизору. А Сима так не хотел. Поэтому он смиренно и с готовностью принял смерть отца, не кричал и не плакал, не бился в истерике, не качал права. Толпа наседала на следователей и органы власти, толпа налегала на двери больниц, толпа бежала по улицам за очередным депутатом, приехавшим на место взрыва, а журналисты выставляли вокруг него забор из микрофонов и камер – лучше всякой охраны оберегали официальное лицо от людей. Сима же отходил в сторону, шептал что-то себе под нос, оглядываясь на развалины, и, прижимая окровавленный рукав свитера к груди, тихо плакал. Когда врачи спохватились, рукав был красным от локтя и до запястья, а Сима почти потерял сознание. В больнице он смотрел в стену и мучительно пытался понять, сам ли это сделал отец и неужели мама пропала так же? Попал ли тогда в нее тот бандит, промазал ли или темнота сама прячет своих детей, а потом забывает вернуть их в мир, потому что он так жесток? Маму хоронили – Сима помнил точно. На белой больничной стене затанцевали образы прошлого: Сима видел черный гроб и черные силуэты людей вокруг, а потом оказывалось, что этот театр теней – всего лишь фары проезжающего мимо больницы автомобиля, а за окном – ночь, и завтра очередной новый день, который не принесет ничего нового, ни-че-го.
Сима пнул ногой камень, тот покатился по тропе и остановился у могилы. Холм, черная сырая земля комьями, вырванная трава и мох. В землю у изголовья был воткнут крест – неаккуратно и в спешке, крест уже успел покоситься. Отца хоронила дирекция, на пожертвования («кто сколько может»). Сима знал, что никакого отца в гробу нет. Жалостливая медсестра передала Симе странный документ, в котором значилось, что Огарев-старший «пропал без вести». Сима не стал спрашивать, кто и почему так написал, только вжал голову в плечи и отвернулся к стене.
Теперь Сима смотрел на ничейную могилу, на крест, к которому гвоздем была приколочена отсыревшая фотография его папы – молодой и улыбчивый Павел Огарев держал в руке три разноцветных мяча. Сима вспомнил, что мячи эти, первые мячи его отца, так и остались в завалах на Гурьянова. Ни одну вещь из тех, которыми папа дорожил, – даже эти мячи – не смогли похоронить вместо тела или праха. Краски на фотографии расплылись, и круглые мячики превратились в абстрактные яркие пятна. Цирковые приносили на символические похороны свой реквизит: кто кольца, кто булавы, кто стеклянные шары, чтобы не хоронить гроб пустым, чтобы положить на дно деревянного ящика хоть что-нибудь, что было частью его отца, и так и закопать в землю вместе с Симиными мечтами о манеже на Цветном.
Сима стоял, прижимая к груди свою культю, стоял, дрожа и стуча зубами. «Клац-клац», – ударялась пломба о здоровый зуб, стачивая его. Ветер свистел и играл на прутьях забора, как на губной гармошке. Сима поежился и посмотрел вверх – капли дождя не летели ему в лицо, не оседали в прелой кладбищенской земле, не стучали по головам ангелов и скорбных дев. Он потрогал здоровой рукой свою щеку, и на пальцах у него осталась вода. Сима наклонился, собрал в кулак ком земли и кинул его на могилу отца. Ком замер на вершине холмика и тут же покатился вниз, к его подножию. Сима присел на корточки и вынул из кармана два длинных тонких бумажных листа прямоугольной формы – печатная машинка надежно выбила на желто-розовой бумаге время и дату отправления. Один билет на поезд Сима положил на могилу.
– Приезжай домой… Папа.
Сима постучал по холму ладонью и встал. Не дали Симе кинуть землю в могилу отца, не дождались его выписки, и теперь черный земляной ком, запоздало Симой брошенный, застрял у него в горле, как будто не желая уходить вслед за отцом из мира живых. Сима почувствовал, как воздух с хрипом вырывается из легких и с тем же хрипом залетает обратно. Он не мог рыдать или плакать, он хрипел, как подстреленное животное, все так же прижимая культю к груди, мял пальцами здоровой руки пустой рукав пальто и тихонечко ныл что-то себе под нос. Вездесущий ветер подвывал в ответ, и Симе очень захотелось, чтобы пошел ливень и смыл с него все происшествия последних двух месяцев, очистил память, стер воспоминания, смешался со слезами и канул в земле Малаховского кладбища. Но дождь не шел, туча нависла над кладбищем, и сквозь нее просвечивало холодное белое октябрьское солнце.
Глава 8
Календарь и картошка
Октябрь 1999 года
Саратов, улица Азина, 55
Оля рвалась в Москву первые два дня после теракта. Родители же не выпускали ее из дома даже в цирк. Отец каждый вечер кричал, что не допустит, чтобы она на себя руки наложила. Мать поджимала губы и молчала, она теперь оставалась дома, чтобы Олю сторожить. Потому Оля звонила Сан Санычу, шмыгала носом и всхлипывала в трубку. Сан Саныч рассказывал Оле, что гримерку Огарева никто так и не занял, в ней теперь не протолкнуться: повсюду стоят вазы с цветами и венки.
Сан Саныч звал на чай, но Оля в цирк не приходила. В тумбочке в ее комнате покоился договор, по которому она обязана была выехать в Москву для получения визы в конце октября, когда будет готово для нее пригласительное письмо, а еще через месяц улететь в Испанию.
– На днях приходил гимнаст на ремнях, оставил в его гримерке свой крестик, – бормотал в трубку Сан Саныч. – Снял с шеи и оставил, представляешь… Сказал, Пашке нужнее.
Оля плакала и быстро кивала. Сан Саныч этого не видел, а потому ворчал и бранился на Олю, что она перестала ходить в цирк.
– Тебе-то что, – ворчал он. – Ты Новый год в Барселоне встречать будешь.
На этом разговор обычно заканчивался. Оля прощалась, вешала трубку и уходила в родительскую комнату. Она не могла без «поводыря» дойти даже до соседнего магазина, о Барселоне не приходилось и мечтать. Конечно, она топнула ногой и показала отцу пункт договора, в котором значилось, что ей обязательно нужно улететь, иначе она должна будет возместить цирку убытки, связанные с затратами на ее билеты, визу, проживание, а также уплатить штраф за то, что ее номер в программе придется менять.
– Переобуваться на ходу никому не нравится, – ворчал отец, глядя в Олины припухшие от слез глаза. – Но кому ж нравится родную дочь в таком состоянии за границу отпускать?
Оля и правда то ли опухла, то ли осунулась, то ли всё вместе. Днем она перебирала вялыми пальцами шарики для жонглирования, которые валились из рук вместо того, чтобы звонко взлетать к потолку. Вечером так же вяло и безразлично Оля помогала матери чистить картошку к ужину: картошка, как и шарики, падала в металлическое ведро с мертвым и тяжелым звуком: «бом!» – ведро вздрагивало, позвякивало и затихало, «бом!» – отвечали ему старинные часы соседки из-за стены.
– Боже, ну зачем она переехала сюда, теперь мы вынуждены это слушать и ночью, и днем! – беспомощно хныкала мама и высыпала ровненькие дольки картошки в кастрюлю с кипящей и похрапывающей водой.
Месяц назад Оля сидела на кухне и смотрела в окно: там, внизу, у подъезда, под противным дождем, тетенька небольшого роста командовала грузчиками. Они должны были правильно занести в подъезд длинные старинные часы с маятником. Заносили неправильно, и тетенька бегала вокруг них и очень суетилась.
– Потолок придется двигать с такой мебелью, – проговорила подошедшая со спины мама. – Аристократка…
Аристократов мама не любила не только за мебель, но и, догадывалась Оля, из-за Арины Петровны. И еще немного – из-за папы с его радикальными взглядами.
– Бабушка твоя из этих, только немецких, – ворчала мама, и Оля убеждалась в правильности догадок.
В один из таких длинных дней за телефонными разговорами и картошкой Оля заметила, как похудел календарь на кухне – большинство листов отрезали, смяли и выкинули. Календарь висел на стене почти полностью раздетый – к зиме он единственный снимал с себя три шубы и несколько свитеров. На календаре значилось: тридцатое октября.
– Завтра мне в Москву… – прошептала Оля и привстала со стула, задев ногой ведро.
– Чего бормочешь? – зыркнула мама на Олю.
– Муха, говорю, муха летает, – буркнула Оля.
– Ну так убей…
Мама продолжала резать картофелины на ровные дольки, а Оля бросила недочищенную картошку в ведро и выбежала в прихожую. Там она сняла с антресоли свой маленький чемодан, громко шурша вещами и хлопая дверками.
– Что ты там ворочаешь? – Мамин голос кипятком разлился по квартире и обжег Оле уши.
– Хлопалку ищу… – соврала Оля и скрылась за шкафом в родительской комнате вместе с чемоданом.
В комнате она столкнулась с Владом. Хлопнула дверца шкафа, и скрип петель повис между ними вместо тишины. Влад прятал что-то за спину, и Оля разглядела в его руках потрепанную книжку. Оля знала, что в книжках мама прячет деньги. «Капитал» Маркса не раз снился ей самой. Книжка случайно затесалась среди тех, которые она взяла с собой в давний побег. В ней-то Оля и обнаружила денежный схрон. Позже она все вернула – и книжку, и содержимое. Чувство вины осталось, и она до сих пор видела во сне, как стаскивает «Капитал» с полки, но не удерживает равновесие, стул под ней раскачивается, скачет на своих четырех ногах, пытаясь стряхнуть ее, будто необъезженная лошадь, и Маркс падает на пол. В конце сна в дверях всегда оказывалась мама, которая театрально прикрывала рот руками. В жизни она так никогда не делала, и Оля начинала просыпаться, понимая, что это сон.
– Опять мародеришь? – зашипела она в лицо брату.
Влад оброс щетиной, вытянулся, стал выше Оли, а еще – научился жаргону. Она так и не смогла привыкнуть к его новой стрижке, к небритой колючей роже, которая краснела и в духоте, и на морозе, и к словечкам, которым его научил Азат, – они надежно засели в лексиконе Влада.
– А ты опять жухаешь? – Влад скривился и опустил руки, уже не пряча ворованное.
Оля фыркнула.
– В расчете, – сказала она и толкнула брата плечом.
Он даже не вздрогнул, вышел из комнаты. Оля покидала в чемодан самое необходимое, выбежала в прихожую, вытолкала за собой чемодан и стала надевать сапоги. Она подпрыгивала и пыхтела, пытаясь застегнуть старый замок. На шум вышла из кухни мама, вытирая руки кухонным полотенцем в масляных пятнах.
– Все-таки едешь? – вздохнула она.
Оля кивнула и посмотрела на мать исподлобья. Она отпустила замок, и голенище расстегнутого сапога рассеченной банановой кожурой обняло ее ногу.
– Вы все равно мне не запретите, – начала Оля. – Мне уже восемнадцать…
– Подожди-ка минутку. Папа на работе задержится, так что успеешь, – мать перебила Олю, не дала договорить.
Она потрепала дочь по руке, скрылась в комнате и вернулась в коридор с фотокарточкой.
– На! – И протянула фотографию, на которой были Оля и Огарев.
Они стояли вдвоем, щурясь от солнца и слепящей белизны снега, а за спиной у них возвышалось здание Саратовского цирка. На Оле был тот самый мохеровый шарф, который она подарила Огареву. Оля прищурилась. Ей вдруг показалось, что над цирком мелькнула тень небольшой чайки.
– Надо же, – прошептала Оля, принимая подарок. – Как живой.
– Ну, с Богом! – Мама перекрестила Олю и прижала к лицу грязное полотенце.
– Мам, ты чё? – Оля испуганно смотрела на маму, боясь сказать, что та никогда особо верующей не была и что крестить было необязательно.
– Просто так бы и сбежала, да? В третий раз!
– Бог любит троицу, – усмехнулась Оля.
Мама перестала всхлипывать и уставилась на дочь. Потом, видимо, поняла шутку, морщины обиды на ее лице разгладились, и уже через две минуты они обе шутили, смеялись и переговаривались. Как будто не было пяти лет непонимания, запретов и ссор. Как будто мать смогла бы объяснить отцу, почему Оля так поступает, и он бы понял. Как будто Оля не скрыла от мамы очередную кражу Влада. Все в этом смехе и в этом разговоре было понарошку. Настоящим для Оли оказалось лишь осознание того, что мама наконец-то ее отпускает.
Глава 9
В пути
Октябрь 1999 года
Москва, Павелецкий вокзал – Цветной бульвар
Оля вышла из поезда на Павелецком вокзале и тут же оступилась: она сошла на неровный, размытый дождями асфальт, и от падения ее уберегла только крепкая рука проводника. Оля улыбнулась человеку в фуражке и отпустила его руку.
– Простите, – пролепетала она, оборачиваясь к длинному зданию вокзала. Таким большим в Саратове не выглядел даже аэропорт.
Проводник то ли не услышал, то ли решил не отвечать. Его широкие скулы даже не дрогнули, он уже помогал какой-то пассажирке вытаскивать на перрон огромные клетчатые сумки. Пассажирка причитала и клялась, что в сумках у нее фарфор. «Ой, батюшки, разобьешь, разобьешь, ей-богу, кто платить будет!» – долетало до Оли, пока она парящим, резвым шагом уходила от поезда. Ей хотелось взлететь – пронестись над огромными буквами, из которых на здании вокзала было выстроено слово «Москва», рассмотреть каждую букву поближе, криком волжской чайки пронестись над крышей и увидеть, что скрывается за каждой из букв. Почему «М» – такая широкая и много ли в Москве ширины? Почему «О» – такая протяжная и такое ли протяжное Третье кольцо, как она слышала, или оно маленькое, а только хочет казаться большим?
Оля выбежала на привокзальную площадь, и знакомый звук – пение трамвая, его звон – наполнил ее уверенностью: она найдет то, что хочет найти. Оля бросилась к трамвайной остановке и зацепилась за старушку в берете и со скрипкой в руках. Старушка будто бы сошла с обложки глянцевого журнала или только что прилетела из Франции, где навещала своих внуков: берет и чехол скрипки украшала вышивка, пояс черного широкого пальто перетягивал талию – старушка напоминала дорогую тряпичную куклу.
– Женщина… Бабушка, – забормотала Оля, поймав пренебрежительный старушечий взгляд.
Оле стало стыдно и за свой глупый пуховик, и за спортивные штаны с тремя полосками, которые она в поезде так и не переодела. Штаны Оля выбирала на рынке в Саратове, и тетка у прилавка в вещевом ряду кричала ей в ухо про «забугорные бренды прямиком из столицы мод», не сбавляя громкости. Оля купила штаны, чтобы не оглохнуть, а теперь стыдливо свела коленки вместе – надеялась, старушка не заметит на штанах еще и пятна. Пятно Оля поставила в поезде, вылила на себя горячую лапшу быстрого приготовления. Не обожглась – и ладно, решила она тогда.
– Женщина я, – ответила старушка и проводила взглядом трамвай, в который не успела сесть. – Мне нет и восьмидесяти!
– Женщина, – повторила Оля. – Не подскажете, как доехать до цирка?
– До какого из, девочка?
Оля знала, что цирк Никулина в Москве один и другого такого нет. Сан Саныч не раз восхищенно говорил, что Огаревы теперь работают в лучшем цирке страны.
– До самого… главного. На Цветном, – прошептала она, запнувшись.
– Лучше на метро. – Старушка со скрипкой улыбнулась и скрылась в салоне следующего трамвая, каким-то чудом не прищемив свою ношу дверьми.
Оля спустилась в метро и всю дорогу до цирка сжимала в кармане клочок бумаги, на котором был записан номер телефона Седого и адрес гостиницы. Сначала она отыщет Симу и узнает, жив ли дядя Паша, а потом обязательно позвонит Седому. Да, так она и сделает. Сначала – Сима. Потом – Седой. Оля повторяла про себя эти слова, как волшебную мантру. Вагон метро гудел и беспощадно глушил даже самые сокровенные мысли. Оля вышла из метро на Цветном бульваре, затерялась в толпе, и толпа волной вынесла ее прямо к цирку. Это было воскресное утро, и Оля быстро поняла, что таким образом она сумеет попасть и на дневное шоу без всякого билета. Толпа пронесет ее мимо билетера, скроет от глаз охраны. А там… Там она найдет Симу. Обязательно найдет.
В дверях цирка толкучка усилилась, какого-то зеваку в шапке-ушанке билетеры развернули назад, и толпа выплюнула бедолагу на площадь, тот попятился к метро, рассекая людской поток и сбивая ритм всеобщего ровного марша шаткой походкой, – над головами ныряла его нелепая шапка. Оля поежилась. А вдруг и ее ожидает такая участь? Ее могут не пропустить.
Она поглубже зарылась в воротник куртки, заслонилась им, чтобы скрыть лицо, – движение было рефлекторным: спрятаться, укрыться, пройти незамеченной. Но как она ни пряталась, как ни старалась стать невидимкой, когда двери цирка качнулись в очередной раз, пропуская новую группу зрителей, ветер подул в Олину сторону и принес с собой привычные запахи – овса и диких животных. Оле показалось даже, что в нос вместе с этими запахами залетела и магнезия – пыль с рук гимнастов, работающих на «рэке» (так по старинке называл турник Сан Саныч, и Оля сразу подхватила это звучное слово, заразилась им от Хранителя). Оля чихнула, чем обратила на себя внимание одного из билетеров. Он нахмурился, как будто бы всегда знал, что именно она здесь – безбилетная, и Оля незаметно юркнула в другую очередь, потеснив прыщавого парня. Парень икнул и промолчал. «Такой ничего не скажет», – беззлобно подумала Оля. У второй двери, куда двигалась теперь новая Олина очередь, билеты проверяла подслеповатая бабулька, и Оля живо сообразила, как ей пройти в цирк и успеть к началу. «Билетов в кассе все равно уже не осталось», – тоскливо подумала она, то ли оправдывая себя, то ли пытаясь мыслить разумно.
Она сжала в кармане бумажку с номером телефона Седого и адресом гостиницы и незамедлительно подхватила под руку прыщавого пацана, прошептав:
– Ты мне поможешь, а я тебе заплачу.
Пацан что-то протестующе промычал, но Оля крепче стиснула его руку, и мычание сменилось коротким кивком. Оля улыбнулась и уверенно направилась к билетерше.
Она протянула «билет» с номером телефона Седого, помятый и надорванный, и, пока билетерша разглядывала то, чего на «билете» быть не могло – название представления, толкнула локтем в бок прыщавого. Прыщавый засуетился, заворчал, зашарил по карманам и вытащил свой билет. На нем не было места и ряда, только стоял большой штамп «Приглашение».
– Теть Нин, да мы вместе по проходкам, вот смотрите, и у нее такая же… – едва слышно проговорил пацан, и красные точки на его лице даже как-то побелели, а он сам пожелтел и замямлил: – Пропустите, она со мной.
Тетя Нина посмотрела на прыщавого поверх очков, вернула Оле ее бумажку и выхватила из рук у пацана настоящий билет. Оля задержала дыхание. Тетя Нина надорвала билет, покачала головой и перевела взгляд на Олю. Оля не отвела глаза и выдержала паузу.
– Проходите, – проворчала бабулька. – Как билеты проверять, так «Нинка, постой за меня», а как очки Нинке поменять, так это кто бы хоть денег выделил… Предыдущее начальство лучше платило… – продолжала сетовать билетерша, пропуская следующего человека.
– Ну, ты же говорила, что заплатишь, – насупился прыщавый, когда и он и Оля, пыхтя и выпуская из легких уличный влажный воздух, ввалились в фойе.
– Говорила, – кивнула Оля, засунула шапку в рукав и всучила куртку гардеробщице. – А еще я сейчас скажу, что ты красавчик и очень мне нравишься! Поверишь?
Парень насупился еще сильнее и отошел от Оли подальше. «Такой не стукнет», – хмыкнула Оля про себя. На представление она и не собиралась. Она поискала глазами служебный вход. «Неприметная дверь, где-нибудь сбоку, ну пожалуйста», – умоляла про себя Оля и крутилась вокруг своей оси, пока не наткнулась на охранника. Охранник явно искал именно ее. За его спиной замаячила билетерша в очках и тот самый прыщавый парень. «Все-таки стукнул», – поняла Оля, с легкого тычка охранника кубарем вылетев на промокшие от дождя ступени. Куртка и чемодан полетели ей в руки следом. Номерок у нее из рук вырвали сразу же.
Оля, дрожа, натянула куртку поверх свитера, и, с облегчением вздохнув, нащупала в кармане бумажку. Вытащила ее и чуть не взвизгнула, закрывая рот рукой. Номера телефона на бумажке не было, как и имени Седого, как и адреса ее гостиницы. В руках она держала проходку прыщавого.
– Перепутали, – прошептала Оля и опустилась на бетонные ступеньки.
В ответ за ее спиной захлопнулись двери за опоздавшими зрителями и где-то далеко грянули фанфары. Оля закрыла глаза и зарычала. Она звала Тигра из своего детства, но Тигр молчал.
«Помни, Оля, спрятать Тигра в темноте – легко, а достать его оттуда…» – сказал дядя Паша и ушел. Уехал. Бросил ее.
– Дядя Паша! – закричала Оля серым улицам под грохот фанфар и шум дождя. – Огарев! – крикнула она еще громче.
На нее оборачивались прохожие, а она, утирая руками мокрое от дождя лицо, звала наставника.
На другой стороне улицы дрогнул мужской силуэт, перебежал через дорогу и скрылся в метро. Оля привстала со ступенек и долго всматривалась в стену дождя: не появится ли тень снова. Клекотали створки дверей метро, из подземки выходили незнакомые ей люди. Ни тени, ни дяди Паши, ни Симы среди них не было.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.