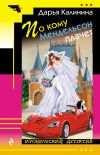Текст книги "Цирк"

Автор книги: Анастасия Носова
Жанр: Городское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Глава 6
Премьера
Сентябрь 1994 года
Саратов, Цирк имени братьев Никитиных
Болезнь почти отступила в день премьеры. Только вот Оле хватало и других сложностей: летние каникулы кончились, началась школа. В первые дни учебы Оля увиливала от уроков под предлогом болезни, но, когда кашель ослаб, увиливать стало сложнее. Мама знала, что каждое утро Оля все равно убегает в цирк. В конце концов мама поставила условие: утром – уроки, днем – все остальное. Оля вопреки запретам репетировала до ночи и стала приносить домой трояки по всем предметам. Она часто просыпала первый урок и бежала ко второму.
Недостаток репетиций тоже сказывался. Оля нервничала перед премьерой. Ноги и руки немели, под ребра как будто вживили металлическую пластину, которая мешала дышать, ходить, двигаться. Оля боялась, что произойдет все и сразу: она забудет программу, не выйдет вовремя, не подготовит правильно реквизит или закашляется, собьется в самый ответственный момент. В новом шоу Оля была антагонистом Арлекино, и ей казалось, что она таки заразилась от Пьеро вечной грустью и привычкой всего бояться.
Номер, который так долго продумывал для нее Огарев, все же был поставлен, но крупные шары, которыми грезил наставник, не подходили для жонгляжа – их заменили на черно-белые сверкающие кольца. Еще поменяли цветовые решения: манеж погружался во мрак, Оля выходила работать в белом – это упрощало задачу техникам и соответствовало программе.
Тут же, в первом отделении, Оля должна была ассистировать в новом номере Симы вместе с Огаревым. В номере оставили только индийскую тематику, а остальное поменяли: Арлекин, Коломбина и Пьеро, попадая в Индию, должны были разбрасывать по манежу цветные шифоновые платки, пока Сима под аплодисменты зала приземлялся на ковер и «заряжался» для финального обрыва. За левитацию «цветного тряпья» отвечал, конечно же, Огарев (незавидное название платкам дал тоже он).
Оля прошла свой номер под аплодисменты, к которым осталась глуха. Она не успевала за музыкой и слышала это отчетливее, чем аплодисменты. От этого неуспевания и суеты чесалось в горле и хотелось то ли чихнуть, то ли выругаться, но было нельзя, и Оля послушно подпрыгивала и бежала со своими кольцами в том направлении, в котором должна была. Белый костюм с шифоновыми длинными рукавами нежно укутывал ее шею и локти при очередном повороте, и, когда кольца ложились в руку одно за другим так же стройно, как до этого они катились за кулисы под руководством Огарева, Оля заподозрила наставника в жульничестве. Когда музыка кончилась, она, не поклонившись зрителям, вылетела за кулисы, оставив в воздухе только бело-золотистую пыльцу, которая по задумке сыпалась с ее рукавов в конце номера.
– Это вы мне помогали! – выкрикнула она, схватив Огарева за лацкан сюртука.
Ткань под ее пальцами затрещала, но Огарев остался спокоен.
– В зрительном зале всегда слышно, если за форгангом что-то происходит, – прошептал Огарев, и Оля вспомнила, что он учил ее соблюдать тишину за кулисами.
– Это вы! – продолжила она обвинять Огарева, но теперь уже шепотом. – Дядя Паша, зачем вы так?
В горле у Оли накопились и кашель, и слезы, она пыталась сдержаться, но против своей воли разревелась. Огарев бормотал что-то утешающее, но Оля замкнулась. Удивительно, но в слезах ей стало легче дышать, она наконец откашлялась, в гортани перестало свербеть, легкие свободно наполнились воздухом, в котором не было ни удушающего запаха циркового ковра и животных, ни намека на темноту, которая пахла для Оли одеколоном Огарева.
Оля вздохнула и сняла голову с плеча наставника. Огарев пошел в манеж с мокрым от ее слез воротником, и, когда вернулся, Оля стояла уже переодетая в индийский вариант ее костюма – нежно-голубой. От белого они отказались после замечания Сан Саныча, более осведомленного об индийских традициях. «Белый – похоронный», – сказал он, наблюдая, как портной бегает вокруг Оли с кусками белой, раскроенной под рукава ткани.
– Помни, важно то, что делаешь ты, – сказал Огарев очень серьезно, когда они снова пересеклись за кулисой. – А ты делаешь многое. И поверь мне: когда в цирке никто тебе не поможет, ты этот день запомнишь как самый черный в твоей жизни.
В номере Симы Оля выходила с улыбкой, несвойственной Пьеро, и только Сима и его глухонемая подружка, игравшая роль Коломбины, проходя или пролетая на канате мимо нее, замечали, что глаза у Оли болезненно поблескивают, а губы, растянутые в улыбку, дрожат от обиды.
– Я ничего не сделала сама, – сказала она Огареву вместо того, чтобы поздравить наставника с премьерой. – Я без вас ничего не умею.
Отгремел финальный номер. Мимо них проходили артисты, смеялись, договаривались, в какой гримерке накроют стол в честь премьеры. «С началом!» – слышалось отовсюду. «С началом!» – повторяли они друг за другом. «С началом!» – даже цирковой попугай решил подыграть им. Оля не слышала, не хотела слышать. Когда Сан Саныч потрепал ее по плечу, поздравляя с дебютом, и побежал дальше, обниматься с другими артистами, Оля только слегка качнулась, но даже не повернула головы.
– Правильно, – согласился Огарев. – Только ты немного запуталась. Ты не умела бы. Но ты умеешь, ведь я научил.
В гримерке Оля заметила, что тень на стене стала больше, хотя бабье лето захватило город и солнечный свет заливал гримерку целый день, слепил Олю, мешал готовиться к выходу: наносить грим под атакой солнечных бликов на зеркале было почти невозможно. Оля передвинула ширму и накинула на нее занавеску так, чтобы она закрывала стену в углу у карниза, где поселилась тень.
– Если это делает темнота, то я не хочу так. Я хочу сама, – заявила она на всю гримерку.
За занавеской тень не была видна, но Оля понадеялась, что когда снимет занавеску и отодвинет ширму, ее там не будет. Огарев смеялся над Олиными попытками избежать темноты. Он был уверен, что темнота выбрала Олю, и совершенно забыл о том, что темнота изменчивее любой знакомой ему женщины.
Глава 7
Чеснок
Сентябрь 1994 года
Саратов
Гонорар за выход в цирке оказался меньше, чем в ресторане, в четыре раза. Выплаты задерживали так же стабильно, как и у папы на прошлой работе, и Оля быстро распрощалась со снами о долларах. В этот раз Оля принесла деньги домой – гонорар платили настоящими, рублевыми купюрами, которые Оля знала и принимала за свое, родное и понятное. Такие деньги были понятнее и для мамы. Как выяснилось, Влад не всё потратил на приставку – мама разбирала бардак в шкафу мальчишек и нашла остатки долларов, которые Влад по своей дурости не успел перевести в рубли и спрятать понадежнее. Оле повезло: гнев и злость на жизнь, накопленные в душе у матери, вылились на брата.
– То есть пока сестра зарабатывает и приносит деньги в семью, ты доллары прячешь?
Оля случайно проходила мимо приоткрытой двери в комнату братьев и увидела, каких усилий стоило маме не замахнуться на Влада. Мама сжимала кулаки и губы так, будто сейчас заплачет, у нее дрожала жилка на скуле, а Влад пятился назад к двери. Брат оправдывался как мог, но из его путаных оправданий выходило что-то несуразное. Оля давно поняла, кто опустошил ее заначку. Сначала злилась и даже оставила брату записку, но ябедничать маме не стала. Теперь она пристыженно и одновременно с наслаждением внимала маминым крикам, но решила, что Владу хватит, и мысленно простила ему кражу.
Мама на этом не успокоилась, Оля слышала, как она жалуется отцу, что «Влад учиться не хочет, а только шляется и играет в непонятно на какие деньги купленный “Денди”» и что «этот его дружок Азат до добра не доведет». Оля не стеснялась подслушивать и подглядывать. Кухня в их доме была местом хранения – и разоблачения – секретов: многое было тут случайно или нарочно услышано или увидено другими членами семьи. Мама, которая часто заставала Олю за столь неблагородным занятием, конечно, шикала на нее. Но шикала формально, она и сама была этому занятию не чужда: если Оля приводила домой Жорика и они прикрывали дверь кухни в поисках уединения (школьные сплетни сами себя не расскажут), мама периодически заглядывала к ним, делая вид, что ищет ножницы или какое-нибудь особенное полотенце. Ножницы и полотенце почти никогда не находились, а если и находились, то бывали незамедлительно перенесены в другую часть квартиры и оставлены там как ненужные.
В этот раз кухонные диалоги показались Оле особенно занимательными.
– Я слышала, что Азат употребляет! – продолжала переживать мама и все сморкалась в платочек. – Это все ты виноват, избаловал мальчишек!
– А Оля твоя? Много, что ль, умеет, кроме клоунства этого? – возмущался папа, и на этом разговор заканчивался.
Оля все еще надеялась доказать отцу, что она занимается чем угодно, но только не «клоунством». Она подложила ему в карман билеты на следующее представление и молилась всем известным богам, чтобы он не выкинул их в мусорку вместе со старыми чеками из продуктового магазина. Шоу планировалось только в следующие выходные, руководство отменило представления в будние дни, оставив в пятницу, субботу и воскресенье.
– По экономическим соображениям, – так объяснил директор расшумевшейся труппе.
– Так мы же и в другой город уехать можем! – выкрикнул клоун, с которым по всем городам и весям колесили три маленькие дочери.
– Не можете, пока начальство не одобрит, – пожал директор плечами и снова заперся в кабинете.
Огарев перестал приносить на работу банки с едой, от которых прежде ломилась гримерка. В столовую они с Симой тоже перестали ходить. Оля выделяла из своего скудного гонорара деньги себе на еду, а остальное честно отдавала маме. Однажды она решилась и пригласила Симу сходить с ней поесть. Сима стоял возле своей гримерки с глухонемой Коломбиной. Она что-то эмоционально объясняла Симе на языке жестов, а он так же эмоционально отвечал. Потом она взмахнула руками, как уставшая бабочка, капризно мяукнула и убежала. Сима не последовал за ней. Тогда Оля вышла из-за угла и направилась прямо к Симе, ощущая под ребрами привычные тиски сомнений, которые мучили ее с первой встречи с ним в цирке.
– Я в столовку иду. Хочешь со мной? – В этот раз она спрашивала как хозяйка положения.
– У меня денег нет, – пожал плечами Сима.
Оля замерла от такой неожиданной честности. Олин папа продал бы душу или какой-нибудь другой жизненно важный орган, но ни за что бы не сознался женщине, что он попросту беден.
– У меня есть, – прошептала Оля.
– Ну пошли тогда. – Сима снова пожал плечами.
В столовой он ел так, как будто никогда не видел слипшихся макарон. Олиных грошей хватило на один обед, и теперь они делили между собой суп, второе и свекольный салат с чесноком. Сима чесноком побрезговал, и Оля ковыряла вилкой салат. Она думала, что, если он полезет целоваться, она дыхнет на него и все испортит. Несколько раз она прокручивала в голове, как это будет, на замедленной съемке. Очнулась, лишь когда Сима, вытирая рот салфеткой, окликнул ее:
– Ты на репетицию-то идешь? Отец орать будет, что опоздали.
Оля посмотрела на недоеденное свекольное месиво и, сморщившись в очередной раз от запаха чеснока, встала из-за стола. Доедать не хотелось. Теперь ребра сдавливало чувство неутоленного голода и еще ощущение, что салат был несвежий.
Сима вышел из столовой, не дожидаясь Оли. Она побежала за ним в манеж и с тоской проводила его глазами – Сима направился к своей подружке, которая привычными жестами попросила его застегнуть замок тренировочного комбинезона у нее на спине.
Глава 8
Презервативы
Сентябрь 1994 года
Саратов, Цирк имени братьев Никитиных
Вызывая сына на разговор, Огарев знал, что сам – плохой пример. Таня продолжала устраивать истерики и уходить к маме, и Огарев постепенно становился в этих ее состояниях ненужным звеном. Если бы его вдруг не стало, она бы обижалась на его портрет на стене и ходила к маме по привычке. Так он ей и сказал однажды, и Таня незамедлительно собрала сумку и пропала у мамы на несколько дней.
Огарев и не надеялся, что сын его послушает, но чувствовал себя обязанным с ним поговорить. Оля стала рассеянной, на репетициях предметы падали из ее рук чаще обычного и укатывались дальше, чем могли бы. И пока Оля непривычно медленно собирала мячи, кольца и булавы с ковра, Огарев не преминул проследить за ее взглядом во время репетиций и посчитать, во сколько обходится ей одна кормежка Симы в столовой. Сначала он стал давать сыну деньги: выгребал понемногу из заначки, которую берег на черный день, и накрывал ладонью Симин кулак. «Неужели эти руки могут обнимать девушку?» – неожиданно для себя Огарев понял: он не ждал, что у сына вообще кто-то появится. Он замечал его ухаживания за глухонемой дочкой Сан Саныча, но не принимал это близко к сердцу. Тем более что сам Сан Саныч только посмеивался и заверял Огарева: «Дело молодое, скоро пройдет». Огарев через несколько месяцев подошел к Санычу и позвал за собой к главному входу. Указав на целующуюся в пустом гардеробе парочку, Огарев помахал ладонью перед носом друга:
– Что-то не проходит, Саныч, дело-то молодое.
– Ну а что? – Саныч подбоченился. – Плохо, что ли? Поженим!
Огарев не разделял восторгов Саныча. Дочка его в новом шоу выходила в роли Коломбины и достойно проявила себя на премьере – она отличалась упорством и постоянством. Про Симу Огарев этого сказать не мог.
Поэтому разговор с сыном Огарев начал в своем стиле: нестандартно и радикально.
– Сядь, – сказал он, когда Сима вошел в их гримерку после вечерней репетиции.
Перед лицом Симы промелькнула рука отца, и на стол шлепнулась пачка отечественных презервативов. Пачка оказалась на столе ровно между ними – глазомер жонглера не подвел Огарева, – ни на сантиметр дальше, ни на сантиметр ближе.
– Если ты не возьмешь это сейчас, то я куплю еще пятнадцать таких и буду жонглировать ими на «зеленке» в твоем номере, и меня никто не осудит, потому что остальные нормальные люди будут видеть мячи.
Сима долго смотрел на отца, прежде чем спрятать пачку.
– Ну-у, – протянул он, подняв бровь, когда квадрат позорной упаковки оттянул карман его репетиционной одежды.
– Гну, – шикнул Огарев. – Что у тебя с Олей?
– Ничего.
Теперь настало время Огарева поднять бровь.
– А с Арлекиншей этой?
– У нее имя есть, – огрызнулся Сима.
– Так с ней что? – Огарев продолжал наседать.
– Да отстань ты! – Сима ударил кулаками по старому столу так, что тот скрипнул и закачался. – А то я за Таней уйду!
Огарев не успел ни поймать Симу за рукав, ни крикнуть что-то в ответ. Когда он нашел в себе силы встать, дверь гримерки уже раскачивалась на несмазанных петлях и сквозняк заботливо обнимал Огарева за плечи. Огарев осел на стул и зажмурился.
– Я тебя никогда ни о чем не просил, – произнес он в пустой гримерке, обращаясь то ли к себе, то ли к сбежавшему сыну. – Но теперь попрошу.
Огарев обращался к темноте. Никто в цирке не заметил, что в тот день из гримерки Огарева вслед за его сыном выскользнула тень. Эта тень теперь каждое утро сливалась с тенью Симы и, пританцовывая, каждый вечер возвращалась к Огареву с новостями. Огарев боялся считать, сколько он задолжал темноте – уж точно больше той суммы, которую продолжал доставать из семейной заначки, только чтобы Сима не обедал на Олины деньги.
Огарев узнал, что Сима не брезгует девчачьими подачками и с удовольствием играет на Олиных чувствах, когда они с Санычем сидели после шоу в одном из технических помещений.
– А что это, твоему наследнику зарплату подняли? – спросил Саныч, разливая по узорчатым стопкам прозрачную жидкость из бутылки времен Первой мировой.
Саныч гнал самогонку и увлекался коллекционированием старинных сосудов. Он часто подавал горячительные напитки в замысловатых рюмках или стопках, сопровождая застолье рассказом о том, что стопки эти – фамильная реликвия, конфискованная у очередной именитой дворянской семьи. Огарев в ответ на исторические справки Сан Саныча обычно мычал что-то неразборчивое.
Под самогон уплетали вяленую рыбу, которую Санычу и его дочке привезли заботливые чеченские родственники. Огарев на вопрос отвечать не стал, лишь буркнул что-то неопределенное.
– Да я похвастаться хотел, – смущенно продолжал Саныч. – Твой-то моей букеты носит. Вся гримерка в цветах. Один раз пятьдесят штук роз принес.
На этот раз в возмущенном мычании Огарева отчетливо слышались нотки русского матерного. Саныч расслышал их и хвастаться перестал. Огарев вернулся в гримерку, открыл сейф и уставился на свою поредевшую заначку. Теперь он знал, куда сын тратил его деньги. Оля продолжала кормить Симу за свой счет. Огарев продолжал давать деньги. Вот какими дураками они были!
Огарев вышел и вернулся в гримерку с вазой – в ней плескалась вода и раскачивались слегка вялые розы на длинных стеблях. Тень спряталась в самом дальнем углу, который смогла найти.
– Так-то ты мне служишь? – заорал Огарев и запустил вазой с цветами в стенку.
По обоям побежали струйки воды, на полу растекалась лужа. Никакой тени в углу уже не было. Темнота не приходила к нему в гримерку до следующего представления. Выходы Огарева были единственной частью его жизни, которые она не могла пропустить.
Глава 9
Город
Сентябрь 1994 года
Саратов, Цирк имени братьев Никитиных – гора Увек
Даже после премьеры труппа продолжала репетировать шоу допоздна: дрессировщик так и не смог заставить тигра прыгнуть в кольцо, Сима криво зарядился на последний обрыв и делал его с опаской, что Огарев сразу заприметил, жонглер на моноцикле не забросил все чашки на голову, как планировалось, и, хотя успеху представления это не помешало, режиссер требовал работать чисто. В центре манежа Огаревы репетировали корд де парель, Коломбина стояла на тростях свой любимый эквилибр – работала она его, а еще «воздух» в кольце, но кольцо на премьере удалось чище эквилибра. Оля же в стороне жонглировала кольцами – она гораздо больше любила репетировать одна, ночью. Под взглядами более опытных коллег работать в полную силу было тяжело, и если во время шоу удавалось от этих взглядов отвлечься, то в заполненном цирковыми манеже ей становилось тесно и душно. Огарев был единственным, кто в этот раз на нее не смотрел: этим вечером он работал с Симой, и Оля не хотела признаваться себе, что ревнует, – только кого больше, наставника или парня, которого готова кормить обедами на последние деньги? Она изо всех сил старалась смотреть только на кольца, рассчитывать силу броска и больше ни о чем не думать, но ее взгляд и внимание то и дело обращались к Огаревым. Сима был безупречен: точные движения, никаких отступлений от жанра. Идеальный цирковой. И как это в шоу у него получилось сбиться? С такими-то данными? Огарев выглядел распущеннее, свободнее, но это был обманчивый образ: за нарочитой неряшливостью скрывались знания и мастерство, каких им с Симой никогда не перенять.
Оля собрала кольца в рюкзак, помахала дяде Паше и вышла из манежа. В коридоре ее догнал Огарев-младший. Оля дернулась от неожиданности, когда Сима вырос у нее на пути. Футболка на нем вымокла от пота, на плечах и запястьях рдели ярко-розовые полосы от каната. Оля наклонила голову, но ничего не сказала. Сима откашлялся:
– Я это… Помочь? – Он указал на сумку с реквизитом, которая помятой тушкой свисала у Оли с плеча.
Оля покорно отдала сумку. Сима тут же перестал смущаться: сумка, которую он закинул на плечо, как будто сломала барьер, через который он, как трусливый тигр, не мог перепрыгнуть. Или не хотел. Пока Оля соображала, что же ему от нее нужно, Сима тараторил о прошедшей премьере, о том, что на репетиции говорил отец, о том, что Огарев-старший часто ставит ее в пример ему. На этих словах Сима запнулся, но все-таки продолжил говорить.
– Далеко живешь? – Он сменил тему, когда они остановились у двери ее гримерки.
– В Заводском.
– Я провожу?
– Совсем дурак? – вырвалось у Оли. – Это час езды туда и час обратно. Ты на последний трамвай назад не успеешь.
Сима помялся у двери в нерешительности, обдумывая ее слова. «Огарев подослал», – поняла Оля.
– Я провожу, – заупрямился Сима и шагнул ей навстречу.
Оля пожала плечами. На десятом обеде она перестала надеяться, что у них что-то получится.
– Как хочешь, – бросила Оля и скрылась в гримерке.
Сима дождался ее у выхода из цирка и снова отобрал сумку. Оля просто прошла вперед, не оборачиваясь, и Сима поплелся за ней. В трамвае они сели напротив друг друга.
– У тебя есть что-то, кроме цирка?
Оля посмотрела в окно. Они выехали из центральной части города, до стадиона «Волга» оставалось несколько остановок – ее мучениям скоро должен был прийти конец. Не так она представляла себе их первый разговор наедине.
– Есть, и что? – ответ прозвучал настолько грубо, что Оля сама себя испугалась. – Прости, – поникла она тут же. – Кажется, что и нет особо. Читаю вот иногда. – Она кивнула на сумку.
Сима дернул замок ее сумки, не отрывая от Оли взгляда – огаревского, отцовского. Огонь, который нес в себе его отец, все же поселился в Симиных глазах, и сейчас Оля заглядывала в самую глубину лесного пожара внутри карих огаревских глаз. Еще немного, и она услышала бы треск костра и хруст сворачивающейся в трубочку древесной коры – золото и тлеющие угли смешивались в цвете Симиной радужки. Оля отвернулась. Сима расстегнул сумку до конца, не встретив возражений. Он покопался внутри и выудил на свет книгу: зеленая обложка пожелтела под тусклыми трамвайными лампами – «Тихий Дон» в Симиных громадных руках смотрелся тонким и жалким, хотя Оля читала уже вторую неделю и так и не дошла до середины.
– Увесисто, – оценил Сима находку, повертев книгу в руках. – Я читал, – пожал он плечами.
– Врешь, – прищурилась Оля.
– Да ну! – отмахнулся Сима и спрятал книгу обратно в сумку. – Я вот думаю, что Гришка Мелехов – дурак просто какой-то.
Оля отвернулась к окну. Мимо проплыла стела «Заводской район». Сима замолчал и больше не пытался ее разговорить.
Они вышли на остановке прямо возле Олиного дома, и Сима, передавая ей сумку, уже собирался перейти на другую сторону, чтобы вымокнуть под мелким дождем и все же ждать, когда тот же самый трамвай намерзнется в депо, когда перила внутри него настоятся на холоде и до них невозможно станет дотронуться, не отдернув руку, – тогда, быть может, трамвай поплетется обратно в сторону центра города.
– Ты все равно не попадешь на последний… – задумчиво протянула Оля, забирая у него сумку. – Он обычно не приезжает даже. Прогуляемся?
Улица Азина, ее старые сталинские дома нависли над Симой и Олей – стены их были готовы рассыпаться на тысячи осколков, только прикоснись. Иногда штукатурка и бесформенные камешки попадались под ногами, а краска, кусками сбитая со стен, похрустывала под ботинками – так же хрустели в американских фильмах ужасов под ногами героя человеческие кости, когда он оказывался в ущелье или в логове какого-нибудь зверя.
Дом, который стоял рядом с Олиным, находился в аварийном состоянии. От него отваливалась уже не штукатурка и краска – на земле валялись вырванные кирпичи, а из стены на волю пробивалось дерево: стена треснула в этом месте – камень подчинился слабому древесному телу. Сима терпеть не мог заброшенные или полуразвалившиеся здания. На одной из «заброшек» он еще в детстве прятался от дворовых хулиганов. Сима остановился перед надтреснутым, надломленным домом номер 53 по улице Азина, и черные арочные окна посмотрели на него. Оля уже успела уйти далеко и теперь ждала его в конце улицы – там, где заканчивался город и начиналась дорога в сторону дач. Сима знал этот поворот, трамвайные пути заворачивали здесь тоже, расставались с улицей Азина, устремлялись прочь, хотя трамвай неизменно оставался в депо неподалеку.
– У дедушки был дом. – Сима остановился рядом с Олей в самой верхней точке улицы. Здесь, на вершине холма, можно было увидеть, как дорога пересекает поле, а затем прячется среди дачных участков. – В Хмелевке. Это же недалеко отсюда. Потом продали. Они с отцом много кому задолжали и продали дом в счет долгов.
Оля пожала плечами:
– У нас никогда не было дачи.
Сима плелся за Олей и не понимал, почему все еще идет за ней. Она не давала ему с ней заговорить, и ее рубленые жесткие фразы прерывали их разговор, который, казалось, только-только начинал разгораться. Оля, сложив губы трубочкой, задувала свечу его слов и даже не думала зажигать ее снова. Сима потратил почти все спички в попытках осветить хотя бы половину ее лица. Оно все так же оставалось в тени, и саратовская ночная мгла, и холмы, по которым они тащились уже второй час, и дачи, в которых в сентябре еще кто-то жил – в окнах изредка встречался свет, – все это забирало Олю себе. Чем дальше они шли, тем отчетливее Сима понимал: он зря с ней пошел. Не было ни единого шанса, что у них что-то получится, – как не было шансов и на то, что Оля приживется в цирке.
– Куда мы идем? – выкрикнул Сима, когда Оля вскарабкалась на очередной холм и дожидалась его наверху среди высокой травы.
– Мы пришли.
Гора Увек раскинулась перед ними, заросшая травой, изрезанная тропинками. Сима забрался на вершину и уселся прямо на холодную землю. Оля стояла в стороне. Нелепая ветровка еще сильнее надувалась от порывов ветра, отчего у Оли на спине вырастал парус. Сима сорвал длинный колос и надкусил его, как всегда делал в детстве в Хмелевке, когда хотелось пить. Холодная травинка колола язык, она иссохла под напором осеннего холода и ветров, сока внутри уже не было.
– Вон там, – прошептала Оля, указывая на трубы завода, дым из которых застилал небо над городом, – папа работал когда-то. Вон там… – Оля повернулась и указала куда-то в сторону, – мама сейчас работает.
Сима сплюнул. Колосок оказался бесполезным.
– Ты домой-то собираешься?
Оля не обернулась. Парус на ее спине опал, и она сделалась совсем незаметной: в высокой траве, на фоне города и громадных заводских труб, на фоне холмов она терялась, сливалась с ними, и Сима прищуривался, чтобы разглядеть очертания маленькой фигурки.
– Знаешь, Гришка Мелехов – дурак. Ты, может, и прав. Но он не ждал бы и не стоял бы тут истуканом.
Оля вскинула голову, и Сима наконец увидел ее. Огни Саратова, высокотравье и холмы не прятали ее. Просто она была их частью. Они были ее кровь и плоть, и ветровка, и кепка у нее на голове могли запутать и скрыть на мгновение то, что в итоге оказывалось очевидным. Оля и была этим городом, этими огнями и даже трубами этого завода. А он этот город никогда не любил. Он поднялся с земли, отряхнулся и подошел к ней. Они смотрели друг на друга, пока у Симы не заслезились от ветра глаза.
– Ну, значит, я тоже дурак, – пробормотал он, зачем-то стаскивая кепку с ее головы.
Обратно они возвращались не разговаривая. Оля посматривала на Симу, который теперь шел в одной футболке, мелкий дождь оставлял на ткани косые отметины. С рассветом холодало. Оля куталась в Симину куртку. Куртка доставала ей почти до колен. Оля подумала, что впервые не хочет покидать Заводской район. Как только они вернутся в цирк, Сима снова будет с Коломбиной. Увек, холмы, их трехчасовая прогулка и возвращение в город перестанут быть важными, ведь все, что подстраивал Огарев-старший, было таким же театром, какой он создавал на манеже, все оказывалось ненастоящим, неприменимым в реальной жизни.
Оля помнила об этом, когда отдавала Симе его куртку и закрывала за ним дверь квартиры. Помнила, когда прислушивалась к его шагам: как он спускается по лестнице и как хлопает железная дверь подъезда. Помнила, когда пробиралась мимо спящих родителей за шкаф и прятала продрогшие (все в гусиной коже) коленки под одеяло. Только она совершенно забыла об этом наутро. У служебного входа в цирк она столкнулась с Симой и Коломбиной, которые вместе заходили внутрь. Она пробежала между ними, разбив их сцепленные руки, и, обернувшись, увидела, как беззвучно посмеивается над ее поступком Сима и как Коломбина трет одной рукой ушибленные костяшки пальцев другой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.