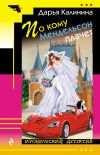Текст книги "Цирк"

Автор книги: Анастасия Носова
Жанр: Городское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Глава 10
Коломбина
Сентябрь 1994 года
Саратов, Цирк имени братьев Никитиных
Оля провожала Симу до дома в те дни, когда он возвращался с репетиции без Огарева. Передвигаясь короткими перебежками, она замирала на углу Чапаева и Кирова, чтобы понаблюдать, как его широкоплечая фигура удаляется прочь, а потом вовсе пропадает в арке. Оля больше всего на свете хотела столкнуться с ним в этой самой арке, и чтобы обязательно, как в кино, рассыпались на асфальт ее вещи, укатились подальше мячи для жонглирования (так они хорошо для этого подходили!), и чтобы Сима помогал ей собирать их так долго, как это только возможно. Но Оле всегда было с ним не по пути. Сима уходил, а она поворачивалась спиной к «Детскому миру», снова переходила на другую сторону к Крытому рынку и шла на остановку, чтобы дождаться единственного трамвая, который шел в ее район. Зимой ее встречал неприветливый неосвещенный двор, летом – сумерки, в которых обшарпанные дома на Азина выглядели еще беднее и обездоленнее. На лавочке у подъезда с недавних пор валялся алкаш дядя Витя, которого тоже погнали с папиного завода под сокращение. «С тех пор Витек и не просыхает», – вздыхал отец, беседуя с матерью на кухне вечерами. Оля не разделяла его сочувствия. Она, заходя в подъезд, молилась, чтобы дядя Витя не проснулся, пока она не окажется в безопасности квартиры.
В один из таких дней Оля не успела на трамвай. Стоило Симе в очередной раз свернуть в арку, а Оле шагнуть в сторону остановки, как на ее пути возникла девушка в пальто нараспашку. Под пальто виднелись яркие ромбики, помпоны и золотые пуговицы, и Оля, даже не успев посмотреть девушке в лицо, поняла, что перед ней дочка Сан Саныча.
– В костюмах запрещено на улицу… – пробормотала Оля.
Девушка замахнулась. Воздух вокруг них наполнился свистом, Оля не успела перехватить руку соперницы, увернуться или прикрыть лицо. Она согнулась пополам, прижимая руку к щеке, а когда отняла от лица ладонь, увидела на ней кровь. Зажмуриваясь от боли, она все-таки смогла взглянуть на Коломбину. Та уже уходила в сторону цирка, в ее маленьком кулачке что-то поблескивало, и Оля сквозь звенящую замыленную картинку (зрение как будто бы резко упало после удара и тут же вернулось в норму) разглядела в руке Коломбины карабин, надетый на манер кастета.
– Хорошо, что не лбом или виском!
Огарев доставал из разоренной аптечки пластыри и бинты. Они сидели прямо на полу, и Огарев обрабатывал Олину щеку йодом. Оля уже успела рассказать историю, как она «шла, споткнулась, полетела носом вперед и ударилась о бордюр».
Огарев не поверил, но виду не подал и теперь бормотал и суетился: Оля слышала обрывки фраз про вероятность сотрясения мозга и про то, что Оле нужно домой. Домой она не поехала. Позвонила родителям и соврала, что репетиция продлится до утра. Мама лепетала что-то про школу, но Оля нажала на рычаг, не дослушав.
– Дядя Паша. – Оля стояла спиной к наставнику: все еще держа в одной руке трубку аппарата, другой она ощупывала тонкие шершавые полоски пластыря, которые стягивали кожу на щеке. – Вы обещали, что научите меня всему. Расскажите про темноту. Научите. Мне же не могло все это присниться?
– Не могло. – Огарев закряхтел, поднимаясь с пола. – Этому нельзя… как бы сказать лучше… научить – в полном смысле этого слова.
– Но вас же как-то научили. – Оля повернула голову вправо, Огарев уже стоял рядом.
– Пойдем, я тебе кое-что покажу. – И наставник исчез в коридоре.
Глава 11
Хранитель цирка
1972 год
Саратов, Цирк имени братьев Никитиных
После ухода матери отец изменился. Паша заметил это почти сразу: в цирк они теперь приезжали по отдельности – отец стал опаздывать на репетиции. Возвращались домой тоже в разное время. Паша спешил на трамвай: ему нужно было выспаться перед утренней репетицией, особенно в те дни, когда он выходил работать в вечернем представлении. Отец Паши как будто забывал о работе и вспоминал о ней только в тот момент, когда его выталкивали в манеж из-за кулис.
С тех пор как Паше стукнуло шестнадцать, отец и сын обитали в разных гримерках, и все-таки Паша порой заглядывал к отцу – спросить совета насчет жонглирования, обсудить, как прошла работа, или просто выпить чаю в перерыве между репетициями. Со времени ухода Пашиной матери не говорили только на две темы: о ней и о темноте.
И если о матери Паша не захотел бы разговаривать и сам, то темнота тревожила его: не слушалась, иногда даже не думала появляться, когда он пытался отрепетировать тот или иной трюк. Она ускользала сквозь пальцы, покидала его, оставляла одного в манеже, и Паше в такие минуты хотелось кричать так, чтобы голуби, еще при постройке цирка облюбовавшие купол, разлетались от его крика.
Паша постучался в гримерку к отцу и замер в ожидании ответа, но за дверью было тихо. Такая тишина невозможна вблизи живого человека – дыхание, шорох рукава от неосторожного движения, шелест выдвижных ящиков – хоть что-то должно было выдать отца, но, как Паша ни прислушивался, он не мог уловить ни звука. Он еще раз постучал в дверь, потом заколотил в нее кулаками, дергал ручку, со злости пнул дверь ногой. Побежал искать охранника, чтобы тот принес ключи от гримерки, но оказалось, что его на посту нет: предыдущая смена закончилась, а новая не началась. Тогда Паша бросился искать отца в тех уголках цирка, где тот мог пропадать часами. В помещениях с животными Паша ожидаемо нашел только дрессировщиков, два самых крупных тигра спали в своих вольерах, но отца поблизости не было. Их с отцом любимая игра «Спрячь тигра» появилась с тех пор, как Паша наигрался с темнотой и дворовыми кошками. Папа предложил попробовать на кошках покрупнее, и они прятали тигров еще целый месяц, срывая репетиции разгневанным дрессировщикам и их любимцам. Один дрессировщик даже ходил жаловаться на Огаревых директору, но ничего из этого не вышло, потому что тигр неожиданно возник прямо в директорском кабинете. Паша так и не понял, боялись его отца или просто любили за такие проделки, но точно знал: за «Спрячь тигра» им ничего не сделают. После жалобы дрессировщика директор цирка пришел к Огареву-старшему и умолял повторить трюк с тигром на манеже. Отец отвел директора в сторону и что-то долго шептал ему в ухо. Когда отец договорил, Паше показалось, что директор расстроен.
– Папа, ты отказался? – спросил Паша.
– Понимаешь, одно дело – разноцветные платочки прятать. И совсем другое – целого тигра, еще и в работе. Ты вот уверен, что он в зрительном зале не появится?
Паша мотнул головой.
– Вот и я не уверен.
После этого разговора в «Спрячь тигра» больше не играли, но папа Паши часто ходил к большим кошкам, наблюдал за ними и даже иногда кормил с разрешения ветеринара и дрессировщиков.
Не найдя отца вблизи вольеров, Паша заглянул в комнаты техников, с которыми отец в последнее время все чаще выпивал. В одной из комнат Паша нашел только бессменного Сан Саныча. Перед ним стояла вереница сосудов, там были не только обычные бутылки, но и стеклянные колбочки самых разных форм.
– Не трогай, это декантер, – предупредил Сан Саныч Пашу.
Завороженный стеклянным строем Паша, сам того не замечая, уже тянул руку к самой толстой из колб.
– Вот так и прививается алкоголизм… – заключил Сан Саныч. – Чего тебе?
– Папа пропал, – коротко объяснил Паша.
Саныч вздохнул и встал из-за стола. Не говоря ни слова, он поковырялся во внутреннем кармане своего причудливого жилета с золотыми тесемками и извлек из-за пазухи большую связку ключей на огромном кольце. Нашел самый маленький ключ и принялся ковырять им в замочной скважине двери, которая все время находилась за его спиной. Паша только сейчас заметил эту дверь, она была похожа на дверь обычной квартиры, каких были сотни в их доме. Из ободранной бордовой обивки торчали нитки и поролон. Довершало оформление двери число «13» – номер был приколочен плохо, и цифра «три» завалилась набок. Поэтому число выглядело так, словно единица была пловцом, который готовится к прыжку, а тройка – волной.
– Чего уставился? Пошли!
Сан Саныч резко дернул дверь на себя, на него посыпалась побелка и пыль, дверь задрожала от подобной грубости, но Сан Саныч не обратил на это никакого внимания. Он нырнул в дверной проем с грацией циркового морского котика, и Паша, который не хотел оставаться один в лабиринте стеклянных сосудов и отражений, бросился за ним.
Ход был, как и все ходы в книжках, которые читал Паша, извилистым и узким. Дверной проем оказался обманкой, сам ход был больше похож на нору, и Паша удивлялся, как Сан Саныч вообще в ней умещается. Сан Саныч же почти превратился в крота, маленькими ручками он, горбясь, упирался в своды норы и семенил вперед.
Паша решил, что они выберутся наружу посреди одной из саратовских улиц, так сильно ход напоминал подземный, но его подозрения не оправдались. Они вышли к лестнице, над которой был люк и виднелась печать «1931».
– Год постройки, – пояснил Сан Саныч, забрался наверх и нажал на печать.
Люк поехал в сторону. Паша увидел клочок ночного неба и замер. Потянуло свежим воздухом. Саныч уже выбрался наружу, а Паша все принюхивался, пытаясь понять, далеко ли они от Волги. Он полез следом, высунул голову из люка и замер. Перед ним простиралась металлическая чешуя циркового купола.
– Мы же под землей были! – Паша пытался перекричать порывы ветра, который нес с собой дух и запах большой реки.
– Забудь все глупые книжки, которые ты читал, – проворчал Саныч, закуривая сигарету и выкидывая спичку в ночное небо. – Ходы под землей роют только цари и дураки. Ход проложен в темноте. Найти его можешь ты, твой отец и твой будущий преемник. И еще я, потому что без меня темноты бы не было, и цирка бы этого не было, черт его дери! Вылезай, говорят тебе, а то закроется!
Паша выбрался из люка, поскальзываясь на чешуе купола, и уставился на Сан Саныча. Люк тут же поехал обратно, сверху это выглядело так, как будто одна чешуйка просто заняла свое законное место.
– И зачем мы сюда залезли? – Паша судорожно цеплялся руками за выступающие чешуйки, опасаясь, как бы купол, напоминающий большую рыбу, не сбросил его со своей спины.
– А ты оглянись.
Паша беспомощно покрутил головой, пытаясь не разжать пальцы и не отпустить край одной из чешуек. На другой стороне купола сидел, скрестив ноги по-турецки, его отец. Точнее не сидел, а витал в воздухе, а вокруг него клубился черный дым, дым был чернее неба, будто на купол цирка переехал угольный завод и насмолил всеми своими трубами разом. Паша не смог долго смотреть на дым, у него заболели глаза.
– Если будешь держаться так крепко, то долго не протянешь. – Голос принадлежал отцу.
Паша еще сильнее вцепился в чешуйку пальцами, кожа на них покрылась красно-белыми пятнами, руки начинали затекать. Паша обернулся на Сан Саныча, но никакого Сан Саныча на крыше не было. Ветер с Волги становился холоднее, в городе зажглись огни, и Паша щурился, пытаясь рассмотреть их получше. Глаза слезились, и огни расплывались, словно множество маленьких свечей горело неровным и беспокойным огнем.
– А если не буду держаться, то упаду! – Паше казалось, что эта истина непреложна и очевидна.
– Не упадешь, если умеешь владеть темнотой. – Отец вздохнул наигранно и устало, как если бы эту фразу он повторял каждому встречному не один десяток раз.
– Тигр! – выкрикнул Паша из последних сил.
– Что тигр? – Голос отца оставался спокойным, и Пашу это бесило.
– Ты сам говорил, что тигр может внезапно появиться в зрительном зале!
– Может, – сказал отец. – А может и не появиться.
Паша отпустил руки. Он не понял, скользит ли он по чешуе большой рыбы купола или это большая рыба скользит по его брюкам и рубашке, летит ли он вниз навстречу плитам на площади Кирова или вверх – в пропахшее Волгой небо, которое накрывало собой и Саратов, и реку. Но он абсолютно точно летел, и дым сгущался вокруг него. Паша закрыл глаза и снова открыл их. Ничего не произошло. Он стоял в черном дыму на самом краю купола, рядом отец курил сигарету – такую же, как у Сан Саныча, толстую и похожую на бумажный сверток с неровными краями.
– Видишь, – сказал отец. – Тигр не всегда появляется в зрительном зале. Иногда он все-таки появляется там, где должен.
– Почему ты отказался ввести номер с исчезновением тигра в программу?
– Потому что не умею подчиняться. И тебе не советую. – И отец выкинул окурок в ночь так же, как выкинул спичку Сан Саныч.
Сигарета долго летела вниз навстречу своим сородичам, расплывчатым городским огням, пока совсем не истлела.
Глава 12
Снова купол
Сентябрь 1994 года
Саратов, Цирк имени братьев Никитиных
– То есть Сан Саныч был всегда? – прошептала Оля.
Они шли по коридорам цирка, и Огарев светил на стены большим строительным фонарем. Под ним, как под светом прожектора, Оле открывался другой мир. Изнанка цирка проступала с фотографий на стенах гораздо отчетливее, чем за кулисами. На каждой фотографии были изображены артисты разных поколений, на полях указаны год, месяц и день, когда фотография была сделана. Завершалась выставка черно-белыми кадрами. Все снимки были разными, люди и костюмы на них менялись, неизменным оставались только манеж, форганг на фоне и низкий толстячок, который всегда стоял справа и чуть в стороне от остальной труппы. Сан Саныч, казалось, не снимал смешную жилетку с золотыми лампасами и белую рубашку никогда.
– Поэтому он и ветеринар и техник? – спросила Оля.
Огарев засмеялся:
– Если он захочет, то в любом номере программы отработает не хуже того, кто этот номер придумал.
– А почему не работает тогда?
– Не хочет. – Огарев пожал плечами.
– Это все, что вы собирались мне показать?
Огарев не ответил, и они продолжили путь. Коридор упирался в единственную дверь. Огарев толкнул ее, и за ней показалась комната – обыкновенная комната, какие бывают в старых советских квартирах. Ковер на стене, две односпальные кровати, стол, стул, настольная лампа, походная электрическая плитка, чайник и самогонный аппарат в углу. И все-таки разница с обычной квартирой чувствовалась. Тут не было ни картин, ни фотографий, ни книг, ни других предметов интерьера, которыми любой человек пытается украсить или как-то оттенить свое жилище. Зато все свободные полки, стол и даже прикроватные тумбочки были заставлены сосудами: бутылки, пробирки, флаконы, с узкими горлышками и с широкими, превращали комнату в за́мок из стекла, в королевство кривых зеркал, и Оля шла медленно, смотрелась в каждый сосуд, заставляла себя ступать осторожнее, чтобы ничего не задеть и не разбить.
– Это Сан Саныча. – Огарев заметил интерес Оли к сосудам. – В общем-то просто коллекция, хотя он утверждает, что пытается вывести джинна.
– Вывести джинна? Синего, как в «Аладдине»? – Оле показалось, что она неверно расслышала.
– Да, типа того, – неуверенно проговорил Огарев, осматривая замок двери с бордовой обивкой и цифрой 13.
В некоторых местах обивка была прожжена, потрескалась, из нее торчали нитки и вываливался поролон. Цифра 13 покосилась. Тройка вовсе лежала на спине, а единица была наклонена по диагонали – дверь будто бы долго и упорно били ногами за то, что она не открывалась.
– Я не видел мультик, – признался Огарев, выдержав паузу. – Про «Аладдина» не смотрел. В моем детстве не было.
– В моем тоже. Артёмка смотрит.
Оля перевела взгляд на ковер на стене. Теперь он стал копией ковра из мультфильма. Не хватало только золотых кисточек по углам.
– Что это за дверь?
Огарев поднял бровь так, что морщины на его лбу затанцевали в свете строительного фонаря.
– А ты видишь дверь?
– А не должна?
Огарев продолжил возиться с замком. Он щелкнул, и Огарев дернул дверь на себя. Дверь задрожала, как струна, но не поддалась, и Огарев дернул сильнее. Дверь резко распахнулась. Единица съехала набок еще немного. На темную напомаженную шевелюру Огарева посыпалась побелка, отчего он сделался совсем седым. За дверью был проложен ход, по которому Оля и Огарев долго ползли, пока впереди не показалась лестница, а над ней – люк, какие обычно можно встретить на улице, если смотреть под ноги, а не куда-то еще.
– И давно ты видишь двери, которых нет? – спросил Огарев, когда они остановились у люка.
– Мы ведь в нее вошли, – с удивлением ответила Оля, стараясь, чтобы ответ звучал как можно убедительнее.
«Он точно больной». – Оля начинала сомневаться в душевном равновесии наставника, и осознавать это, находясь с ним в одном замкнутом пространстве, ей не нравилось.
– Ну и где мы сейчас стоим? – спросил Огарев.
– Я откуда знаю? Какой-то подземный ход.
Огарев хмыкнул:
– Я тоже сначала думал, что подземный. А нормальные люди вообще видят лестницу. И люка никакого не видят. Только балки и металлические опоры.
На слове «нормальные» Оля вздрогнула. Огарев заметил это, но ничего не сказал, взобрался под потолок и принялся возиться с люком.
Он несколько раз пытался нажать и повернуть печать с надписью «1931», но печать заедала и возвращалась обратно.
– Пока реконструировали, все тут перелопатили, – ворчал Огарев. – Хотя я с Сан Санычем после реконструкции тогда приходил…
Печать поддалась, и люк с жутким скрипом и лязгом поехал куда-то вправо. Оля зажала уши, а когда отняла руки, то услышала вой ветра снаружи. Огарева уже не было рядом. Оля вздрогнула, схватилась руками за лестницу, ведущую наверх, и стала подниматься. Сердце билось как барабаны перед «гвоздем программы» – дробью, три раза за одну ступеньку. Вдруг Огарева и не было? Вдруг она пришла сюда одна? Оля вынырнула из люка, и ее ударило порывом ветра. Под ногами панцирем большой черепахи расстилался купол цирка. Оля опасливо оглянулась, кроссовки заскользили по металлической поверхности, и она присела на четвереньки, чтобы не покатиться вниз. У самого края купола маячили две фигуры, их окутывал черный туман. Оля прищурилась: коренастая фигура Сан Саныча и длинная – Павла Огарева. Больше на крыше никого не было.
– Эй! – крикнула она, надеясь, что ветер и туман не заглушат ее голос. – Вы мне это хотели показать?
Никто не ответил. Две фигуры продолжали стоять на краю купола, кажется, они о чем-то спорили. Оля снова засомневалась, что пришла на вершину купола с Огаревым. Теперь подземный ход и комната с сосудами и ковром Аладдина казались ей полной чушью. Она тряхнула головой и только сейчас заметила у себя на шее зеленый клетчатый шарф. Мамин шарф, который она стащила в свой первый поход в цирк. Оля точно помнила, что шарф она не брала. «Очередной дурацкий сон», – решила она и попробовала ущипнуть себя за щеку. Плоская, стертая подошва заношенных старых кроссовок не вынесла такого маневра, и ноги Оли поехали вперед против ее воли. Оля завалилась на бок и заскользила вниз.
– Дядя Паша! – крикнула она, но черный туман плотной пеленой защищал Огарева от ее голоса.
Оля не визжала и не вопила. Она позвала дядю Пашу еще раз, а потом, слабо пискнув, полетела спиной навстречу плитам на городской площади. Оля летела и слышала все вокруг – как спорили Сан Саныч и Огарев о том, нужно ли было ее приводить на купол, как журчал фонтан, как жег сцепление очередной шумахер на «четырке», проезжая по улице Чапаева, как город – большой черный ящер со светлячками на спине – раскинулся вдоль Волги меж холмов, свернулся клубком и глубоко вздохнул, пытаясь скинуть с себя светляков и заснуть спокойно хотя бы раз; она слышала хлопанье шарфа на ветру и собственное дыхание, которое трепыхнулось в ней от удара и тут же оборвалось. Светляки на спине у ящера наконец потухли. Наступила темнота.
Глава 13
Свет
Сентябрь 1994 года
Саратов, Городская клиническая больница № 2
– А я говорил тебе… – Оля слышала сквозь сон голос, звенящий и слегка писклявый. Голос не Огарева и не Симы. – Я говорил тебе, что не она, что рано, что ты ошибся! – Голос нарастал, звенел и дрожал, как дрожат бокалы и стекло в серванте, если сильно хлопнуть дверцей.
– Говорил. – Второй голос, с хрипотцой, звучал тихо, почти шептал.
«Огарев», – мелькнула мысль и укатилась вслед за остальными беглыми мыслями на задворки неокрепшего сознания.
Оля открыла глаза. Она лежала на спине. Все вокруг сочилось белым больничным светом, даже лампа над ней светила не желтым, теплым и привычным, а обжигающе-белоснежным. Оля зажмурилась, вздохнула и снова решилась заглянуть в этот белый и чужой мир. Она с трудом скосила глаза вбок – шея у нее одеревенела и отказывалась двигаться, Оля попыталась все-таки повернуть голову, чтобы рассмотреть говорившего, но тут же почувствовала, как боль исподтишка ударила ее в позвонок, который кто-то в ее сне несколько раз назвал «атлантом», потом перетекла в затылок и дотянулась ниже – до лопаток. Оля застонала и так и осталась лежать, повернув голову направо. Скулой и щекой Оля уперлась во что-то гладкое и твердое. «Ошейник какой-то», – подумала она. Фигура Сан Саныча расплывалась, двоилась и никак не хотела обретать четкий контур, но Оля все-таки определила, что писклявый голос принадлежал ему. Сан Саныч продолжал расплываться, постепенно сливаясь с фоном, его пожирал белый свет, и вскоре Сан Саныч исчез. Теперь Оля видела все предметы четко, но в палате ни Сан Саныча, ни Огарева уже не было. Они испарились, как испаряется мираж в пустыне, и Оля усмехнулась такой точной мысли – больница и была похожа на пустыню, но вместо песка здесь всем заправлял вездесущий белый свет. Оля полежала еще немного в тишине, а потом решила, что с нее хватит. Она зажмурилась, чтобы свет перестал жечь ей глаза, и закричала.
– Эй! – Ее голос летел по тихой больнице и сбивал с ног медсестер и врачей. – Эй!
Оля кричала только «эй», другие звуки было чудовищно тяжело собирать в слова. Звук «э» казалася ей таким естественным и простымй, а «й» – слишком коротким, капризным и сложным. На крик долго никто не приходил – Оля прислушивалась, как тикают на стене часы, она насчитала девятьсот секунд, а потом дверь распахнулась.
– Олечка!
Оля не стала поворачивать голову в сторону двери, слишком тяжело далось ей предыдущее движение.
– Доченька! – Следом за женским голосом в палате зашуршали шаги.
Оля слышала, как хлопают от быстрого маминого шага по́лы больничного халата – так же хлопал на ветру ее шарф, пока она летела вниз, вниз, вниз.
Олина мама обежала кровать, сбросила на ходу сумки и пакеты, которыми была нагружена, и в следующую секунду Оля увидела, что мама стоит перед ней на коленях, что лицо у нее красное и отекшее и за слезами – маленькими растекающимися по нижнему веку мутными каплями, которые дрожат в ее глазах, – даже нельзя разглядеть цвета радужки. Оля смотрела на маму и видела, как дрожит веко, как слипаются ресницы, как растекается тушь, она слышала рыдания и тянула руки маме навстречу.
«Почему я теперь слышу лучше, чем вижу? Почему один глаз у меня видит лучше другого? Почему картинка сначала расплывается и только потом становится четкой, но сначала нужно прищуриться и всмотреться в предмет?» – этих вопросов Оля не задала, она только всхлипывала вслед за всхлипами мамы и с каждым вздохом, с каждым истеричным подергиванием плеч чувствовала, что у нее где-то под затылком есть позвонок с гордым именем «атлант» и именно он сломан или надломлен так, что ему больно, а значит, больно и самой Оле.
Оля обнимала маму, которая ледяной глыбой в белом халате нависала над ней, и думала об атланте, зеленом шарфе и об Огареве.
– Что он с тобой сделал, этот клоун? – прошептала мама, и Оля, напрягая все грудные и спинные мышцы, стиснув зубы так, что пломба в верхней шестерке хрустнула, сжав кулаки до отпечатков ногтей на ладонях, чтобы не закричать от боли, оттолкнула этими кулаками мать.
Мама не удержалась и отшатнулась назад, оступилась и осела на стул, стоящий рядом с кроватью.
– Доченька, – шептала мать невразумительно, – ты же больше никогда туда не пойдешь…
Оля, все еще сжимая кулаки и зубы, покачала головой. Атлант заныл, и Оля сильнее вдавила ногти в «линию жизни», приказывая атланту помолчать.
– Мама, – Оля все-таки сложила ускользающие буквы в слова, и слова превратились в звуки удивительно легко – легче, чем ей далось громкое «эй!», – ты же знаешь, что пойду.
Мама осталась сидеть на стуле у кровати, ее халат все так же смешно обтягивал пальто и собирался гармошкой под мышками, а Оля вся погрузилась в свет. Белизна поглотила ее, она бежала по белым коридорам, на пути ей встречались медсестры в белом, они оборачивались ей вслед, но не пытались остановить. Оля добежала до поворота, за которым коридор обрывался и начиналась большая просторная белая комната. В ней стояла клетка с белым амурским тигром. Тигр спал, Оля подкралась к клетке и стала тихо стучать по прутьям пальцами. Тигр не просыпался. Оля вернулась назад в белый коридор. Каждой проходящей мимо медсестре она задавала один и тот же вопрос:
– А вы знаете, что в больнице – тигр?
Медсестры качали головами и шли дальше, открывали двери в нужную им палату или кабинет и исчезали. Лица медсестер не повторялись, и Оля молча приняла это негласное правило. Каждый раз она встречала разных людей в одинаковой одежде, поэтому с каждым вежливо здоровалась и повторяла свой вопрос.
Когда вопросов и медсестер стало так много, что Оля уже забыла, как выглядела первая медсестра, она привалилась к белой стене, осела на пол и заснула прямо на полу, а проснулась в своей палате. В палате уже не было ни мамы, ни белого яркого света. Зеленые больничные стены казались рвотно-болотными в тусклом свете желтых ламп. Привычным был только «ошейник», который Оля ощущала подбородком. Вокруг кровати суетилась медсестра: подтыкала одеяло и поправляла подушки, а когда увидела, что Оля открыла глаза, воскликнула: «Батюшки!» – и выбежала из палаты.
– Смотри-ка, Тимофеевна, – услышала Оля хриплый кряхтящий голос. – Проснулась наша болезная.
– Я тебе говорила, очнется сегодня. Жаль девку, врач-то о ней говорил… – раздался второй голос, не менее противный.
– Чевой врач говорил, Тимофеевна? Громче давай, не слышу!
Но та, которую назвали Тимофеевной, наоборот, перешла на шепот. Надеялась, что Оля не расслышит.
– Говорил, суицидница. Шейный позвонок сломан у нее, но жить будет. Легко отделалась.
Оля не выдержала и вмешалась. Ей снова, как и в палате с белым светом, пришлось вспоминать, как звук проходит через гортань и попадает на язык, как слово собирается из этого звука и становится слышным другим и ей самой, как слова складываются в предложения и обретают свой вес.
– А ходить? – Оля выдержала паузу. – Ну? Что замолкли? Ходить я буду? Что он еще говорил?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.