Текст книги "Лишний Пушкин"
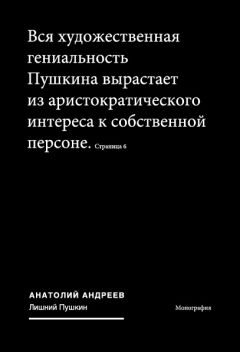
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
9. «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина: Маленькие трагедии
Трагедия мужчины в том, что он не в силах вытравить из себя женщину.
Трагедия женщины в том, что она неспособна испытывать трагедию.
1
Хотелось бы предложить трактовку знаменитого пушкинского цикла, которая основывается на неких очевидных, можно сказать, бесспорных, постулатах, ведущих к глубоким, далеко не очевидным и, бесспорно, в высшей степени дискуссионным выводам. Итак, «Маленькие трагедии».
Во-первых, перед нами пусть маленькие, но трагедии – жанр в литературе традиционный, фундаментальный, ко времени написания Пушкиным своих «Маленьких трагедий» имеющий в своем активе мало сказать совершенные – величайшие, эталонные образцы, созданные разными авторами в разные эпохи. Эсхил, Софокл, Еврипид, Шекспир, Корнель, Расин – этого вполне достаточно, чтобы отнестись к трагедии, к трагическому герою серьезно. Это вневременной жанр, специализирующийся на вечных коллизиях, терзающих человека, – коллизиях, генетически восходящих к страстям человека: к любви, ревности, жадности, зависти, жажде познания, страху. Избрать трагедию как духовно-литературный формат (в основе которого трагический пафос) – значило так или иначе вступить в диалог с традицией трактовки человека, с традицией интерпретации гуманизма.
Во-вторых, автор счел необходимым указать: несмотря на то, что это самые настоящие трагедии, они – маленькие. Легко соблазниться на то очевидное обстоятельство, что речь идет о размере произведений – действительно небольших, маленьких, и отвлечься от другого, не менее очевидного обстоятельства: маленькие можно понять и как незначительные, мелкие, никак не возвеличивающие человека трагические переживания. Как своего рода трагическую возню. С названием получилась некоторая двусмысленность, однако ничто не указывает на то, что Пушкин оконфузился; напротив, двусмысленность становится способом актуализации скрытого, полемического смысла: великий жанр предназначен для возвеличивания маленьких людей, ничтожных людей, которых впоследствии другой классик удачно окрестит «мертвыми душами». Великие страсти – удел маленьких людей: таков скрытый культурный посыл маленьких трагедий (в чем, думается, и состоит их истинное величие).
Чтобы обосновать этот, далеко не очевидный тезис, нам понадобятся некоторые культурологические выкладки.
Прежде всего необходимо прояснить, что представляет собой трагизм, воплощённый в трагедиях?
Это один из видов пафоса, который невозможно описать сам по себе, поскольку он является моментом спектра или, более научно, элементом духовно-эстетической системы. (Под пафосом мы будем иметь в виду сгусток, ядро определенного миросозерцания. В таком случае классификация пафосов становится ничем иным как классификацией исторически сложившихся мировоззренческих программ, умонастроений, систем ценностей.) Разобраться в сути трагизма – значит прояснить его отношения, с одной стороны, с героикой и сатирой, а с другой – отношения названной социоцентрической триады с иной, персоноцентрической, – идиллией, драматизмом, юмором.
Прежде всего: как соотносятся трагизм и героика (в определенном смысле соотношение этих пафосов станет решающей характеристикой трагизма)?
Они связаны прямо и непосредственно. Герой – это индивид, некритически (бессознательно) придерживающийся социоцентрической ориентация. Для героя нет ничего выше служения Долгу – как бы его ни понимали. Изменить этому предназначению – изменить себе.
Иногда героя считают образцовой, богатой, содержательной личностью. Это неверно по существу. Герой представляет собой почетную, приветствуемую обществом обезличенность, это культ отношений, в которых, так сказать, нет ничего личного. Герой обретает исключительность только в служении социально значимым идеалам; без одобрения социума герой превращается в ноль. Для героя хорошо прожить – значит, раствориться в социуме без остатка, обезличиться. Отсутствие героя или даже его гибель – ровным счетом ничего не меняют в мире, где главным является не герой, но то, что делает героя. Уважающий себя социум не замечает потери бойца. Его место займут легионы других. Если личность принципиально незаменима, то герой вполне заменим, принципиально заменим. Он незаменим только в том смысле, что он может быть Очень Большим Героем – в количественном, но не в качественном отношении.
Героика – это оптимальная, эстетически и духовно безупречная форма цельного, непротиворечивого (а значит, и неполноценного) типа личности. Бескомпромиссные герои и святые, по-своему привлекательные своим не ведающим сомнения фанатизмом, идеально соответствуют всем сверхзадачам простой идеологии. Поэтому лучший идеолог – это герой. Героика – гармония социоцентрического типа.
По принципу «крайности сходятся» (более научно – противоположности переходят друг в друга) социоцентрическая героика легко трансформируется в нечто антигероическое, то есть отчасти асоциальное – в комизм сатиры; сатира в свою очередь легко превращается в индивидоцентризм, эгоцентрическую стратегию разрушения и социума, и личности. С точки зрения пафоса, идеология индивидоцентризма представляет собой тотальную иронию, дисгармонию, воплощенную в различных модусах – от трагической иронии, окрашенной в заметные социальные тона, до иронии комической, абсолютно индивидоцентрической. Эта гносеологическая возможность стала, в частности, философско-эстетической нишей постмодернизма.
Что касается трагизма, то это уже «продукт распада» героики, оборотная ее сторона. Трагический тип сознания возникает у того же героя – но героя «прозревшего», попавшего в ситуацию выбора. Герой вдруг увидел другую «правду», личностную. И он готов так же самозабвенно служить новой идеологии, однако ведь и старая не перестала быть для него истинной. Противоречия – налицо, но справиться с ними герой не в состоянии: нет ни духовных предпосылок, ни навыков духовно-аналитической работы. Есть только один «духовный навык»: служить не рассуждая. Сама идея измены тому, что в глазах героя является истинным (значит – святым), непереносима для него. Сознание героя раскалывается. Его губит, так сказать, чрезмерная сложность. По существу, трагический герой становится злейшим врагом самому себе.
Из подобного трагического тупика нет выхода. В принципе, благополучно трагизм может разрешиться либо в гармонию героики (для этого надо сделать шаг назад, то есть стать глупее, чем ты есть), либо в дисгармонию иронии – или же в духовное состояние совершенно нового типа, ориентированное не на социум и не на индивид, а на личность, мировоззренческую основу которой составляют гуманистические, персоноцентрические идеалы (для этого необходим шаг вперёд, то есть надо радикально поумнеть). Личность такого типа – продукт длительной исторической эволюции, и для героев классических трагедий возможность стать «новым» человеком следует расценивать как сугубо теоретическую.
Вот и получается: стать героем – значит, в чем-то поступиться принципами, отказаться от части себя. Трагический персонаж, в отличие от героического, вкусил от древа познания добра и зла. Он уже не может стать «просто» героем без ощутимого нравственного ущерба, без «опрощения» (классический пример такого опрощения – духовная эволюция Родиона Раскольникова). Для превращения в личность – нет духовно-философских резервов, да и социальных предпосылок тоже нет. Трагический герой (собственно герой, на беду обнаруживший в себе потенциал индивида) обычно гибнет: как правило, для него это единственный способ сохранить человеческое достоинство, единственный способ духовно выжить.
Таким образом, литература, если говорить о главной закономерности, развивается в трех духовно-эстетических парадигмах (связывают которые два полюса): социо-, индивидо– и персоноцентрической – в зависимости от того, что становится предметом изображения: индивид, homo economicus (субъект натуры), или личность, homo sapiens (субъект культуры). Указанная парадигма проецируется на пафосную палитру – соответственно, социоцентрическую или персоноцентрическую.
Триумф бессознательного отношения, которое проявляется либо как доминирующий социоцентризм (с либеральными вкраплениями индивидоцентризма), либо как индивидоцентризм, отягощенный идеалами социоцентризма, на протяжении тысячелетий являлся питательной средой для развития литературы. Это «два полюса одного полюса» (полюса натуры, но не культуры), между которыми обречена «зависнуть» литература. Культурное начало, связанное с персоноцентризмом, здесь присутствует как «величина» факультативная, совершенно не обязательная – не осознаваемая как оппозиция натуре. В рамках до– или внекультурного поля, в рамках бессознательного приспособления к художественно-бессознательному освоению мира, все относительно предсказуемо, поэтому эстетически чуткие, но методологически не искушенные, литературоведы поспешили объявить смерть автора, кризис романа и конец литературной истории.
Гносеологическую формулу героико-трагической литературы (с её жёсткой ориентацией на социоцентрический тип гармонии, в результате чего сложилась формула: классическая литература – это литература минус личность) можно определить как кредо индивида – миропонимание в рамках мироощущения (сознание выполняет психическую функцию, а кажется, что оно подчиняет себе психику, контролирует ее). Вектор культуры, напомним, прямо противоположен: от мироощущения – к миропониманию (от чувства к мысли, от психики к сознанию). Гносеологическую формулу культуры (а также «культурной», разумной, ориентированной на идеалы гуманистической гармонии литературы) можно определить как кредо личности: мироощущение в рамках миропонимания. Классической здесь является иная формула: литература плюс личность.
Таким образом, трагедия и стагнация в литературе не просто пересекаются; сегодня трагизм в его классических формах, по существу, становится формой культурной деградации – тогда, когда он, становясь высшей ценностной (духовно-эстетической) точкой отсчёта в произведении, противостоит персоноцентризму как начало более высокое – более низкому.
Трагический герой – герой по определению социоцентрический (иначе сказать, противоположный персоноцентрическому), который и стал точкой отсчета в созданном Пушкиным космосе. И каким бы великим ни был трагический герой, он не в состоянии изменить маленький человеческий формат: изживший себя двуединый вектор социо– и индивидоцентризма.
2
А теперь самое время обратиться к эпиграфу-афоризму. По существу, он представляет собой гносеологический ключ к трагизму, самому феномену трагедии, и «Маленьким трагедиям» в том числе.
Начнём со второй части афоризма: трагедия женщины в том, что она неспособна испытывать трагедию.
Женщина способна испытывать боль, отчаяние, чёрный гнев, ненависть – весь тот комплекс чувств, который сопровождает трагедию, феномен, в первую очередь, мировоззрения, и только во вторую – мироощущения (если допустить, что трагизм определяет духовный облик персонажа). И в качестве феномена культурного, мировоззренческого, трагедия, увы, является привилегией мужчины.
Разумеется, должны последовать возражения: а как же Катерина Кабанова? Лариса Огудалова? Джульетта Капулетти? Леди Макбет? Федра? Медея, наконец?
Всё это величайшие трагические героини.
Вернёмся к триаде, которую мы уже упоминали: Сатира – Героика – Трагизм. Вспомним: перед нами эстетическая парадигма, связанная с бессознательным освоением мира, – и в этом смысле женщина, увы, также становится полноценной участницей трагедии. Однако трагическая коллизия как мировоззренческая составляющая, как результат ментального освоения мира, который в перспективе неизбежно приведёт мыслящего героя к идеалу Идиллической (гуманистической) гармонии (если процесс познания недвусмысленно придерживается культурного вектора) – такой аспект трагедии, повторим, дело сугубо мужское. Здесь актуальна первая часть афоризма: трагедия мужчины в том, что он не в силах вытравить из себя женщину (как не в силах личность, субъект культуры, отказаться от своего человеческого, природного измерения).
Таким образом, в данном случае «мужчина» и «женщина» являются указанием не столько на половую принадлежность, сколько на предрасположенность к самопознанию, к идейному освоению мира, – на принадлежность к миру культуры или натуры. Якобы, умудрённый жизнью далеко не мальчик мавр Отелло в этом контексте является такой же женщиной, как и неискушённая тринадцатилетняя Джульетта, как и матёрая леди Макбет, и трагедия его, конечно же, – маленькая трагедия (как и всякая история страсти). А вот трагедия Евгения Базарова, скажем, – это уже форма выражения кризиса идей, и именно культурная первопричина бросает личность в пучину страстей.
Итак, несмотря на то, что трагедия (и как пафос, и как жанр, воплощающий одноимённый пафос) в целом относится к формам бессознательного освоения жизни, она, тем не менее тяготеет к подразделению на виды: мужскую (идейную) и женскую (бессознательную), на более сознательную и менее сознательную. В этом контексте вторая часть афоризма выражает буквально то, что она выражает: трагедия женщины в том, что она неспособна испытывать трагедию. Женщина испытывает симптомы трагедии, не будучи при этом персонажем трагическим (что выглядит уже комично). Мужчина (личность), испытывая трагедию, недалеко при этом уходит от женщины – дистанцируясь, тем не менее, от её типа освоения жизни.
Женщина всегда выбирает жизнь – даже тогда, и прежде всего тогда, когда в трагических ситуациях дело доходит до смерти. Женщина погибает только за жизнь. Она бессознательно стоит на страже жизни, и ей становится плохо тогда, когда её лишают возможности взращивать и оберегать жизнь. Тогда она начинает «испытывать трагедию». В духовном смысле это не трагедия – хотя женщине от этого не легче; легче как раз трагическому герою, мужчине, ибо у него так или иначе есть перспектива; у женщины, у которой под угрозу поставлена программа деторождения, перспективы просто нет, отсюда все её самые иррациональные, самые жуткие, так пугающие «разумного» мужчину поступки. Медея может даже пожертвовать детьми в знак протеста против того, что она, женщина, перестала чувствовать себя центром мироздания. Ей не нужен мир, в котором царит не женщина, который устроен не по-женски. Во имя жизни она губит жизнь (хочется сказать «ничтоже сумнящися» – но в том-то и дело, что сомнения как элемент духовной трагедии здесь отсутствуют в принципе).
Строго говоря, это даже не протест, это тот случай, когда неудержимая воля к жизни (страсть!) становится самой разрушительной силой на земле (как и положено страсти, не ограниченной разумной волей). И это, несмотря на всю свою беспросветную жуть, не трагедия: это торжество натуры в чистом виде. Так и хочется воскликнуть: страсти-то какие! Думаю, точнее было бы квалифицировать подобные действа в жанровом отношении не как трагедии, а как страсти. Страсти Еврипида «Медея». При чём здесь любовь?
Здесь даже месть не при чём: слепая страсть – характеристика индивида, тяготеющего к прачеловеку; трагедия начинается со зрячей страсти.
В чём же трагедия женщины, которая не способна испытывать трагедию?
С точки зрения личности, в том, что такая женщина не способна оценить проявления личности в человеке. Трагедия «страстной» женщины – это трагедия немоты, трагедия бестрагического, «растительного» существования. Как видим, в определённом смысле трагедия – это не так уж и плохо, не так уж и мало; во всяком случае, трагедия является хоть и небольшим, но всё же культурным достижением.
Трагедия как некая духовная хвороба возможна лишь на начальном этапе духовного становления, её можно трактовать как «болезнь роста» на переходном этапе от человека к личности (как выражение своеобразного кризиса переходного возраста). Вот почему трагедия, любая трагедия – неизбежно будет маленькой (в отношении подлинно больших и глубоких проблем личности). «Духовные проблемы личности» и «трагедия как форма их воплощения» – вещи, возможно, и совместные, однако качество «духовной трагедии» в этом случае становится принципиально иным. Те же Онегин и Печорин – лучшие тому подтверждения. Ни Сальери, ни Гуана, ни Ивана, ни Председателя (сейчас мы о главных персонажах «Маленьких трагедий») невозможно представить героями романа (героями историй о становлении личности); героями романа они могли бы стать только тогда, когда взялись бы отрицать, «презирать», по словам Онегина, сами себя (что стало бы началом подлинной трагедии, ведущей к отрицанию трагедии как способа духовного существования).
Иными словами, вместо маленьких людей, испытывающих большие страсти, ведущие, опять же, к маленьким трагедиям, им предстояло бы стать личностями, мыслящими людьми. К такого рода персоноцентрической трансформации предрасположен разве что Гуан (да и то теоретически, потенциально).
Итак, культурному герою, личности, мужчине, не пристало испытывать трагедию: не философское это дело; трагедия превращает масштабного героя в маленького, ничтожного – в женщину.
«Маленький человек» – это человек, не способный стать личностью.
Герой великих трагедий – маленький человек с большими страстями. Закономерность такова: чем меньше человек – тем больше страсти. Трагедия строится именно на страстях, а не на умных чувствах просвещенной личности. Великий человек, личность не тот, кто с высшим накалом страстей переживает безысходность трагедии, а тот, кто способен отыскать духовный выход из трагического тупика.
Субъектом трагедии (равно как и героики с сатирой) является человек, индивид, homo economicus (субъект натуры); личность, homo sapiens (субъект культуры) является уже субъектом иных духовных стратегий – идиллии, драматизма, юмора.
Вывод такой: у Пушкина были основания назвать свой цикл «Маленькие трагедии».
Литературоведческим обоснованием этого тезиса мы сейчас и займёмся.
3
«Скупой рыцарь». Для начала уместно расставить точки над «і», подытожить. Кто является носителем трагического начала: Барон или сын его Альбер?
Движущим началом пьесы является патологическая страсть Барона к деньгам, богатству, своим сокровищам, которых он становится рабом и благодаря которым чувствует себя царём.
Я каждый раз, когда хочу сундук
Мой отпереть, впадаю в жар и трепет.
Не страх (о, нет! кого бояться мне?
При мне мой меч: за злато отвечает
Честной булат), но сердце мне теснит
Какое-то неведомое чувство…
Нас уверяют медики: есть люди,
В убийстве находящие приятность.
Когда я ключ в замок влагаю, то же
Я чувствую, что чувствовать должны
Они, вонзая в жертву нож: приятно
И страшно вместе.
«Скупой рыцарь» точное название: оно указывает на отчасти комическое сочетание несочетаемого. Нам представлена даже философия скупости (см. приведенный монолог Барона), но от этого страсть не перестала быть страстью. Альбер же только оттеняет эту скупость, придаёт ей некое инфернальное измерение.
Что ни говори, а человек, сводимый к одной «страстной» краске, к «какому-то неведомому чувству», – это мелко.
Отсюда следующая закономерность «Маленьких трагедий» и, в частности, «Скупого рыцаря»: структура персонажей – тип, а не характер. Тип конфликта определяет структуру персонажей.
Перед нами маленькая трагедия, не случайно имеющая подзаголовок Сцены из Ченстовой трагикомедии: The covetous knight. «Трагикомедия» в данном случае означает неполноценная трагедия (маленькая). Финальную реплику Герцога «ужасный век, ужасные сердца» можно понять следующим образом: если страсть к деньгам становится самой сильной душевной потребностью, вытесняя все остальные человеческие чувства, если ради денег сын готов убить отца, а отец – сына, следовательно, налицо перекос фундаментальной системы ценностей. Люди измельчали.
Но тут присутствует нюанс: природа человека привязана ко времени, к веку: каково время – таков и человек. Не ужасные сердца приводят к тому, что наступил ужасный век, а ужасный век сделал добрые сердца людей ужасными.
В принципе, конечно, зависимость между «веком» и «сердцами» иная: никакой век не может изменить «вековечную» природу человека (пример того же «Евгения Онегина» лучшее тому свидетельство). Смещение ответственности с персоны на эпоху, то есть абсолютизация социальной составляющей духовности, приводит к тому, что содержание трагедии становится неглубоким, маленьким, если этому слову придать расширительное, большое значение.
«Моцарт и Сальери». Трагический персонаж в данном случае – благородный, гуманистически озабоченный завистник Сальери: уже одно это резко сужает масштабы трагедии (внося в неё, кстати сказать, краски трагикомедии). Никакая философия зависти, ставшей страстью, не превращает индивид в личность. Перед нами иллюстрация тезиса: самолюбие, превосходящее по размерам талант, рождает зависть, а уступающее по размерам таланту рождает великодушие.
Что послужило причиной разыгравшейся трагедии?
Святая убеждённость трудолюбивой посредственности в том, что «незаслуженно», «просто так» доставшийся талант – это от лукавого.
О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений – не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!
Логика Сальери, как это часто бывает с логикой сумасшедшего, поражает своей дикой изысканностью или, если угодно, диким совершенством:
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет;
Оно опять падет, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он.
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.
Что определяет талант – трудолюбие или природная одаренность? – не важно; важно то, что Моцарт обречён жить в среде, враждебно отторгающей талант как дар судьбы. Это отчасти трагические предлагаемые обстоятельства, однако трагизм как черта мировосприятия чужд натуре «гуляки праздного», который по счастливому стечению обстоятельств является «сыном гармонии». Если бы Моцарт посвятил себя страсти сожалеть о вопиющей несправедливости (злые люди, дескать, не дают развернуться таланту в полной мере, толпа душит гения!), то и Моцарта никакого бы не было. В лучшем случае появился бы еще один унылый Сальери, любящий попенять на досуге небесам, что «нет правды на земле».
Ключевая трагическая фигура здесь – Сальери. И трагедия его – это трагедия маленького человека, павшего жертвой тщеславия и зависти. Оформить злобное эгоистическое желание как предназначение, выдать зависть за избранничество – это классика сатиры:
Нет! не могу противиться я доле
Судьбе моей: я избран, чтоб его
Остановить – не то, мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,
Не я один с моей глухою славой…
Чего здесь больше: серьезной глупости Сальери или злой сатиры на эту глупость?
Умному читателю как-то неловко рефлексировать на тему умозаключений дурака. Это можно считать своего рода доказательством ничтожности трагического персонажа.
«Каменный гость». Здесь герой трагедии – дон Гуан.
Отчего же, например, не донна Анна? Отчего же невозможно рассматривать донну Анну как трагический персонаж?
Формально донна Анна вполне соответствует роли трагической героини: дона Гуана, погубителя мужа, любить нельзя, но очень хочется…
Трагическая мотивировка поведения донны Анны ничем не уступает патетической страсти Джульетты Капулетти.
В действительности это не трагедия, а потенциально трагическая ситуация. Одно дело потерять любимого человека, и совсем другое – отдавать долг памяти мужа, то есть всего-то навсего вести себя пристойно. Вдова формально скорбит, и оттого «ужасное» внимание Гуана, по сути, не оскорбляет ее, а льстит ей.
Несчастную даму и упрекать как-то неловко: она проявила слабость, которую, при всем уважении к донне Анне, невозможно квалифицировать как преступление; дон Гуан только восхищается ею, возвращая тем самым к жизни, пробуждая в ней женщину.
Иное дело, что «оживил» он донну Анну ценой, как водится, собственной трагедии, смысл которой сводится к тому, что Гуан впервые перестал чувствовать и вести себя как женщина. Оказывается, кроме «воли» и «науки страсти нежной», этих неизменных догматов веры высокоразвитого индивида, на свете есть любовь и счастье, однако дон Гуан до встречи с донной Анной вел себя так, будто «на свете счастья нет». А теперь он, обнаружив в себе зачатки личности, готов воскликнуть «как я ошибся, как наказан!». Высокая болезнь приводит к высокой трагедии: у нас есть основания ставить так вопрос.
Но эта маленькая «большая» трагедия не разработана в своих основных мотивах; перед нами разве что конспект трагедии, её набросок, эскиз – нечто обладающее литературной ценностью, предназначенное для сцены, но парадоксально не сценичное.
«Пир во время чумы». Здесь трагизм не только как мироощущение, но и отчасти как бунтарская идеология связан с образом Председателя, Вальсингама. Человек, способный на любовь, способный, в отличие от дона Гуана, точно формулировать сложные мысли, возглавляет некое бессмысленное, на первый взгляд, стихийное движение сопротивления, ибо сопротивление порядку вещей, освященному моралью, позволяет хоть как-то сохранить личное достоинство.
Это уже ситуация отнюдь не шекспировская. От подобной маленькой трагедии рукой подать до большой драмы: перед нами сцена, полная трагической иронии, весьма современного по психологии ощущения. Точкой отсчета здесь выступает почти личность.
«Отрывок из Вильсоновой трагедии» представляет собой некое сложное, глубокое, противоречивое переживание, архетипичное по сути своей, что характерно для пушкинской лирики. В своем инфернальном «гимне в честь чумы» Вальсингам, находясь у последней черты, до конца, мстительно откровенен:
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане, средь волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и видеть мог.
Это явно вызов – вот только чему? Кому?
Гимн Чуме – это хвала смерти, – той смерти, что обостряет восприятие жизни, то есть становится частью жизни. «Упоение» и «неизъяснимы наслажденья» результат прямой угрозы гибели. Вальсингам слишком далеко зашел для трагического героя. К тому же он мудро, совсем не героически относится к трагедии. Он обращается к священнику, к «отцу» («Отец мой, ради бога, оставь меня!»), таким отеческим тоном, словно стоит гораздо выше его в духовной иерархии:
Старик! иди же с миром;
Но проклят будь, кто за тобой пойдет!
Сплошь противоречивые, примирительные формулы приводят к тому, что на пиру во время чумы «Председатель остается погруженный в глубокую задумчивость». Даже до банальной смерти дело не дошло.
Тип сознания Вальсингама – явно не трагического склада, и потому он смотрится лишним, потусторонним в контексте маленьких трагедий.
Пушкинский опыт трагедий можно воспринимать и таким образом: время трагедий прошло. Рядом с Евгением Онегиным трагический персонаж начинает смотреться если не комично, то в духовном отношении неполноценно. Вот почему разработка условных шекспировских страстей в рамках классической трагедии превратилась бы в духовно-эстетическую ложь. Вызов Шекспира Пушкину состоял не в том, что русский гений обречён был усовершенствовать классическую трагедию, не меняя её качественных характеристик, а в том, что Пушкину, как и Шекспиру в своё время, предстояло изменить духовно-эстетическую точку отсчёта.
Не в том дело, повторим, что из жизни исчезла трагедия (она отнюдь не исчезла: Пушкин ведь осовременил трагедию, сделав её, по сути, личным делом героя); дело в том, что в жизни появилась «новая трагедия», иная точка отсчёта: драма, трагедия личности. Именно так: драма – это трагедия нового времени. При наличии драмы любая трагедия становится маленькой. Ромео, и даже Гамлет уже не могли быть Героями Нового Времени, ибо героем этого века становилась личность.
Цивилизацию и культуру разделяет не пресловутый «один шаг», а принципиально разное соотношение информационных по своей сути и структуре «предмета» и «объекта», ибо: субъект цивилизации – индивид, субъект культуры – личность.
Если рассматривать творчество Пушкина как одно из первых впечатляющих выражений заката (деградации) цивилизации, высшей стадии натуры (одновременно – как одно из первых впечатляющих свидетельств того, что без культуры цивилизация просто погибнет), то следует подчеркнуть, что именно это эпохальное мироощущение в рамках миропонимания позволило Пушкину создать богатый содержательный пласт «Маленьких трагедий».
Предметом изображения в «Маленьких трагедиях» стал индивид, а подспудной точкой отсчета (объектом) – личность, выведенная в «Евгении Онегине»: именно это неочевидное обстоятельство придает «трагедиям» какую-то очевидную, неоспоримую глубину. Пушкин, сознательно или бессознательно, вступил в полемику со всей предшествующей ему героической, социоцентрической литературой (что, между прочим, не помешало ему впоследствии создать шедевр именно такой, с появлением «Онегина» в одночасье ставшей архаической, литературы: мы имеем в виду, конечно, «Капитанскую дочку»; это лишний раз доказывает подвижность духовно-эстетического спектра, где достигнутое «недосягаемое» в ту же секунду становится пройденным этапом).
Сегодня, как и во времена Пушкина, «духовное» содержание цивилизации определяют потребности индивида (homo economicus’a), то есть содержанием, с позиций личности и культуры (с позиций homo sapiens’a), является бессодержательность, вот почему доминирующей духовной и эстетической идеологией сегодня последовательно становятся постреалистические «направления», где культ формы превращается в содержание. Содержанием бессодержательной идеологии становится индивидоцентризм – культ ощущений (хотений, желаний), культ иррационального – следовательно, культ формы.
Опыт Пушкина показывает: объектом в произведении должна быть личность, тогда предметом (темой) может быть все что угодно. В этом и заключена суть закона духовно-эстетической гармонии.
Вообще сам феномен того, что «маленькие трагедии» стали великими произведениями заслуживает отдельного разговора. Это шедевры, конечно, но шедевры, так сказать, второго ряда, ибо в первом ряду – идейно и психологически преодолевший трагизм Евгений Онегин, ставший героем одноименного романа. И не в последнюю очередь шедеврами «Маленькие трагедии» делает стилевая особенность, присуща «золотому веку» русской поэзии, а именно: незабываемо называть вещи своими именами, находить едва ли не единственно возможные в данном контексте слова, которые в равной степени являются и образом, и словесной формулой. В данном смысле эти шедевры «второго ряда» навсегда занесены в недлинный список ряда первого.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































