Текст книги "Лишний Пушкин"
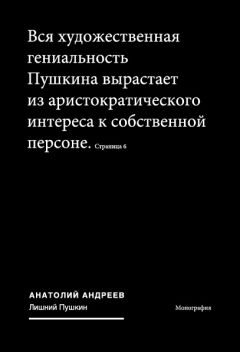
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
4
Вот шутка иного рода, где литературные аллюзии также присутствуют, однако они выполняют совершенно другую функцию (последняя, LV строфа предпоследней, VII главы).
Но здесь с победою поздравим
Татьяну милую мою (она завоевала сердце «важного генерала» – А.А.)
И в сторону свой путь направим,
Чтоб не забыть, о ком пою…
Да, кстати, здесь о том два слова:
Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив.
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть.
«Хоть поздно, а вступленье есть» – это, конечно, пародийное обыгрывание поэтической нормативности классицизма – той нормативности, которая заставляет трактовать человека как свод условных добродетелей или пороков; узор и кладезь таких добродетелей, увы, Татьяна Ларина (ларец!), «в стороне» от которой – опять же, увы, – пролегает магистральное русло романа.
А теперь представим себе, что все, выделенное авторским курсивом, – это действительно вступление. Поместим его в начало романа – скажем, вслед за первым вступлением (посвящением П.А. Плетнёву «Не мысля гордый свет забавить»). В таком случае функция второго, «замаскированного» вступления меняет свой вектор на противоположный (фокус, трюк – лучше сказать, шутка): это не столько «отдание чести классицизму», сколько в самом что ни на есть реалистическом ключе продолжение диалога с вдумчивым читателем, для которого все шутки – культурный код, культурный язык, но вовсе не забава. Перед последней, восьмой, главой автор «шутливо» напоминает искушенному читателю (дав понять, что сам постоянно держит это в голове: «обуза»!): не питайте иллюзий, не блуждайте: главный герой моего романа – противоречивый отнюдь не в духе одномерного классицизма, и потому по-человечески содержательный Евгений Онегин (но никак не статичная, и потому по-женски симпатичная, Татьяна), да, да, тот самый «неисправленный чудак», а не «мой верный идеал», как могло бы показаться. Где тут шутки?
До слез не смешно.
5
И под конец совсем уж не смешное, к чему привели, однако, шуточки автора.
Отношения Онегина и Татьяны – это языком искусства представленная версия сосуществования культуры и натуры, в образах воплощенная попытка культурного существа, мужчины, жить в любви и согласии с женщиной, жить одновременно по законам и культуры, и натуры, не унижаясь при этом до отрицания последних, но и не скрывая, что культура, будучи высшей духовно-информационной инстанцией, вовсе не собирается играть в прятки с натурой.
Пушкин показывает: умный мужчина должен дозреть до любви, тонкая женщина раскрывает свою тонкость в любви. Но это отнюдь не означает, что любовь непременно станет способом их существования (хотя, конечно, помогает им стать теми, кем они способны стать).
Мужчина и женщина не только тянутся, притягиваются друг к другу – но и отталкиваются друг от друга, демонстрируя невозможность слияния субъектов разной информационной природы: натура берет свое, а культура противостоит натуре. Непреодолимое притяжение и одновременное взаимоотторжение: не смешно? В этой «шутке» – голая правда чувств, «честно» обслуживающих императивы натуры, и умных чувств (тоска, отчаяние, боль, разочарование), появившихся в результате функционирования сознания. И смех, и грех.
Вот почему глубокий драматизм, граничащий с трагизмом (для краткости будем называть этот симбиоз трагизмом: это не совсем верно, но, надеюсь, более понятно), неизбежный трагизм в любви становится наиболее адекватной и впечатляющей формой сосуществования натуры и культуры. Есть, конечно, и иные формы; например, вариант тотального подчинения женского начала – мужскому (любовь как составляющая по-своему гармонических героических отношений), или мужского – женскому (своего рода комическая гармония). Однако свободное волеизъявление мужского (культурного) и женского (природного) начал неизбежно приводят не только к глубине и высшей гармонии, но и к трагизму. Похоже, отменить этот закон не представляется возможным.
Закон любви становится одним из проявлений универсального закона сохранения информации.
Можно сколько угодно причитать по поводу того, что любовь, дескать, это чудо из чудес и вечная загадка, практически – тайна величайшая, и умом ее не понять; что невозможно алгеброй поверить чувства, что логика чувств неподвластна никаким законам, несоизмерима с понятием «познание». Аргументов из арсенала формальной логики Татьяны – не счесть.
Однако и на стороне Онегина есть неотразимый аргумент: если бы в любви невозможно было обнаружить закон, жить было бы по-настоящему скучно.
А так – жить можно.
Вот какого порядка рассказана нам история про мужчину и женщину. Тут уже не сила чувств впечатляет, как, скажем в «Ромео и Джульетте», пьесе ощущений, а обнаруженная закономерность несовпадения чувств зрелого мужчины (личности) и зрелой женщины (человека, неспособного стать личностью). В романе нет проблемы силы чувств, проблемы контроля над страстью; роман о человеке, в котором проснулась личность, роман о романе натуры и культуры.
Таким образом, любовь – это всегда испытание, всегда культурный вызов: жизнеспособность любви зависит от того, найдена ли гармония между чувством и умом. Если найдена, увы, тут уже рукой подать до трагизма, чреватого комизмом. Сам роман, согласимся с повествователем, есть не что иное, как «Ума холодных наблюдений И сердца горестных замет». Любовь должна стать способом реализации (проявления) личности, в противном случае она неизбежно превратится в способ деградации личности. Союз мужчины и женщины вполне может существовать и без любви («я другому отдана; Я буду век ему верна»: Татьяна, созданная для любви, вовсе не собирается без любви умирать); присутствие любви в отношениях становится фактором духовнообразующим – пока что, увы, факультативным для людей.
В романах, подобных «Евгению Онегину», несчастная концовка становится вариантом трагически счастливой комбинации (ведь смешно же, если разобраться), а счастливая концовка выглядела бы откатом на позиции доличностные (что, согласимся, смешно вдвойне). Цена несчастной (счастливой) концовки в культурном смысле очень высока.
Итак, культурно содержательны лишь отношения умного мужчины (субъекта сознания) и тонко чувствующей женщины (субъекта высокоорганизованной психики); все остальные отношения – это наивные попытки завуалировать главные отношения, отношения сознания и психики. А отношения стремящихся навстречу друг другу «ума» и «чувства» – всегда смешны, как и все то, что обречено на очевидный провал; однако при всей нелепости благородного побуждения «а давайте совмещать несовместимое! давайте жить дружно, стремиться к счастью!» в отношениях этих нет ни капли смешного: это форма существования трагического. Именно так. Само по себе трагическое непременно включает в себя момент иронии. Получается: тот, кто не делает смешной, обреченной на неудачу попытки, тот попросту не живет. Тот самый смех и грех: смеяться грешно, а не смеяться – глупо.
Вот почему шутки являются оборотной, комической стороной трагического: и там, и там с экзистенциальным скрипом происходит сочетание несочетаемого, трагикомедия (современная форма трагедии) становится эстетическим модусом «единства противоположностей» – собственно, художественной диалектикой во плоти. Шутка становится симптомом присутствия диалектики в художественной ткани.
Вот почему шутливый тон как форма существования невозможного как бы самим фактом своего присутствия в тексте «доказывает», внушает надежду, что мужчина и женщина могут быть вместе, должны быть вместе – именно потому, что это невозможно. Шутливый прием нагружен философией до такой степени, что смешного в романе практически нет ничего. Смешно, не правда ли?
Таким образом, мы видим, что в шутках, ставших поэтической тканью романа в стихах, меньше всего шуточного. Зубоскальство убого смешно тогда, когда оно глупо, одномерно (да и то для тех, кто не понимает; для умного человека появляется повод горько посмеяться над теми, кто никогда не смеется последним); если же шутка серьезна, то за смехом всегда стоят «невидимые миру» слезы. Хочешь говорить о серьезном – говори смешно, иначе вся серьезность станет напыщенной, смешной, культурно бессодержательной. Именно смешное наиболее адекватно серьезному. Серьезная шутка – это по-настоящему не смешно: в этом и соль шутки, над которой хочется смеяться всегда.
Именно такие шутки стали способом подачи «громадного» философского материала, в чем и заключается одна из особенностей «воздушного» стиля «Евгения Онегина». Весь роман, собственно, состоит из подобных шуток, реплик, от строфы к строфе превращаясь в одну божественную шутку по поводу законов сочетания духа, души и тела. Доступен ли такой роман «простым людям»?
Это, конечно, шутливая постановка вопроса. Ответ хорошо известен.
6
А теперь зададимся вопросом: каков художественно-эстетический механизм шутки, понимаемой не только как «противоречивый», диалектический «инструмент мысли», но и как вариант синтетического «пафоса», как вариант мировоззренческой матрицы?
Почему именно шутка становится в информационном отношении максимально насыщенной единицей, максимально содержательным моментом целого?
Для ответа на этот вопрос необходимо хотя бы бегло, так сказать, в рабочем порядке, обратиться к теории пафоса. Теория эта, рассмотренная нами как момент если не универсальной, то «генеральной» литературной теории (см. Андреев А.Н. Теория литературы: личность, произведение, художественное творчество. В двух частях. Часть 1. Теория литературно-художественного произведения. – Минск, БГУ, 2004.), позволяет, во-первых, поставить вопрос именно в такой плоскости, в которой он поставлен, и, во-вторых, искать ответ именно в контексте пафосной стратегии произведения.
Если согласиться с тем, что в истории культуры существуют, по большому счету, два идеала личности, тяготеющих к двум типам гармонии, социоцентрическому и персоноцентрическому, то идеалы эти легко принимают параметры духовно-эстетической парадигмы, которая может быть представлена в виде двух триад. Первая, социоцентрическая: комическая ирония (граничащая с трагической) – сатира – героика – трагизм – трагическая ирония (переходящая в комическую); вторая, персоноцентрическая: саркастическая ирония (граничащая с романтической) – юмор – идиллия – драматизм – романтическая ирония (переходящая в саркастическую).
Из этого следует, что, с одной стороны, сатира содержит в себе все содержательные признаки героического и трагического (серьезного, не шутливого), а с другой – и трагизм, и героика при всей своей принципиальной «неулыбчивости» предрасположены к игровому, сатирическо-ироническому взгляду на мир. Именно поэтому и героика, и трагизм адекватно (всесторонне, целостно) выражаются посредством комического. Именно так: начало сатирическое является имманентным признаком начала героико-трагического.
То же самое следует сказать и в отношении юмора как вида пафоса, который содержит в себе все признаки идиллического и драматического (опять же – серьезного, фундаментально-концептуального), а с другой – и драматизм, и идиллия при всей своей научности и системности принципиально не отгорожены от игрового, юмористическо-иронического взгляда на мир. Начало юмористическое является имманентным признаком начала идиллико-драматического.
В широком смысле начало комическое (шутливое) не существует без героического и трагико-драматического (серьёзного).
Вот почему, затронув юмор, мы вынужденно касаемся всей персоноцентрической парадигмы (и отчасти, разумеется, парадигмы социоцентрической, которые не изолированы друг от друга). То же самое, с соответствующей содержательной поправкой, можно сказать и по поводу сатиры: сатирический взгляд на вещи является не целостным и самодостаточным мировоззренческим отношением, а моментом предельно серьезной социоцентрической идеологии. С другой стороны, «чистая героика» – это наивно, и потому, увы, грустно и смешно; то, что начинается как героика, не может не продолжаться как сатира и трагизм, ибо: сатира, героика и трагизм – это модусы социоцентрического отношения. Содержанием комического (сатиры, юмора, иронии) становится трагико-драматическое и героико-идиллическое начало; содержанием шутки становится концептуально выстроенное мировоззрение, научно-философское по своему характеру.
Таким образом, «давайте шутить, играть давайте» становится не легкомысленной рекомендацией, а художественным императивом: если писатель не шутит – это совсем не смешно; это значит – писателя не существует. Игровая природа искусства сказывается и в том, что оно «выдумывает» образы, за которыми стоит невыдуманное отношение, и образы, воздействуя на психику (чувства) и сознание (абстрактно-логическую область ментальности) одновременно, «маскируют» серьёзный (то есть познавательный) концептуальный посыл за смехом и слезами – за шуткой (мэссиджэм психологически-приспособительным). Получается буквально: в каждой шутке есть доля шутки.
Разумеется, сказанное не означает, что каждый шутник и остроумец по определению становится писателем. Шутить, не шутя, – это высокое трагико-драматическое искусство, а остроумие – всего лишь лучший способ скрывать свою глупость. Всё зависит от доли шутки – то есть от доли серьёзного отношения.
5. Концепция судьбы в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин»
1
Завершить великий роман счастливой любовной развязкой – мучительно серьезная ответственность для писателя, гораздо большая, нежели трагически оборвать отношения героев или разлучить их, оставив им надежду на «встречу».
Счастливая концовка – это ведь не просто эпизод, но и точка отсчета, откуда просматривается перспектива, берущая начало в недрах романа. Концовка – это момент художественного универсума, такой же, как и завязка, кульминация. Возможность счастья должна быть подкреплена всем строем романа: это не абстрактный шанс для героев, а закономерный итог. Закон художественности гласит: концовка, будучи моментом целого, не может быть произвольной, зависящей от каприза автора. Ее функция – более или менее удачно завершить художественное целое.
Пушкин, как известно, в романе в стихах «Евгений Онегин» избрал иной тип финала, несчастливый. В связи с этим зададимся вопросами: что стоит за этим сюжетным ходом, который является одновременно завершением структуры персонажей и концепции романа в целом?
Или: отчего в пушкинском романе в принципе не могло быть счастливой концовки?
Ответ придется искать в том, как Пушкин трактует природу человека (мужчины и женщины). Для этого он использует, в частности, даже не мотив, а – концепцию судьбы (своеобразный эквивалент закона жизни, если угодно), проверенный и надежный инструмент «духовного производства» личности.
Слово «судьба» встречается в романе около тридцати раз. Кроме того, вполне судьбоносными являются такие синонимические понятия, как «высший совет», «воля неба», «слепая фортуна», «рок», и их невозможно исключать из контекста «концепция судьбы».
Мне кажется, вполне возможно, но непродуктивно рассматривать пушкинскую концепцию судьбы как некий закон необходимости или предопределения – закон мироздания, находящийся в таком ряду как Бог, Абсолютный дух или иные трансцендентные сущности. Контекст идеалистического мировоззрения, оформленного как философская система, здесь мало что прояснит: это не пушкинская философия. В данном случае не «философско-эстетическая основа» концепции судьбы волнует повествователя и его мыслящего героя, а некая эмпирическая, рабочая концепция (версия), имеющая отношение к сопряжению сознательного и бессознательного начал в жизни человека. Поэтому нас не будут интересовать тонкости идеалистических учений, философских систем (Канта, Шеллинга, Гегеля и др.), «растворенных» в тексте романа; нас вслед за Пушкиным будет интересовать судьба как момент (компонент, даже инструмент) жизнетворчества. Нас будет интересовать судьба как понятие, проясняющее природу человека – но не абстрактно философское при этом, отвлеченно-эмпирейное, а жизненно-философское, практически-философское. Для Онегина философия судьбы – это, собственно, проблема его личной жизни.
Разумеется, это также особого рода философия, и прежде всего философия человека (и, заметим, в значительной степени оппозиционная сумраку идеалистических трактовок: к чему лукавить?), однако в качестве таковой она разработана еще явно недостаточно для того, чтобы можно было помещать смысловой космос «Евгения Онегина» в соответствующий ему культурфилософский контекст.
Кратко обозначим философские параметры концепции, без которых невозможно обойтись в разговоре о судьбе личности.
2
Природа человека (или его информационный космос) достаточно четко подразделяется на три уровня: телесный, душевно-психологический, духовно (разумно) – психологический. Тело – душа – дух. Это объективно существующие информационные инстанции.
В связи с этим все существующие этические и мировоззренческие – гуманистические – ценности имеют три измерения (в этой фразе все слова ключевые; но ключ ко всем ключам – маленькое неприметное слово «все»). Взять затасканную несчастную категорию «счастье». Вследствие своего умственного бессилия те из людей, кто призван рассуждать (а у людей призваны рассуждать, как правило, способные делиться мироощущением: поэты, писатели, художники, верующие, а также философы), эту категорию объявили непознаваемой, то есть перевели в разряд «ощущений».
Счастье как ощущение – мимолетно, мгновенно. Форма существования счастья – миг. Тут понимать ничего не надо, это миллиарды раз доказано эмпирически. Это подтвердят те из живущих и живших, кто испытывал ощущения (а кто их не испытывал, если он жил?). Отсюда и философия счастья: оно непостоянно, кратковременно, не имеет ничего общего с продолжительностью и абсолютно связано с чувствами. Например, счастье – это любовь. Или вера (во что угодно). Или надежда. Собственно вера, надежда и любовь – и есть три измерения счастья (комплекса ощущений). Кончилась любовь – прощай, счастье. Счастье ценно именно тем, что его мало. Считанные мгновения на всю жизнь. Это, так сказать, большое счастье. А есть еще маленькое счастье. Если вам, простому смертному, повезло, если вдруг показалось солнце – вот вам и счастье, зашло (какое невезение!) – и счастье исчезло. Выпил стакан вина – счастье, увидел девушку, прокатился на лошади, искупался – счастье.
Не хочу сказать, что не слышал большей глупости за свою жизнь. Хочу лишний раз подчеркнуть, что это образцовая, эталонная глупость из разряда аксиом-ощущений. Здесь не о чем спорить. Отвергать изложенную «философию счастья» все равно что отвергать «философию» жизни, фундамент которой – глыбы ощущений. Оспаривать ценность жизни – несерьезно, это чувствуют все. Счастье непосредственно связано с жизнью, есть атрибут жизни, следовательно, прекрасно как сама жизнь, состоящая из ощущений.
Иными словами, счастье, по логике чувств, которая выдается за логику мысли (как и свобода, любовь, достоинство, истина, добро, красота – все существующие этические и мировоззренческие – гуманистические – ценности), становится категорией, обозначающей ряд ощущений – категорией натуры, но не культуры (где мироощущение начинает уже зависеть от мировоззрения, где само непосредственное ощущение становится вторичным в акте познания и не определяет уже философию).
И это так, да не так.
В контексте культуры, принципиально ином информационном контексте по сравнению с натурой, «любовь», «счастье», «свобода», «гармония», «истина» (этот экзистенциальный ряд легко продолжить и, в принципе, исчерпать) – понятия близкородственные, расположенные в одной плоскости, каждое из которых может становиться либо «частью» другого «целого» (например, любовь – необходимая составляющая счастья), либо в свою очередь выступать «целым», превращая иные составляющие в «моменты» своей структуры – что, конечно, не проясняет саму суть «счастья» (любви, гармонии) как категории культуры, духовной категории, имеющей непосредственное отношение к натуре, категории бездуховной.
Существует «счастье» на уровне тела, душевно-психологическое счастье (в том числе его социально-психологическая проекция) и, наконец, счастье порядка духовного (информационная основа которого – разум, а форма – философия).
Если мы говорим о счастье телесно-психологическом, о «витальном» состоянии человека, то оно, действительно, непосредственно связано с чувствами, с жизнью, с натурой. Поскольку vita brevis, то и счастье тоже brevis. Не имеет ничего общего с вечностью. Говоря о счастье, приходится оперировать особой единицей измерения времени – мгновениями.
Если мы связываем счастье с культурой, с личностью, с ментальным уровнем витальности, все резко усложняется, и миллиарды людей, увы, почувствуют не только краткость, но и принципиальную неполноту своего счастья. Почувствовав это, они с еще большим энтузиазмом станут цепляться за доступное им счастье «быть человеком» – за счастье «натуральное», сердечное, простое. Культура становится угрозой их счастью – то есть в полном смысле несчастьем, ибо счастье для них есть отсутствие несчастья.
Одна маленькая традиционная методологическая ошибка – всего-то абсолютизация ощущений! – и ты счастлив. Исправишь ошибку – окажешься на пути к счастью подлинному, многомерному, продленному в культурное измерение, – на пути к несчастью, по убеждению «счастливцев».
Не хочется никого огорчать, не хочется быть врагом ничьему счастью, однако глупые люди фатально разведены с категорией счастье (собственно, со всеми существующими гуманистическими ценностями). Они не могут жить счастливой жизнью; они могут испытывать (или не испытывать) удовольствие, кайф. Если счастье определяется не только качеством ощущений, но и качеством мышления, то и описывается (измеряется) оно в контексте мировоззренческих категорий. Счастье немыслимо вне достоинства, свободы, духовной реализации, жизнетворчества, истины; дополняющей стороной этих категорий, духовно-эмоциональной составляющей, выступают любовь, вера, надежда (все, что связано с мироощущением). Счастье становится многомерным: мировоззрение реализуется через мироощущение; мелкое (маленькое, ощущенческое) счастье уже не устраивает умного человека, ибо становится формой несчастья.
В подобном же ключе следует интерпретировать и понятие свободы.
Комплекс свободы завершается свободой духовной (или начинается с нее: точка отсчета здесь подвижна). Человек, который ощущает свободу только как потребность в душевно-телесном комфорте, как волю, является рабом природы. Его свобода ограничивается заточением в телесно-психологическую оболочку. Если человек свободен духовно, то есть в состоянии познать (осознать) свою информационную природу в полном объеме, свобода «душевная», в том числе политическая и экономическая, становятся условием реализации главной свободы. Политическая и экономическая свобода становятся для личности фоном, вторичной потребностью (важной, безусловно, но не главной: вот что главное).
Свобода душевно-психологическая (воля) часто выражается как нежелание осознавать себя личностью. Именно такие люди политически наиболее активны. Чем меньше человек свободен разумом, тем больше он выступает за свободу на уровне политическом. Такова плата глупца за свободу выражать свою зависимость от брюха.
Беда в том, что наша цивилизация культивирует свободу исключительно как свободу двух низших порядков, свободу телесно-психологическую. Какова свобода – таково и счастье. Глупый человек не может быть свободным или счастливым, но хочет им казаться. Все лозунги цивилизации рассчитаны на свободных дураков, сама цивилизация есть продукт глупости, находящейся в свободном полете к счастью. Абсолютизация политической составляющей свободы – это ставка на порядочность неразумных людей. Выбор, например, между либералами и консерваторами – это умный вариант глупости. Выбор культуры (ставка на гармонию) – это глупость и сумасшествие в контексте нынешней цивилизации, но это подлинно умный шаг.
Свобода личности подразумевает свободу дистанцироваться от политики и экономики (настолько, насколько это возможно в реальной жизни). Способность быть адекватным природе человека в полном объеме – вот что такое свобода (в аспекте информационном). Свобода тела и души – это замечательно; однако без свободы разума они превращаются в ловушку и тюрьму для человека.
Свобода – вот фундамент счастья для умного человека.
Пушкинский Онегин говорит в письме к Татьяне:
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан.
Онегин «думал» (принимая императив «познанной необходимости»): «вольность и покой» (результат умственного – но пока еще не разумного! – отношения: свобода как плод уже сознательного выбора) замена «счастью» (то есть в его тогдашнем понимании свободе телесно-психологического, бессознательного порядка). Но Онегин ошибся – и в этом глубоко прав автор. На самом деле все с точностью до наоборот. Где свобода – там и счастье. Нельзя противопоставлять «свободы» разных уровней; и реализация высшего уровня свободы, пусть высшего, но одного, – это еще не счастье. Счастье – это не «замена» одной свободы другими аспектами свободы, а их полноценное присутствие в том модусе, который называется гармония. Свобода, реализованная в рамках познанных законов, в том числе закона любви, – это счастье умного человека.
Любовь рассматривается как духовный закон для личности. Поэтому справедливо и такое утверждение: любовь – это счастье умного, следовательно, свободного, человека.
Формой существования счастья становится не миг жизни, а краткая, словно миг, жизнь, прожитая по меркам вечности.
В таком своем качестве и любовь, и свобода, и счастье превращаются в категории культуры – и противостоят «любви» (страсти), «свободе» (воле), и «счастью» (удовольствию), которые по сути являются категориями натуры. В контексте культуры – в целостном информационном контексте – и свобода, и достоинство, и любовь, и все на свете обретают свой завершенный человеческий (гуманистический) облик.
Вот где подлинный выбор и подлинная свобода: человек или личность? Мироощущение или миропонимание? Кайф или счастье? Цивилизация (натура) или культура?
А еще точнее и адекватнее так: попытаться совместить (гармонизировать) цивилизацию и культуру (человека и личность) – или «свободным» волеизъявлением выбрать ценности цивилизации, которые ее же и загубят?
В культурном, весьма диалектическом контексте вернемся к феномену счастья (со-частья, целого, состоящего из частей, измерений). Кратко его можно определить следующим образом: это удовлетворение (относительное) высших потребностей тела, души и духа в результате свободного волеизъявления. Свобода в этом контексте становится инструментом (или способом) достижения счастья; отношения счастья и свободы становятся отношениями стратегии и тактики: счастье – цель, а свобода – средство.
Высшая потребность духа – познание (в том числе и самопознание). Отсюда следует, что душевно-психологический состав счастья – это комплекс эмоций и переживаний, связанный с процессом познания, и чем реальнее и глубже акт познания – тем ярче и содержательнее переживания. Что касается телесного аспекта счастья, то тут вопрос упирается в то, что личности далеко не безразлично, каким образом удовлетворяются ее базовые телесные (человеческие) потребности. Можно вкусить счастья способом традиционным: «пожрать и поспать» (как все, «как ты да я, да целый свет»); а можно, отдавая должное хлебу, то есть, понимая: не хлебом единым! – жить в любви и согласии (в соответствии с неочевидными законами «целого света»). Жизнь тела становится интегрирована в жизнь духа: не в здоровом теле здоровый дух (этот «дух» может быть и не духом вовсе, лишь психологической проекцией все того же тела), а, скорее, наоборот: здоровый дух становится определяющим для телесного здоровья.
Понятно, что в таком контексте счастья не бывает не только без философии и без свободы, но и без любви. Кстати сказать, «структура» счастья (философия – свобода – любовь) – это, с одной стороны, проекция общей информационной структуры человека (тело – душа – дух), а с другой – проекция «части» структуры, «духа» (истина – добро – красота).
Счастье – целостно, будучи моментом целостности иного порядка.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































