Текст книги "Не кормите и не трогайте пеликанов"
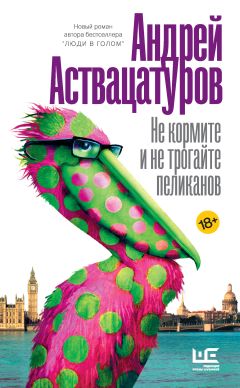
Автор книги: Андрей Аствацатуров
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Заговорили о “Гамлете”. Гость сказал, что сочинил эссе в жанре письма к другу. Попросил разрешения прислать их – вдруг подойдут для “Критериона”. Нет такого жанра, подумал Элиот, – письмо к другу. Есть трагедия, ода, комедия, ну басня, в крайнем случае, а жанра письма к другу нет. Но в ответ снисходительно кивнул, подавив зевок: конечно, присылайте, дорогой Генри, мы всегда рады. На прощание, протянув вялую ладонь, выразил удивление, что Миллер не произносит непристойностей. Тот рассмеялся:
– Вам ли не знать…
Элиот оценил комплимент – парижский гость, оказывается, знаком с его идеями. А эссе, присланные спустя месяц, отверг. Какие-то пространные, недисциплинированные умствования, очень поспешные и дилетантские, неприкрытое подражание Шпенглеру. А “Гамлет” с его мощью, не находящей выражения, подобно духу, не способному снизойти и воплотиться, с этой чудовищной ошибкой, возведенной потом в достоинство, требовал сухой вдумчивости. “Редакция журнала вынуждена отклонить вашу рукопись”, – написал он в ответном письме. Секретарю кулуарно сказал: “Эти тексты господина Миллера вряд ли кого-то заинтересуют, кроме его самых горячих поклонников”.
– Хорошо, что мы в Лондоне, и здесь нет моих поклонников, – говорит Катя. Она улыбается и облизывает языком губы. – Будто с неба упала. Блин, пить хочется. И поесть бы, кстати, не мешало.
Мы выходим из парка блумсберийцев неохотно, с сожалением, будто покидаем тихий райский уголок, сворачиваем в тесный переулок, который тотчас же выводит нас на оживленную магистраль с многочисленными пешеходами и шумной транспортной жизнью. Мне в глаз тут же попадает пыль.
– Погоди, – говорю.
Останавливаемся рядом с каменными ступеньками, ведущими к запертой синей двери с кольцом. Я высвобождаю руку, снимаю очки, чтобы проморгаться, протереть глаз, – и видимое расплывается, лишается очертаний, превращается в огромные пятна, перетекающие разными цветами. Возвращаю очки на переносицу – и мир возвращается, собирается в твердые предметы. Вот улица, за ней ограда парка, а под рукой металлические черные перила, ажурные, аккуратные, как и всё тут.
– Ой, совсем забыла! Позвонить надо… – ласково говорит Катя. Достает розовый девичий телефон, начинает набирать номер и поясняет: – Насчет подгона для тебя… Выпрямись, не сутулься. Надо будет тебя в фитнес записать.
Я демонстративно выпрямляюсь и дисциплинированно делаю руки по швам.
– Так, – говорю, – сойдет?
И сразу возникает ощущение, что в жизни много разных обязательств: уже назначенных, и тех, которые тебе назначат, и тех, которые ты сам себе назначишь. Зато все остальные мысли и чувства сдувает как ветром.
Катя кивает, прижимая трубку к уху. Точнее, машинально, будто не слыша меня, механически, как кукла, поднимает и опускает ухоженный подбородок.
– А что еще за подгон? – спрашиваю. Ненавижу эти ее грубые, словно обрубленные ножом полуслова.
– Ну, это… – она прищуривает правый глаз, – бабу тебе подогнать. За мной ведь косяк…
– Какой косяк? Что за глупости?!
Катя уже отворачивается с прижатой к уху трубкой, правую руку сует в карман пальто:
– Васёк? Алё? Вась… Это я. Да, в Лондоне. …Да, тоже рада. Как живешь?.. Я и не сомневалась… Ага… У меня дело… Подгонишь мне бабу, а? Сегодня или завтра…
Какой еще Васёк? Какая баба? Чего она несет?
– Катя, – говорю, – ты случаем не уронилась в детстве? – Автомобильный шум заглушает мой голос. – Катя! Я с тобой разговариваю?!
– Что значит “зачем”? – говорит Катя в трубку, поворачивается ко мне и поднимает вверх указательный палец – молчи! – Васёк? Соберись! У тебя так бывает, что ты хочешь бабу? Да? Ну, слава богу! Нет, я всё помню… Так вот, у меня тоже бывает… Чего? Ну да… не за бесплатно же…
Замолкает. Ждет ответа. Синяя дверь над нашей головой распахивается, и наверху появляется мужчина в строгом костюме. Мельком взглянув на нас сверху вниз, начинает аккуратно спускаться по ступенькам. Я беру за локоть Катю и делаю шаг в сторону, чтобы пропустить мужчину.
– Катя, – говорю я громко и раздраженно. – Ну что за фигня?
Она резко вырывает руку, отнимает телефон от уха и закрывает ладонью:
– Помолчать можешь? И так ничего не слышно – транспорт вон ездит. Чё уперся-то? Для тебя же стараюсь… Потом сам же спасибо скажешь. Да, Васёк? Ну, чтобы… в общем, проверенную. Договорились!
– Слушай, Катя, я серьезно. Ну что за цирк, в конце концов?
– А чего, милый? – она с невинным видом сует телефон в карман джинсов. – Самооценку себе подымешь… Тем более у меня сейчас дела…
– Катя, – я повышаю голос и чувствую, как вместе с голосом сам возвышаюсь над Катей, над этой улицей, лестницей со ступеньками и низкорослыми домами, вытянутыми вдоль улиц. – Сию же секунду позвони и всё нахрен отмени! Ты же знаешь, я – левый, а проституция и сексуальная эксплуатация – это мерзость!
Катя смотрит на меня с наигранным восхищением:
– Ладно… мерзость так мерзость. Только орать не надо прямо в ухо, хорошо? Видишь, люди кругом…
Мимо нас проходят два молодых человека. Оба мелкого роста в аккуратных коротких пальто. За ними, громко кряхтя, тащится пожилой бородатый попрошайка. Останавливается возле меня и трясет под носом бумажным стаканом. Там звенит мелочь. Я отрицательно мотаю головой – “me nor inglis’!” – “английский – не понимай!” Попрошайка выплевывает ругательство и спешит дальше.
– Левый, значит, да? – переспрашивает Катя. В ее голосе насмешливое любопытство. – Смотри-ка… Прям святой. До тебя теперь и не дотянешься. Я, знаешь, честно говорю – потрясена.
“И мир был благоговейно потрясен”. Я вдруг начинаю понимать, что устал от этого города: ироничного, холодного, размокшего и занятого земными делами. Хочется туда, где все возвышенно, духовно, в Венецию, где дворцы и соборы, где настоящее море и где не стыдно умирать. Я скрещиваю на груди руки и молча смотрю на Катю.
– Знаешь, – смеется она. – У Вити был партнер по бизнесу, очень приличный такой, пожилой, интеллигентный, жена – художница, две маленькие дочери. Витя его потащил в баню и девок туда заказал. Так этот партнер ни в какую. Я женат, я приличный человек, да ни в коем случае. У меня типа принципы и все такое. Витя ему говорит: да сходи ты с ней, ничего страшного, она только массаж тебе сделает, всего и делов-то. Он пошел с ней в эту… как ее… комнату отдыха… А когда вылез оттуда где-то через час – у него было такое счастливое лицо, что Витя даже испугался. Тот потом еще два месяца чуть ли не каждый день звонил – благодарил. Смотри лучше, какая смешная фамилия.
Катя кивает головой на здание.
– Чего? – я вдруг чувствую, что совершенно перестал соображать.
– Фамилия, говорю, смотри, какая смешная!
Я поднимаю голову, смотрю туда, куда она кивает. На белой стене – круглая мемориальная доска, похожая на медаль, сильно увеличенную в размерах. Англичане такого высокого мнения о себе, что награждают не только знаменитых людей, но и дома, за то, что в них жили эти знаменитые люди. А потом, наверное, снова людей за то, что они жили в таких знаменитых домах. На этой медали, которая привлекла внимание Кати, написано:
LORD ELDON
1751–1838
LORD CHANCELLOR
LIVED HERE
– Интересно, кто это? – спрашивает Катя со смешком. – Ну и фамилия! Елдо́н! Ты бы хотел прожить жизнь с такой вот фамилией?
– Мне моей собственной, – говорю, – хватает. Проблем – выше крыши… По четыре раза диктовать приходится. Пошли лучше ресторан искать.
Я тяну ее за рукав, но Катя не двигается с места. Какие у нее все-таки красивые губы…
– Слушай, милый, а если бы тебе предложили взять фамилию Елдон, ты бы согласился?
– Он – Э́лдон, – говорю и тянусь к ней, чтобы поцеловать. – И ударение на первый слог.
– А мне больше нравится думать, что Елдо́н! – Катя несильно отталкивает меня. – Представляешь, сколько у него было, наверное, баб? У Елдо́на?
Я шумно выдыхаю.
– Ладно, пошли, – Катя резко берет меня под руку. – Он, наверное, умер, перетрахавшись, и на похороны явились все его жены и любовницы.
Ага. И мир был благоговейно потрясен…
Из-за поворота нам навстречу выезжает высоченный двухэтажный автобус красного цвета.
– Катя, – я стараюсь говорить как можно спокойнее, не раздражаясь, – ты не заметила, что наши с тобой беседы становятся в последнее время все более интеллектуальными?
– Милый, не хами. Лучше скажи, ты хотел бы так умереть?
– Отчего он умер? – спросил мужчина, который стоял за мной. В тот день мы хоронили Петра Алексеевича. Была зима, вернее, ранняя весна с небом – как всегда, сырым – и дождями, простудная, сопливая. Еще было старое ленинградское кладбище с проржавевшими оградами, покосившимися от времени крестами. И этот извиняющийся мужской голос.
Пришедших проститься с Петром Алексеевичем было немного. Родственники и близкие друзья у свежевырытой могилы с тревогой наблюдали, как рабочие, матерясь про себя, делают свое дело. Остальные стояли в отдалении, поодиночке, парами или небольшими группами; кто-то бродил неподалеку, исследуя соседские захоронения.
– Отчего он умер? – спросил у меня за спиной пожилой мужчина.
– Будто сами не знаете, – язвительно ответили ему женским голосом.
– Нет… понятия не имею…
Женский голос сделался тише и перешел в еле различимый шепот. Разобрать было невозможно. Я стоял к ним спиной и не решался обернуться.
– Отчего-отчего, – ворчливо вмешался в разговор кто-то уже третий, судя по голосу, человек молодой. – Вам еще выяснять не надоело? Вон, посмотрите, на венках все написано для непонятливых. От дорогих коллег, от детей, от друзей.
Эти слова произносились строго, обстоятельно и в то же время с каким-то назидательным добродушием.
– Только вот скандала не устраивайте, пожалуйста, Герман Умаралиевич! Ладно? – попросила женщина, теперь уже громко. – Уважайте память!
– Вы тоже уважайте, – спокойно ответил тот, кого назвали “Германом Умаралиевичем”. – А скандалов я никогда не устраиваю, и вы это прекрасно знаете. Я – скромный ведантист и вполне еще в себе.
Рабочие тем временем опустили гроб с тем, что осталось от Петра Алексеевича, в могилу и стали забрасывать его землей.
Похоже, подумал я, этот Герман Умаралиевич как-то связан с Петром Алексеевичем или учился у него, раз он рассуждает про состояние-в-себе, для-себя, для-других. Это были любимые выражения Петра Алексеевича. Он нас учил, что Бог всегда в-себе, что он абсурден и странен, что настоящий философ тоже должен быть философом-в-себе и непременно прожить свою судьбу, именно свою, а не чью-нибудь. А кто же тогда философ-вне-себя? Наверное, подумал я тогда на кладбище, какой-нибудь французский интеллектуал вроде Батая, который все философские вопросы решает, одной рукой держась за томик Маркса, а другой копошась у себя в трусах. “Да что они вообще умеют, эти французы, эти Батаи, Делёзы, Бодрийяры?” – думалось мне. Решительно ничего! Разве что завтракать на траве с голыми уродливыми тетками.
– Ладно, – примирительно сказала женщина. – Давайте помолчим. Может, вы и правы, Герман. И так уже тошно от всего этого…
Я прекрасно знал, отчего умер Петр Алексеевич. И все, кто пришел с ним проститься, тоже знали. Они смущенно смотрели себе под ноги, прятали улыбки, перешептывались. Я даже слышал, как по дороге на кладбище его дочь, грузная дама лет сорока, одетая сдержанно, по-европейски, в сердцах сказала:
– Он даже умереть прилично не сподобился! Сделал из себя посмешище!
Возможно, так оно и было. Петр Алексеевич умер в постели проститутки в публичном доме на Рубинштейна. Принял порцию виагры, чтобы все как следует получилось, отправился в публичный дом, куда он всегда ходил, и сердце не выдержало. Когда приехала скорая, он уже не дышал.
С тех пор, как он скончался, меня не отпускала мысль: зачем ему все это понадобилось? Эти шашни со студентками? Этот публичный дом на Рубинштейна? Эта виагра и эта проститутка, причем всегда одна и та же, как выяснило следствие. Ведь он не был старым развратником и всегда, сколько я его помню, добродушно потешался над коллегами, позволявшими себе подобное. Видимо, потом что-то изменилось. Но смерть Петра Алексеевича, как ни странно, пошла всем на пользу, она избавила нас, его учеников, от чувства вины, от комплексов, от фатального ощущения собственного несовершенства, которые мы испытывали в его присутствии. Все даже как-то свободно вздохнули, словно в одночасье получили от какого-то высшего разума прощение.
Его супруга, милейшая Агнесса Ивановна, умевшая, как заправский повар, варить солянку, скончалась где-то в 91-м, сразу, как у нас начались либеральные экономические реформы, а дочь спустя два года уехала по контракту в Данию и там вышла замуж за корейца. Дочь приезжала редко – он сам нам об этом говорил, – чаще звонила, звала к себе, в Европу, ёрничала:
– Ну что, папаша, ты все еще любишь свою говнородину – или все-таки к нам переедешь, в нормальную страну?
Петр Алексеевич отшучивался, по его собственному признанию, как правило, неуклюже. Говорил, что он не король Лир, что свое царство не отдаст. Уезжать он не хотел, но то, что происходило вокруг – в стране, на факультете, на кафедре, – оптимизма ему не добавляло. Профессорской зарплаты едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Его знаменитый некогда семинар посещало все меньше и меньше студентов, а те, что появлялись, приходили сюда из-под палки, по учебной надобности, и дежурно отбывали время, читая под партой детективы. Наука, которой он был предан, которая и так выдыхалась, как загнанная лошадь, замерла, обнищала, стала жить подаянием, милостынями каких-то сомнительных фондов и проворных субъектов с вороватыми физиономиями. Коллеги превратились в хитрожопых дельцов, ловко работающих локтями. Он говорил, что ему стало противно, скучно. В новой жизни, которой жила страна, которой стало жить образование, он ничего не понимал и не желал понимать. Когда в его присутствии заговаривали о “вызовах времени”, о реформах, он только сочувственно морщился.
Помню, когда я, уже молодым преподавателем, с жаром расхваливал либеральное образование, он терпеливо выслушал меня и сказал:
– Понимаете, Андрюша, есть традиция, многовековая традиция, есть опыт мудрых людей и строй науки. Всё это сильнее человека. Традиция вбирает человека в себя и формирует его, у него не спросясь. А вы, я погляжу, – тут он в задумчивости, в своей обычной манере, поскоблил подбородок, – хотите, чтобы человек сам все решал? Как учиться? Чем питаться? Где жить? Так ведь?
Мы сидели в буфете филологического факультета за столиком, предназначенным для преподавателей. К тому моменту я уже сам начал читать лекции – и очень гордился тем, что могу теперь на равных сидеть за этим столиком со своими вчерашними учителями. Было шумно: рядом галдели студенты, за окном рабочие разгружали грузовик и громыхали железом, играло радио, громко трещала, отфыркиваясь паром, огромная кофеварка. Вся эта суета, этот первородный хаос мне нравились – очень хотелось к ним прикоснуться, все увидеть, услышать, прочувствовать – зрелая жизнь только-только начиналась.
– Да, – снисходительно сказал я сквозь окружающий шум и поднял со стола чайную ложку. – Хочу. Если бы я мог сделать выбор, то слушал бы ваши лекции, например, а не всякую ахинею…
– А вы уверены, – добродушно спросил Петр Алексеевич, пропустив мимо ушей мою лесть, – что это была такая уж ахинея?
– Уверен, – твердо объявил я и бросил ложку на стол. Она глухо звякнула о тарелку. – Еще как уверен!
– Понимаете, – Петр Алексеевич поднял брошенную мною ложку, повертел ее и опустил в стоящий перед ним на столе пустой стакан. – Дать образование человеку – это почти как его родить. А вы, кажется, хотите невозможного… Чтобы он сам себя родил. Взял и на ровном месте родил.
– Почему это невозможно? Вот Лао-Цзы, например… – я откинулся на спинку стула и победно посмотрел на него. – Взял и сам себя родил.
Петр Алексеевич нахмурился и покачал головой. Неуклюжим дрожащим движением ладони пригладил седую челку. Волосы лезли ему в глаза.
– Бог создал человека… – начал он ответственно.
– По образу и подобию? – иронично перебил я его.
– Это маловероятно… Но он знал, что ему дать: две руки, две ноги, два глаза. Понимаете? Печень, почки, селезенку…
– Коллеги! Вы уже поели?! Может быть, другим уступите место? – возле нашего стола остановилась пожилая низкорослая бабуля, преподавательница французского. В руках она держала поднос. Ее физиономия, яичный желток, выражала академическую укоризну.
– А теперь представьте, – сказал Петр Алексеевич, поднимаясь, его узкие глаза в удивлении округлились, – что человек сам себя создает. Причем с нуля, с рождения. Не имея ни малейшего понятия об анатомии. Представили?
Он растерянно развел руками. Я тоже встал со своего места и принялся собирать нашу посуду на поднос.
– Вот он выберет один глаз вместо двух, одну руку и два рта, например. Давайте я вам помогу, Андрей?
– Спасибо, я уже…
Мы направились к столу с грязной посудой.
– Надо же о других думать! – сказала нам вслед преподавательница французского. – Хотя бы иногда!
– Так вот, – продолжил Петр Алексеевич. – Выберет все это, а про почки с печенью забудет. И кем этот ваш либеральный человек получится? Калекой… Понимаете? И при том, что самое ужасное, самодовольным, глупым калекой!
Круглое мясистое лицо Петра Алексеевича, всегда такое живое, вдруг болезненно дернулось. Мне даже показалось, что у него в глазах блеснули слёзы. Но это упрямство раздражало. Сделалось обидно. Мы, его ученики, всегда гордившиеся учителем, только-только начали что-то новое – а он взял и плюнул в нас.
– Знаете что? Вы рассуждаете как реакционер! – объявил я и поставил поднос на стол с грязной посудой. Мы подошли к выходу, и я пропустил Петра Алексеевича вперед.
– Нет уж, после вас, – улыбнулся он, и я прошел первым.
– Мир меняется, – раздраженно сказал я, когда мы вышли в коридор. – Вы же сами нас учили, что Бог – это время, что дух являет себя в разное время по-разному и что даже откровение надо принимать сообразно времени. И не следовать букве…
Разговаривать дальше не было никакого смысла. Я видел, что он не согласен, что слушает с какой-то обреченной покорностью, и, сославшись на неотложные дела, поспешил откланяться.
– Хоть звоните или заходите, – сказал он на прощание, тепло пожимая мне руку.
Но я не звонил и не заходил.
Почему его жизнь закончилась так нелепо? Наверное, он ходил туда, в этот публичный дом на Рубинштейна, к этой проститутке в желании обрести хоть какой-то контакт с настоящим, который мог для него возникнуть разве что из лживых, купленных, бесстыжих слов, жаркого шепота, раздвинутых ног, выбритого межножья. Какая-никакая, а все-таки связь с реальностью, с городом, в котором он жил. Может, так и надо умереть? В блудилище, как фон Зон, а не в Венеции, как Ашенбах? И только затем, чтобы стать всеобщим посмешищем, чтобы мир ни в коем случае не был благоговейно потрясен.
Похороны завершились дежурными словами скорби о самоотверженности покойного, о его преданности науке, о том, что он был большим ребенком. Потом все, удовлетворившись скорбью, направились к выходу, к проржавевшим воротам, гостеприимно распахнутым, а за ними стали прощаться, разбредаться в разные стороны.
Я пошел вместе со всеми и тут же за воротами увидел Татьяну Васильевну Белову, ученую даму, известную всему Петербургу и всей Москве. Она занималась проблемами головного мозга, и ее часто приглашали на телевидение. Седая, умудренная опытом и годами, острая на язык, она нравилась решительно всем. Даже своим врагам, коих было немало. Мы часто виделись на разных конференциях, и я подошел поздороваться. Белова курила в компании незнакомого мне крупного молодого мужчины, одетого в кожаную куртку и черные джинсы, крепкого, коротко стриженного, круглолицего, с восточными глазами, очень глубокими и темными.
– Вот, встречаемся по такому грустному поводу, – приветствовала она меня. Я заметил, что, несмотря на сильный ветер, ее пальто было расстегнуто.
– Герман, – настороженно отрекомендовался мужчина, и я сразу узнал тот самый голос, обладатель которого полчаса назад объявил себя ведантистом.
Мы пожали руки, и я назвал свое имя. Сказал, что ходил в семинар Петра Алексеевича.
– Тоже ходили? – обрадовался Герман. Он энергично потушил сигарету о решетку и бросил окурок в урну. – А, так я вас, кажется, знаю. Вы – Арсланьян?
Я улыбнулся и покачал головой. Белова засмеялась и стряхнула пепел.
– Ой, простите, – смутился мой собеседник. – Я вспомнил – Айрапетян. Точно, Айрапетян.
В голове сразу возник образ молодого армянина, то ли писателя, то ли массажиста, крепкого, по-крестьянски сбитого, как этот Герман, но почему-то невысокого роста.
– Холодно, – сказал я. – Моя фамилия…
Но тут у Германа зазвонил телефон. Он виновато кивнул нам с Беловой, поднес трубку к уху и, отвернувшись, заговорил:
– Да, Захар… Филатов подтвердил… Да… Мы все едем. Рудалёв, Абузяров… Алиса, само собой… Снегирев, Рома Сенчин. Ага… ну, давай, пока. Увидимся в Липках.
Он дал отбой, сунул телефон в карман куртки и повернулся к нам.
– Приятель один звонил, – пояснил он. – Из Нижнего… Вместе едем на семинар…
– А знаете, сколько лет мы с Петром были знакомы? – перебила его Белова. Она потушила сигарету и принялась застегивать пальто, одну за другой огромные пуговицы. Закончив, безнадежно махнула рукой. – Люди и не живут столько!
– Татьяна Васильевна! – вдруг взволнованно заговорил Герман. – Скажите, неужели человек умирает, и на этом всё? И никаких последствий, никакого там воссоединения с космическим разумом, вообще ничего?
Белова покачала головой.
– Вопрос, конечно, не совсем по адресу, – сказала она после секундного раздумья и показала глазами на небо. – Но я, знаете, в силу специальности хорошо себе представляю, что́ происходит в голове у человека. Там такое… – Она махнула рукой. – И если всё, Герман, происходит, как вы говорите, и человек исчезает бесследно, – то это какая-то чудовищная насмешка. И главное – непонятно, зачем и кому все это надо…
– Кому надо?
– Катя, я не знаю… Не знаю! Надо – и всё! Мы все должны жить там, где родились и выросли. Элиот, кстати, тоже так считал.
– Кто считал?! – на ее гладком ухоженном лице появляется презрительная гримаса. – Нет, ты мне по-человечески объясни: зачем? Мы тебя приодели, ботинки тебе купили новые, куртку, рюкзак кожаный. Ты здесь хоть на человека стал похож. Вон, даже цвет лица лучше стал. Зачем тебе туда…
– Туда? Это “туда”, между прочим, наша с тобой…
– Ой, помолчи лучше.
Сейчас утро. Катя сидит в кресле в одном халате, будто бы на троне, спину держит ровно, отражаясь в приоткрытой полированной дверце вишневого шкафа, старого, громоздкого, как и вся остальная мебель в нашей съемной квартире, как этот дом поздневикторианской застройки, в который мы заселились, как весь Лондон, неуклюже заставленный кирпичными строениями, старинными зданиями и колоннами. Всякая империя, завершая свой жизненный цикл, желает непременно застыть, заморозиться, объявить себя вечной, своими гигантскими размерами и мнимым величием заморочить голову своим обитателям, готовым малодушно ее покинуть. Она берет в свидетели древних, полагается на их вкус, на их мифы, которые мастера, художники, резчики, скульпторы стремятся втиснуть в каждую квартиру, в каждый орнамент.
Лавр, бесконечные ныряющие дельфины, венеры, вылезающие из морей, геркулесы, душащие змей, змеи, душащие лаокоонов, прокны-филомелы, филемоны-бавкиды, одиссеи, энеи, дидоны – всё это тщательно вырезано на всех предметах нашей обстановки, которая выглядит так, будто обосновалась в этом доме на века. Четыре могучих кресла с резными спинками, круглый обеденный стол, напоминающий гигантскую медузу, вертящаяся этажерка и безразмерная кровать для английского ночного отдыха.
Над полкой старинного камина, что напротив широченного окна, картина, точнее репродукция, с древним сюжетом. По ее бокам к стене привинчены канделябры, фальшивые, конечно, но выглядят вполне классически, хоть и с электрическими лампочками. Катя, кстати, несколько раз просила хозяина убрать эту картину – ей почему-то она не нравится, а хозяин все медлит, отшучивается, говорит, что это – лучшая работа Герена.
– She likes Nolde, – виновато пояснил я хозяину, сухощавому брезгливому англичанину, когда он зашел узнать, всё в порядке у миссис. – The colors in their essence. The direct evil emotion[9]9
Ей нравится Нольде. Цвета как таковые. Прямое выражение зла (англ.).
[Закрыть].
Хозяин в ответ только сдвинул брови.
Я не могу взять в толк, почему Кате так не понравилась эта картина. Обычная античная сцена. Слева – мужчина, справа – две женщины. Мужчина – в греческой тунике, в шлеме, украшенном красным гребнем, – то ли герой, то ли беглец, то ли любовник, а может, то, и другое, и третье одновременно. Он что-то увлеченно рассказывает – обе женщины внимательно слушают. Одна, одетая в полупрозрачную ткань, по всей видимости, царица, полусидит на роскошном ложе; за ней – другая, вероятно, служанка или наперсница, в тяжелой одежде, стоит согнувшись, облокотясь на спинку ложа. Мужчина, их гость, судя по расслабленной вальяжной позе – он вытянул вперед правую ногу – ничуть не смущен. Еще на переднем плане маленькая девочка, колонны, шкура льва; на заднем – горы, сползающие в море, и башня, неприлично торчащая вверх на волнорезе. Мужчина – эпичен, женщина – эротична. И во всем – в оттенках, линиях – разлита удивительная не́га. Она проступает сквозь фигуры настолько явственно, что мужчина кажется женщиной или, по крайней мере, женской собственностью, хоть и несостоявшейся.
Катя начинает шарить рукой на полу под креслом, находит пульт и злым, резким движением пальцев давит на кнопки. Экран телевизора тут же загорается. Звука нет, но с кровати, где я лежу, видно, что сейчас опять показывают европейские новости. В Европе ничего нового. Всё как обычно. Два диктора, мужчина и женщина, громко кукарекающие, наперебой рассказывают, что процесс евроинтеграции существенно замедлился. Бельгия легализует гомосексуальные браки. В Париже – забастовка работников аэропорта “Шарль де Голль”. В Сербии и Черногории принята новая конституция. Катя снова давит на пульт, сильно и раздраженно, словно хочет его раздавить. Изображение пропадает.
– Ну чего ты злишься? – говорю. – Мы же можем спокойно вернуться. Ты сказала, что опасность миновала. Нас ведь уже не ищут? Или что?
Катя усмехается и бросает пульт на кровать. Он шлепается рядом с моими ногами.
– Чего смешного?
– Да ты, я смотрю, тут стал стихами разговаривать. Ты сказала, ты сказала, что опасность миновала, – пропела она.
– Я серьезно.
– Что это шумит за окном? – Катя поднимается с кресла.
– Ничего… дождь… Нам пора домой.
– А зря ты, милый, не согласился на девочку, – она произносит эту фразу, словно обращаясь к самой себе, издевательски улыбаясь каким-то хитрым мыслям, которые пришли ей в голову. – А чё, не хочешь в дерьме барахтаться? Святого из себя строишь, да? Васёк, кстати, звонил, сказал, что такую сучку по моей просьбе нашел – пальчики оближешь…
От ее гадкой улыбки мне становится не по себе.
– Вот пусть сам с ней в дерьме и барахтается.
– Ладно, маленький, считай – оценила…
Улыбка пропадает с ее лица. Оно становится серьезным. Катя идет к окну, откидывает занавески и, скрестив руки на груди, замирает, разглядывая улицу.
– Действительно, дождь, – задумчиво произносит она. – Тебе тут что, плохо?
– Да нет…
– Ну, так чего тогда? – Катя поворачивается и смотрит на меня в упор.
– Мой дом – в Ленинграде.
Мне вдруг вспоминается, что, когда я уезжал, власти готовили город к трехсотлетию: чистили фасады, подновляли памятники, и почти все дворцы в центре города стояли в лесах. Скоро, подумал я, их снимут, эти леса, и город предстанет омоложенным, неожиданно посвежевшим, совсем как Катя год назад, когда она явилась ко мне без предупреждения после очередной пластической операции.
– Очень трогательно, – хмыкает Катя. – Слушай, мы сегодня дома будем обедать или пойдем в ресторан?
Она берет с подоконника сигареты, пепельницу, щелкает зажигалкой и закуривает. Потом садится в кресло, запахивает халат и ставит пепельницу себе на колени.
– Катя! Нам надо спокойно поговорить.
– Говори спокойно, я тебя внимательно слушаю.
Я встаю с кровати, надеваю майку, джинсы и сажусь в кресло напротив нее. Жестом показываю, что хочу сигареты. Катя бросает мне пачку и зажигалку. Какое-то время мы оба молчим.
– Мне нужно домой, понимаешь? – я затягиваюсь сигаретой. – У меня там всё…
– У тебя там всё? – Катя иронически морщит брови. – Что – “всё”?
Она стряхивает пепел и смеется. Я тоже в ответ невольно улыбаюсь.
– Всё у него там… Да чего у тебя есть-то?
Я хочу повторить, что там у меня “есть всё”, но язык почему-то не слушается. Курить не хочется. Я сосредоточенно начинаю тушить сигарету. Делаю это очень долго и добросовестно.
– Квартира? – ехидно интересуется Катя. Она издевательским деликатным движением тушит сигарету. – Нет, ты давай мне в глаза смотри! Квартира, значит… Да в нее войти страшно, в твою квартиру! В этот бомжатник…
– Ну, друзья там, коллеги… и вообще, я там нужен…
– Ой! – Катя морщится и коротким движением расплющивает сигарету о край пепельницы. – Милый, не смеши мои уши! Нужен ты там… Как заднице гвоздь в диване! Друзьям на тебя наплевать с высокой колокольни! И родственникам, кстати, тоже… Ты сдохнешь – они только через год заметят… А там ты точно сдохнешь! Очки протри! Ты только на себя посмотри, во что они тебя превратили, эти твои любимые деканы-замдеканы. Весь в болячках, худой, полуслепой – смотреть страшно! Сами рожи наели! Такие, что на фотках не умещаются! Ты что, не видишь? Они у тебя уже изо рта еду вынимают!
– Катя, ну почему вынимают? Может… все образуется. Придет новый ректор – всех уволит…
– Пока что – тебя уволили, а не их. – Катя берет со столика маникюрные ножницы и начинает внимательно разглядывать свои ногти. – Господи! Что у меня…
Возразить тут нечего. Вчера из отдела кадров мне прислали письмо: ввиду вашего отсутствия на работе без уважительной причины мы оставляем за собой право… Короче, уволили. Это было справедливо – я уже больше двух недель не появлялся в университете.
– Ты мне по-человечески объясни, чем тебе плохо в Лондоне? Черт! Порезалась из-за тебя!
Катя подносит к губам ладонь и начинает высасывать кровь.
– Не ковыряй…
– Давай лучше в ресторан сходим, а? Позавтракаем…
– Я… даже не знаю… У нас в самом деле пьют из тебя кровь, но тут, по-моему, еще хуже. Тут ее разбавляют.
– Как это – “разбавляют”? – Катя опускает руку.
– Не знаю… Выпитая кровь восстанавливается, а разбавленная так и останется разбавленной. Я не знаю… Лучше уж бороться за жизнь и проигрывать, чем ее просто поддерживать.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































