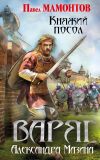Текст книги "Персидский джид"

Автор книги: Далия Трускиновская
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
– Нет, погреб уже последним углубляли.
– Про тот лаз вся дворня знала?
– Вся, все смеялись – вот-де, до государевой казны прокопаемся. Дурачье…
– И по всему Кремлю, поди, весть разнесла?
– Да почем я знаю… за всякой бабой не угонишься…
– Роман Иванович, я тебя сюда не шутки шутить позвал. Соберись с духом и отвечай внятно, – приказал Башмаков. – Могло ли быть, что кого-то твои людишки приводили на двор и показывали тот лаз в погребе?
– Чужих на двор пускать не велел.
– Хорошо. Коли чужих не было, а хозяин ты строгий, стало быть, кто-то из твоей дворни стакнулся с ворами, государевыми изменщиками, а статочно, с твоего согласия. И тем лазом пользовались налетчики, что таскают дорогую утварь из кремлевских храмов, чтобы прятать ее в твоем погребу, а ты… Молчи, блядин сын! – крикнул Башмаков приподнявшемуся над лавкой боярину. – А ты покрывал! Так?
Деревнин только рот разинул – и от внезапного обвинения, и от неожиданной башмаковской ярости. Сам он о пропажах в храмах слышал впервые.
– Нет, как Бог свят, нет! – заорал, вскочив, Троекуров.
Покрывать воров – это ж позору не оберешься, государь в гневе страшен. Хоть и отходчив, а рассудит сурово – не очнуться бы воеводой в Пустозерске или ином городишке за тридевять земель, где и двух сотен жителей не наберется…
– Государь жалобы от иереев получал, да в Земский приказ не отдавал – так получалось, что сами церковные служители виновны, иной никто ключей от храмов не имеет. А теперь вот ниточка появилась! А ниточка-то на твой двор тянется!
– Мало ли под Кремлем ходов понарыто! – выкрикнул боярин.
– Немало, да только след на твой двор привел! Давно ли твой род этим двором владел?
– И отец, и дед…
– А когда до тебя дом перестраивали?
– Когда поляков прогнали, поди. При мне только новый терем возвели да крыльцо, потом еще пристройки.
– Сядь, боярин. Выходит, коли кто и знал про лаз – так те давно померли, и вы его словно заново открыли?
– Выходит, так, – Троекуров опять сел на лавку и сгорбился, словно спина не могла более держаться прямо.
– Кто при том был? Кто погреб углублял? Ты нанимал людишек или свои дворовые копали?
– Чего нанимать – свои дармоеды есть.
– Роман Иванович, я из тебя каждое слово клещами тяну, как лекарь-немец – больной зуб, а ты упираешься. Кто с самого начала знал про лаз? Поименно!
Троекуров задумался.
– Михей, Максимка, Онисий, Ивашка, Никишка, Якушка… Якушка! Он, сукин сын!
– Слава те Господи! – с некоторой укоризной произнес Башмаков. – Что за Якушка? За что ты его, Роман Иванович, невзлюбил?
Боярин будто ожил, выпрямился, глаза сверкнули из-под мохнатых, в палец шириной, бровей.
– А за то ли мне его любить, что сбежал да и деньги мои унес? Десять рублей с полтиной! Да и иного добра немало уволок. Это уж потом явилось!
– Он знал про лаз, а потом сбежал с деньгами, – уточнил Башмаков. – Ты искал его?
– Как не искать! И в Земском приказе, поди, моя челобитная еще лежит. Потом уж я докопался – он с кем-то сговорился и его с моего двора свели. Ведь и имущество его пропало, один пустой лубяной короб остался. Значит, заранее лопотье свое, и деньги прикопленные, и у меня наворованное вынес, у кого-то спрятал! А там дорогие вещицы были! А потом взял те десять рублей с полтиной, пошел припасы торговать, только его и видели!
– Ключником, что ли, был?
– Ключником.
– Не обессудь, Роман Иванович, а про Якушку я твоих дворовых людей буду спрашивать. Коли подтвердится – твое счастье, – жестко сказал Башмаков. – Ты тут побудь, а я пойду распоряжусь.
– Мне, боярину, тут веры, стало быть, нет?!
– У нас в приказе одному государю вера, про то ты сам, поди, знаешь.
Ничего более не объясняя, Башмаков сделал знак Деревнину и, взяв у молоденького подьячего запись, вышел с ним в горницу, где сидели его люди. Там он подробно объяснил подьячему, какой розыск следует произвести тем людям Земского приказа, что уже занимались всеми печальными приключениями на троекуровском дворе – и смертью младенца, и исчезновением боярыни с приказчиком.
О пропавшей церковной утвари Деревнин спросить побоялся – нюхом чуял, что не стоит.
– Есть ведь у тебя такие люди? – полюбопытствовал Башмаков, пока другой подьячий перебелял троекуровскую сказку.
– Есть такой человечек… – и Деревнин тяжко вздохнул.
Делать нечего – приходилось звать Стеньку.
Отчаянный ярыжка и в погребе том побывал, и в двухъярусном подвале, он знал, какие вопросы следует задавать перепуганной троекуровской дворне, чтобы ясно стало – кто туда действительно лазил, а кто знает с чужих слов, что-де до самых государевых палат прокопаться можно.
Стеньку нашли на торгу, где он, грозясь дубинкой, мирил задравшихся из-за пирога с гнилой зайчатиной мужиков.
Когда он явился в приказ, то получил от Деревнина неслыханные полномочия – идти на троекуровский двор в сопровождении пристава Никона Светешникова, засесть там и опросить всю мужскую дворню об углублении подвала и о бегстве ключника Якушки.
Гордость обуяла Стенькину душу. Первым делом он кинулся к писцам. По случаю теплой погоды они сидели без кафтанов, в зипунах и рубахах. Стенька вымолил у писца Гераськи Климова его новый кафтан, здраво рассудив, что красные буквы «юс» и «земля» на его собственном служилом кафтане уважения к посланцу Земского приказа не прибавят, а скорее наоборот – слыханное ли дело посылать с таким важным поручением ярыжку?! Гераська, видя Стенькино волнение, заломил цену.
– Я тебя, голубчика, знаю, ты непременно в синей глине изваляешься!
Сговорились на пяти алтынах, деньги неслыханные – хорошие ичедыги Наталье можно было бы купить, о чем она не раз говаривала! – однако выхода у Стеньки не было. Денег, впрочем, тоже при себе не было, пришлось взять в долг у старого стряпчего Протасьева.
Стенька, торопясь поскорее выполнить поручение, натянул узковатый в плечах кафтан и понесся прочь, не заметив, как переглянулись Протасьев и Колесников.
А переглянулись они, между прочим, одобрительно, и покивали, и усмехнулись. Стенька в горячности своей и не понял, что поднялся на одну крошечную ступеньку по умозрительной приказной лестнице. До заветной должности подьячего было еще далеко – и все же стала она, поди, на целый вершок ближе.
Светешников, мужчина мощный и неторопливый, ворчал и вздыхал, когда Стенька, сгорая от нетерпения, чуть ли не на себе волок его к троекуровскому двору. Наконец прибыли, постучали в ворота, и Светешников громко объявил, что-де розыск Земского приказа.
Их впустили, и Стенька чуть ли не от калитки стал требовать к себе всех, кто был в отобранной от боярина Троекурова сказке, полученной от Деревнина.
Вышел к нему Юрий Троекуров. Выслушал все, пожал плечами – ему-то что, он в этом деле совершенно невинен. В палаты боярский племянник не пустил – в отсутствие хозяина, да в таких отвратительных обстоятельствах, всякий чужой – неприятен и нежелателен. Но в саду была беседка, где развлекались летом троекуровские дочки, Татьяна и Катерина. Туда и отвели Стеньку с Никоном, туда и стали поочередно звать всех, кто в недобрый час взял в руки лопату для углубления погреба.
Стенька восседал на лавке, опоясывавшей беседку изнутри, задавал вопросы, делал пометки на листе, пристроенном на колено, а между делом поглядывал по сторонам. Меж точеных столбиков, подпиравших кровлю, он видел дивные картины – где яблоню в полном цвету, где – вишню, а чуть подальше и повыше – окна терема и перила гульбища. По гульбищу время от времени проходила девка или комнатная женщина. Стенька слыхивал, что обе незамужние боярышни, Татьяна Романовна и Катерина Романовна, хороши собой и содержатся в строгости, даже в храм Божий их редко отпускают, молятся же в домашней церкви. Когда выходят, пряча личико под шелковой фатой, тут же на них все глядят – да что углядишь, коли кругом мамки и няньки, кто подойдет поближе – тому готовы глаза выцарапать. Тоскливо, должно быть, живется девкам в отеческом доме, вряд ли боярин Троекуров посылает, как это в хороших домах заведено, сани или колымагу – звать в гости подружек-боярышень. А теперь – так и вовсе тяжко.
Два часа спустя определились приметы Якушки: лет тридцати пяти, росту среднего, лицом сухощав и рябоват, нос имеет длинный, глаза серые, волосы русые, кучерявые, на лбу рябины особенно заметны, и потому он прикрывает их волосами, а борода хилая, расти не желает. По таким приметам можно было коли не половину, так четверть московского мужского пола хватать и в Земский приказ тащить, и Стенька потребовал иных признаков – шрамов, бородавок, недостающих частей тела, особенностей повадки. Кроме того, он усадил всех – и Михея, и Максимку, и доброго дворника Онисия, и Ивашку, и Никишку – вспоминать, какие были у того Якушки по прозванию Девуля знакомцы, с кем бы он встречался в ближайшем кружале, да не сказывал ли о родне.
Мужчины, посовещавшись, выдали тайну – в дворне у Якушки была полюбовница, да ее взяли за приставы, когда пропало боярское дитя, и жива ли – неведомо. Записав имя и прозвание, Стенька опять стал тормошить и пугать троекуровскую дворню. Светешников стоял рядом, мрачный и грозный, готовый по Стенькиному знаку хватать и тащить.
Наконец Стенька догадался спросить, что выкрал зловредный Якушка перед тем, как сбежать. Знал это Ивашка Михайлов, он был при том, как боярин самолично шарил в шкатулах и поставцах. Пропала большая запона, что к шапке спереди цепляют, финифтяная, с превеликим четвероугольным изумрудом и с четырьмя червчатыми яхонтами, пропали длинные серьги покойной боярыни, с алмазами и лазоревыми яхонтами, унес вор оклад с образа Богородицы, золотой, усыпанный каменьями в гнездах и жемчугом, унес также дорогие парные пистоли немецкой работы и персидский джид, которым боярин в юности тешился…
– Что унес? – переспросил Стенька.
– Персидский джид, – повторил Ивашка. – С бирюзой. Боярин для сынка берег… Думал, сам выучит метать…
Стенька, даже посреди столь важного розыска, то и дело поглядывал на гульбище. Окна в теремах высокие, чтобы выглянуть, на лавку становиться надобно, на гульбище в летний день боярышни сидят с мамками, дядьками, сенными девушками, рукодельничают, поют, слушают сказки бабы-бахарки.
И дождался Стенька – боярышня вышла, одна, без фаты. Ее сразу можно было признать по богатому наряду – сорочки на груди не видно под ожерельями, хотя летник смирного цвета – грешно наряжаться, едва похоронив маленького братца. Белил и румян остроглазый Стенька тоже не приметил. И вышло совсем неловко – когда девушка наклонилась, их взгляды встретились. Как Стенька пытался разглядеть, кто бродит по высокому гульбищу, так боярышне было любопытно, что делается в беседке.
Стенька расправил плечи, приосанился – пусть видит, какие молодцы служат в Земском приказе. И, продолжая расспрашивать Ивашку, исподтишка поглядывал – не ушла ли?
Ему было хорошо видно лицо боярышни – вот повернулась боком, с кем-то незримым заговорила, вот нахмурилась, вот убрала унизанные перстнями пальцы с перил гульбища, подняла руки, чтобы поправить головную повязку.
Ивашка меж тем толковал про иную пропажу – красивую оловянную кружку с крышечкой. И бедная Стенькина голова уже плохо справлялась с делом – он одновременно следил за гульбищем, слушал и записывал приметы кружки, а также сочинял вопросы касательно персидского джида.
Когда он спросил наконец о величине этого оружия и узнал, что в джид входили три джерида, когда уяснил смысл и этого бусурманского слова, на гульбище уже стояли обе боярышни. Та, что чуть выше ростом, очевидно, была старшая – Татьяна Романовна. Та, что пониже, слушавшая ее с покорным видом, с опущенным взором, – младшая, Катерина Романовна. За спиной Катерины Романовны Стенька высмотрел толстую бабу в темной однорядке – возможно, мамку.
Некая мысль зародилась в голове – о боярышнях, но ее тут же стала гнать прочь иная – о персидском джиде.
– С боярышнями нечто важное связано, только вспомнить надобно! – тормошила первая мысль.
– Про джид уже недавно было слыхано, вспоминай, Степан Иванович! – требовала вторая мысль.
А голова-то у человека всего одна!
Первая мысль вынуждена была отступить – Стенька вспомнил-таки, кто ему толковал про джериды с бирюзовыми черенками!
О своем нелепом богомольном походе он никому не рассказывал. Во-первых, чувствовал себя обманутым, а кому охота в собственном позоре признаваться? Во-вторых, сам не понимал причин и возможных последствий этого обмана. Заманили к какому-то деду помирающему, заставили всю ночь в подклете просидеть, ожидая неведомо чего, а что плели про детские забавки, потерянные неким крошечным княжичем? Не такие уж и забавки – ими, коли метко кинуть, человека убить можно…
Судя по тому, что люди, зазвавшие его к себе на двор, гнались за ним до самой Москвы-реки, это были весьма нехорошие люди. Стенька случайно прознал такое, за что они решили его убить. А что это могло бы быть? Только то, что его обманули, не того старца подсунули?
Окончательно измучив троекуровскую дворню вопросами о Якушке и покраже, Стенька взялся вплотную за подземный ход. Тут уж все отперлись – не лазили, вот как Бог свят, не лазили! Стенька не поверил, а как выпытать правду – не ведал. Лазил ли Якушка – никто сказать не смог. Тогда Стенька пригрозил плетями и дыбой. Он был грозен и кричал, как кричали при нем старые подьячие на дураков-свидетелей. Наконец ему выдали того, кто в ход все же забирался. Это был парнишка Максимка. Тут Стенька, тоже по примеру старых подьячих, сменил гнев на милость. Оказалось, Максимка залез неглубоко – испугался и тут же на попятный. Про свое приключение он рассказал доброму дворнику Онисию, а тот запретил болтать языком – мало ли что.
Но слово за слово – стало выясняться, что ход, найденный при углублении погреба, и ход, по коему Стенька ползал, сильно отличаются. Изначально находка была забита всякой дрянью, потому, видимо, ее и не стали закладывать землей – и так сойдет. А потом оказалось, что некая добрая душа тот ход расчистила, и куда подевала вынутую дрянь – неизвестно. Это было вовсе неожиданно, Стенька принялся добираться, когда это обнаружилось, и узнал – обнаружил Максимка года полтора, поди, назад. Но раз ему было велено молчать, он и молчал…
Старательно записав все, что услышал, и даже взмокнув от своего старания, Стенька поспешил в Земский приказ. Никон на прощание обернулся и так нехорошо посмотрел на троекуровскую дворню, что кто-то в отчаянии тихо его обматерил. Но брань на вороту не виснет, этого пристав Светешников наслушался вдоволь, потому нисколько не обиделся.
В приказе Стенька обнаружил Деревнина и сдал ему записи со многими словесными дополнениями. У подьячего от этих дополнений голова пошла кругом, и он поскорее выпроводил ярыжку туда, где ему самое место, – с дубинкой на торг. Стенька вернул тесный кафтан Гераське Климову, надел свой и побежал исполнять службу.
Уже близился конец торга, многие купцы запирали лавки, ворье тоже, статочно, убралось прочь. Делать Стеньке было почти нечего – похаживать да покрикивать. Осознав это, он призадумался – ведь время можно употребить с пользой для розыска.
Тот безбородый Никита Борисович толковал, что ходил по Саадачному ряду, искал персидские джериды с бирюзовыми черенками. И никто-де из купцов ему не продал, хотя такой товар наверняка у кого-то имеется. У боярина Троекурова тоже пропали джериды. Могут ли они, коли где-то обнаружатся, послужить уликой? Точно ли такой уж редкий товар? Может, для Стеньки персидский джид – диковина, а для людей знающих – вещица обыденная?
Ноги сами понесли его в Саадачный ряд.
Купцы отнекивались, и он им верил – все видели, что человек в служилом кафтане, коли спрашивает, стало быть, начальство велело. В шестой по счету лавке ему указали, где может быть такая диковина. Стенька уже понял, что джид, коли его посчастливится отыскать, может служить нешуточной уликой, но пошел и в седьмую лавку – хотелось поглядеть самому, как эта забавка выглядит.
Встретил его купец вида самого разбойничьего – на один глаз крив, нос перебит, на щеке шрам, уходящий в седеющую бороду. С такой рожей не в дверях лавки стоять, похваляясь товаром, а выскакивать из-под моста с кистенем да вести налетчиков на приступ купеческого обоза. До сих пор Стенька этого человека на торгу не встречал, но ведь и в Саадачный ряд редко заглядывал, все больше там, где съестное продают, промышлял…
Стенька осведомился о джидах – вроде бы как приценился. Купец внимательно его оглядел и сказал, что товар редкий, спрос на него невелик, но коли угодно, он отправит сидельца домой, чтобы взял из ларя и принес два джида на выбор. А поскольку живет купец неподалеку, то Стенька может прогуляться вдоль ряда, поглядеть, у кого что, и когда почти все лавки закроются, пусть приходит – купец-де его дождется.
Очень порадовавшись тому, что наконец увидит диковину, Стенька отправился на прогулку. Делать уж точно было нечего – разве что потолковать со знакомцами, которых на торгу было великое множество. Одному он рассказал о купце из Саадачного ряда.
– А, то Ермак Савельевич, – опознал страшную рожу знакомец. – Он в оружии толк знает. Ты, коли что, к нему ступай – и выберет, и присоветует, что тебе, по твоим деньгам, больше подходит.
Стенька вздохнул – когда еще будут по карману те бирюзовые джериды? И неторопливо направился к лавке Ермака Савельевича.
– Ну, ты горазд гулять, мы уж запирать собирались, заходи скорее! – пригласил сиделец Алешка.
– Принес? – спросил, входя, Стенька.
– Да уж принес…
Дверь за Стенькиной спиной захлопнулась. Он резко обернулся и увидел человека, которого охотнее всего встретил бы в храме Божьем на отпевании, лежащим в гробу. Это был Богдашка Желвак.
– Твою мать! – воскликнул изумленный Стенька.
– Твою мать! – повторил не менее изумленный Желвак.
– Ермак Савельевич, точно ли он за джеридами приходил? – спросил оказавшийся рядом с Желваком конюх Данила.
– Точно он. Тут ошибки нет.
– Джид персидский, стало быть, понадобился? – нехорошим голосом и с преотвратным прищуром спросил Желвак. – А ну, говори живо: кто тебя за джидом прислал?
– Никто не присылал, самому надобен! – с задором отвечал Стенька.
– Тебе?! – хором спросили Богдашка и Данила.
– Мне!
Конюхи переглянулись.
– Да ну его, дурака, – вдруг сказал Желвак. – Услыхал, поди, где-то, что есть, мол, такой персидский джид, пожелал увидеть. Он же вечно всюду нос сует…
– Нет, Богдаш, – возразил Данила. – Он неспроста джид ищет. Ты на него взгляни…
Стенька ошалел. Неужто Деревнин прав и у него на роже все как есть написано?
– Ну, взглянул…
– Врет чего-то…
Желвак фыркнул.
– Берем под белы рученьки и ведем к дьяку, – решил он, – пока тот обратно в Коломенское не ускакал. Ночевать в Москве он вроде не собирался. А тащить этого обалдуя в Коломенское – так живым не довезем, я его сам по дороге пришибу…
Сопротивляться было бесполезно.
* * *
Данила появился на конюшнях грязный, как прах, и голодный, как волк. Они таки заблудились с Настасьей в земляных норах. Когда выбрались из ловушки, визг и шум борьбы слышались совсем близко, и первое, что пришло на ум, – нечистая сила кого-то дерет. Мало ли, где у нее в Москве пристанище? Может статься, и под Кремлем – охраняют какие-нибудь сатанаилы закопанный сундук с золотом и чинят расправу над дураком, что полез тот сундук добывать.
Проплутали кум с кумой довольно долго, проголодались, наконец выбрели на одну из подземных улиц, а там уж Настасья сообразила, куда идти. Данила видел, что розыск ни к чему путному не привел, разозлился на куму и, когда она вывела его в дом своего названого деда, оставил ее одну, а сам помчался к Боровицким воротам, благо как раз стемнело и никто не видел его чумазой образины.
Дед Акишев не спал, возился в шорной и, услышав возню у водогрейного очага, взял вилы и пошел глядеть, кто там балуется. В очаге оставалось еще довольно теплой воды, Данила зачерпнул ведерко и старательно оттирал лицо и руки.
– Где ж тебя носило, чадище-исчадище?! – воскликнул дед. – И чей это на тебе кафтан?
– Ох, Назарий Петрович, не спрашивай…
– Ты где так извозился?
Данила утерся рукавом и вздохнул.
– А что, Назарий Петрович, ты на конюшнях уж полвека живешь, ты все знаешь – тут нечистая сила не водится?
– Нечистая сила? А где она тебе являлась? В каком образе? Тимофею вон голая женка мерещилась, – сообщил дед. – Насилу отвадили. Попа звали молебен служить, конюшни святить. Тебя тоже девки допекли?
– Нет, иное.
– Да говори ты толком!
– Визжало что-то под землей, возилось, словно беси воевали, – туманно отвечал Данила.
– Тьфу, я-то думал! – разочарованно воскликнул дед. – Не беси это, а барсуки.
– Какие еще барсуки?
– Такие, что под Кремлем норы роют. Зверь невелик, морда забавная, увалень. Они, бывает, ночью наружу выходят, я их видал. Шуба темная, едва и углядишь.
– Что ж они тут, посреди города, поселились? – спросил ошарашенный Данила.
– А чего ж им тут не жить? Они норы роют, им под Кремлем привольно. Едят мелкую живность, а у нас тут мышей – сам знаешь, особливо у Житного двора. Так коты поверху охотятся, а барсучишки – те под землей. Одно плохо – на зиму спать ложатся, как медведи.
– И выходят наружу? – переспросил Данила.
– Выходят, у них уж места есть. Они умные, в кустах прячутся.
– А человек может барсучьей норой проползти?
– Вряд ли. Хотя вылезть в барсучью дыру может, коли рыхлую землю разгребет. Да ты что, в охотники собрался? Не дури, барсучий мех не в цене, грубый. Откуда там, под землей, хорошему быть?
– Не может быть, чтобы барсуки такой шум подняли…
– Они еще почище шумят – когда у них гон. Это тебе еще повезло… Погоди-ка, дитятко! Где это ты барсуков слушал?
Данила смутился.
– Ты куда лазил?
Ответить было нечего. Врать Данила не любил, а правду сказать – дед за сердце возьмется, плохо ему станет. А дед Акишев уж старенький, его беречь следует.
– Откуда ты такой чумазый приплелся, да еще и барсуки там орали? – продолжал допытываться дед.
– Я не своей волей, – пробормотал, краснея до ушей, Данила. – Это Башмаков велел…
– Башмаков тебе велел под землю лазить? Ох, Данила! Выбрось из головы эту дурь. И я был молод, и мне знать хотелось, что там. Да только ничего там нет, одни норы, иная белокаменная, иная кирпичом выложена. А иная, запомни это, на соплях держится. Вот рухнет тебе на дурную голову! И без покаяния на тот свет пойдешь! Кто тебя отмаливать будет? Один ты!
Дед разворчался, вспомнил некстати, что Данила давно не причащался, а какое давно – на Страстную неделю все исповедались и причастились, и он тоже. Сам-то дед постоянно в церковь ходит, и коли его поблизости нет, уж известно, где искать – в храме Рождества Иоанна Предтечи, что в Боровицких воротах. От конюшен близко, служат там необременительно, не по пять часов отстаивать, деда Акишева в храме знают и уважают. Оттуда он и просфорки приносит, велит утром натощак есть и святой водицей запивать.
Дед проповедовал, а Данила благоразумно помалкивал. Так и вышло, что дед забыл, с чего началось, и погнал Данилу в его каморку – спать. Это было самое разумное, парень улегся, думал – закроет глаза и обретет блаженство, ан нет!
Настасья не шла из ума, из памяти!
Все было не так…
Он позволил ей потащить себя в подземелье не только потому, что дьяк в государевом имени Башмаков велел выпытать у нее правду о княжиче Обнорском. Во-первых, он не мог отступить – она бы сочла его трусом! Во-вторых, он знал, что там они будут наедине…
Или наоборот? Главное – остаться с ней наедине, хоть под землей, в сырых и холодных норах! А ее мнение об его отваге или же трусости – второстепенно?
Данила не знал. Все же он оставался шляхтичем, он все еще ощущал свою принадлежность к русской шляхте Орши, он помнил латынь и уроки сабельного боя, он мог худо-бедно объясниться по-польски. То есть не уронить своей чести перед шальной девкой – это было наиважнейшее. Допустим, чести не уронил, хотя и струхнул изрядно от барсучьих воплей…
Они столько времени провели там наедине! И – ничего… Даже того волнения, с которым она говорила ему зимней ночью о невозможности быть вместе, не было. Она просто взяла его с собой, как взяла бы Филатку или Лучку, чтобы деловито обшарить подземелье. А для чего – так и не проболталась.
Что-то изменилось в Настасье… и в ее отношении к Даниле…
Он и не желал себе признаваться, и чувствовал – был миг, когда Настасья ему принадлежала душой и почти что телом, был – да упущен безвозвратно! А почему – лишь Господу ведомо.
Данила долго перебирал все ее словечки, взгляды, заново прошел теми подземными улицами и переулочками. Ничего не понял…
Наконец он все же заснул.
Разбудил его Богдан Желвак.
Вредный Богдашка принес ковшик воды и брызнул в сонную рожу.
– Не храпи, татарам продадим!
Данила сел и замотал башкой, стряхивая воду.
– Жрать охота, сил нет, – сказал он хрипло. – Чего-нибудь найдется?
– Найдется, поди. Вставай. Правду ли дед говорил, что ты в подземелье лазил барсуков ловить?
– Правду.
– А куму куда девал?
– Барсукам скормил.
Не обращая более внимания на ошарашенного ответом Желвака, Данила встал и побрел на двор по известной нужде. Далась ему кума!
Потом дед приставил всех к делу – пусть лошадей на конюшнях сейчас немного, а обиходить всех надобно. Богдаш объяснил ему, что Данилу бы лучше спрятать, – хотя Башмаков и побывал в Разбойном приказе, однако после этого Евтихеев со товарищи горячей любовью к Даниле не воспылали, и пока это дело не утрясется, лучше бы на глаза Разбойному приказу не попадаться…
Дед очень обрадовался и сказал, что есть у него для Данилы занятие – на весь день, и человек, заглянувший на конюшни, его нипочем не увидит.
– Сам думал полечить Павлина, но пусть Данила приучается! – решил он.
У гнедого аргамака Павлина воспалились глаза. Уж что ему попало под веко, можно было только гадать. Может, пыль, может, сенная труха, а может, укусила какая-нибудь мелкая тварь. У него текли по морде слезы из-под сомкнутых припухших век, ресницы склеил гной, а если приподнять веки, то видно – глаза кровью налились. Поэтому дед отправил правнука Алешку за самой студеной водой, Даниле же выдал ковш коричневого настоя и несколько полос чистого холста. После чего Данилу и аргамака заперли в темном сарае и даже задвинули снаружи засов.
Теперь следовало чуть ли не впотьмах то промывать больные лошадиные глаза настоем, то накладывать на них мокрые холщовые полосы в четыре сложения и поливать их холодной водой. Занятие это было скучное, с аргамаком не поговоришь, и Данила снова принялся перебирать все разговоры с беспутной и зловредной кумой.
Получалось так, что она воистину затосковала о покойном Юрашке, и никто иной ей не надобен. Более года не тосковала – и нате, опомнилась! Черт ли этих баб разберет! Верно Тимофей говорит: бабьего вранья и на свинье не объедешь.
Данила возился с аргамаком в точном соответствии с указаниями деда, и умный конь осторожно брал его губами то за полу зипуна, то за рукав, подергивал, тыкался в ладонь. В иное время Данила бы побеседовал с Павлином, лошади любят негромкую беседу, но сейчас все мысли занимала треклятая кума. Как будто на ней свет клином сошелся! Были же и поцелуи, было и желание, спаявшее их на миг! Она-то забыла, а он все никак забыть не может…
В таком смутном состоянии духа Данила трудился довольно долго. Никто его не искал, никому он не был нужен. А поскольку маяться воспоминаниями о Настасье без перерыва невозможно, так и с ума сбрести недолго, Данила задумался и о деле.
Положим, Настасья искала под землей княжича Обнорского, чтобы посчитаться наконец за своего бывшего полюбовника. Но надо было еще там, внизу, задать ей разумный вопрос: что, это непременно в подземелье сделать надобно? Наверху – никак?
Это – первое. Второе – в погоне за врагом куда только не забежишь, хоть бы и под Кремль, такое понять можно. Но что нужно под землей Обнорскому? Клад он, что ли, там ищет? И вряд ли он шастает подземными норами один – ишь, три пистоля взяла с собой Настасья, пороху и пуль запас, ножи. Полагала, выходит, что может на многих врагов напороться. И все ж полезла…
Что, кроме клада, может быть под землей? Уж не прячет ли Обнорский под Кремлем в каменных мешках каких-то узников? С него станется!
Эта мысль Даниле понравилась, и он стал ее развивать. Узником княжича, бежавшего из заточения и снова собравшего ватагу, может оказаться кто угодно – любой богатый купец, а то и иностранец. Место для заключения – наилучшее. Сидишь в сырой земляной норе и день за днем потихоньку в полной темноте помираешь… А проклятый княжич заглядывает в окошечко и спрашивает: что, будет ли выкуп?
Данила размышлял, а руки уже сами приспособились смачивать холстинку на конских глазах ледяной водой.
Заглянул дед Акишев, наконец-то похвалил за старательность.
– Тебя ищут, – сказал он. – Ивашка-истопник пришел. Это – человек надежный. Ступай. Я сам Павлинку полечу.
Истопник Ивашка ждал тут же, у конюшен. Увидев Данилу, удивился:
– Дьяк и не знал, что ты вернулся! Думал, может, ты оттуда, куда тебя отправили, весточку прислал. Ну, коли так, пойдем.
Оказалось, Башмаков прискакал в Москву. Увидев Данилу, был сильно недоволен:
– Тебе ж было велено при Настасье-гудошнице находиться!
– Я и делал, что велено, – и Данила рассказал про подземное путешествие вкупе со своими домыслами.
– Узник там у Обнорского, говоришь? – Башмаков задумался. – Ну, что она Деревнину не слишком солгала – и то ладно. Быть того не может, чтобы всю правду сказала. Что-то еще ей известно. Ты все припомнил? Ничего не забыл?
Данила задумался.
– Мы там под землей мыкались, где наверху – боярские и княжеские дворы. Может, Обнорский подкоп готовит? Выкрасть что-то хочет? А она – разведать и опять Деревнину донести? Чтобы врага чужими руками погубить?
– Коли бы она только этого хотела, то поболе бы подьячему рассказала. А так – натравила его, как пса, чтобы он, отыскивая убийцу младенца, всюду следов Обнорского искал. Это, Данила, хитрая игра. У нее, как у лисы, сто хитростей в запасе. Узник… Не узница ли?
– Какая узница, Дементий Минич?
– Боярыня Троекурова пропала бесследно. Коли Обнорский вокруг троекуровского двора петли метал, то не он ли ее свел?
– А кой ему прок держать под землей боярыню? И кой прок Настасье ту боярыню вызволять? Может, там иной человек? И покойник Бахтияр того человека искал?
– Не знаю, Данила. Темное там дело. Ладно, коли все сказал, то ступай, да Разбойного приказа пока берегись.
Данила поклонился и вышел из горницы, отведенной Приказу тайных дел. Ему и самому не хотелось еще раз встречаться с Евтихеевым.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.