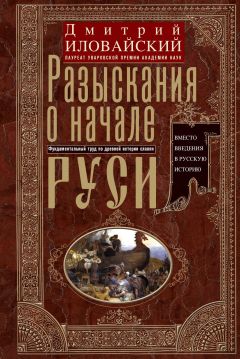
Автор книги: Дмитрий Иловайский
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 45 страниц)
Тмутараканская русь г. Ламбина174
В нашей исторической литературе, особенно в отделе исследований, заметно делает успехи следующая черта (впрочем, заимствованная от других): во что бы то ни стало сообщать своим произведениям внешний вид глубокомыслия и обширной учености. С этою целью они обставляются многочисленными, кстати и некстати приведенными, цитатами и ссылками на источники, а также удивительными соображениями и сопоставлениями; только логика и вообще мыслительная работа остаются в некотором пренебрежении. Авторы их не особенно хлопочут о том, чтобы предварительно вдуматься в факты, проверить известия, перебрать их со всех сторон, выяснить до возможной степени и потом уже приступать к изложению. Последний прием, конечно, потребует более времени и более усилий; но зато и результаты были бы несравненно плодотворнее. Такие или тому подобные мысли иногда приходят нам в голову при пересмотре трудов той исторической школы, которая известна под именем норманизма. Интересно особенно следить за ее усилиями с помощью подобранных цитат, произвольных догадок и не всегда остроумных соображений доказать невозможное, то есть утвердить, якобы на научных основаниях, ту басню, которая служит исходным пунктом норманнской теории. Но результаты всегда будут одни и те же: никакие натяжки не помогут, и для науки басня всегда останется баснею. А наружно-ученая обстановка может сбивать только читателей или предубежденных, или совершенно некомпетентных.
В январской книжке журнала Министерства народного просвещения мы с интересом прочли исследование г. Ламбина «О Тмутараканской Руси», которое, как сказано в оглавлении, представляет отрывок из сочинения «Опыт восстановления и объяснения Нестеровой летописи». Несколько времени тому назад мы имели случай отвечать на возражения г. Ламбина против нашего мнения о несостоятельности норманнской теории (Рус. стар. 1873, сентябрь). А может быть, мы отнеслись к его возражениям несколько сурово; но их тон и содержание давали нам на то полное право. Новый труд г. Ламбина подтверждает за ним репутацию трудолюбивого исследователя; но, увы, он также подтверждает вновь и несостоятельность его теории. Чтобы не быть голословными, передадим сущность этого труда.
Г. Ламбин задался мыслию, что Тмутараканское княжество основано Олегом и его норманнскою дружиною. Первое известие нашей летописи о связях киевского князя с Тавридой встречается в договоре Игоря. Там есть условие, чтобы русский князь не имел притязания на Корсунскую область и не позволял бы нападать на нее черным болгарам. То же условие не воевать Корсунской области повторяется и в договоре Святослава. Это условие ясно указывает на существование русских владений в Тавриде, по соседству с Корсунью, то есть на существование Тмутараканского княжества еще во времена Игоря. Но каким князем оно было основано? В Олеговом договоре о Корсунской стране не упоминается; а этот договор, судя по летописи, заключен в последний год его княжения. Следовательно, договоры не дают никакого основания приписать Олегу начало Тмутараканского княжества. Однако г. Ламбин упорствует в своем мнении и старается подкрепить его рядом совершенно произвольных догадок и выводов. Так, по его мнению, условия о Корсунской стране суть не что иное, как «отдельный трактат, заключенный между русью и херсонцами и включенный в общий договор с греками». Это произвольное предположение, в свою очередь, опирается на другое предположение, точно так же произвольное, о каких-то грабежах и набегах на Херсонскую область, которые русские «дозволяли себе при Игоре» именно потому, что об этой области не было упомянуто в Олеговом договоре (С. 59). Таким образом, обиды корсунцам очень просто объясняются забывчивостию и непредусмотрительностию греческой дипломатии при заключении Олегова договора. Но, в таком случае, условие о Корсунской области в договоре Святослава также предполагает грабежи и набеги. Стало быть, русские «дозволяли себе» эти набеги, несмотря на Игорев договор; а следовательно, при чем же тут Олегов договор? Вот к каким обратным заключениям могут иногда приводить блистательные догадки автора.
Дальнейшие соображения г. Ламбина относительно того, что в статье Игорева договора о Корсунской стране под словами русский князь подразумевается не Игорь, а кто-то другой, представляют такую путаницу, которую в коротких словах передать невозможно. Справедливость, однако, требует прибавить, что посреди этой путаницы встречается и дельное соображение, а именно о черных болгарах: эти болгары не были ни дунайские, ни камские, а должны почитаться кубанскими.
Представим теперь образцы того способа, каким автор восстановляет первоначальный текст нашей летописи. Дело идет все о той же статье Игорева договора. В летописном своде по Лаврентьевскому списку сказано: «А о Корсуньстей стране. Елико же есть городов на той части, да не имать волости князь Руский, да воюет на тех странах, и та страна не покаряется нам». Г. Ламбин, на основании вариантов по другим спискам, восстановляет следующее чтение: «…да не имате волости, князи рустии, да воюете на тех странах, и та страна не покаряется вам». Автору, для его смелой догадки, что в Игоревом договоре речь идет не об Игоре, желательно было слово князь руский обратить в звательный падеж множественного числа. Прекрасно; но каким образом, предполагая здесь разные ошибки в списках летописи, он не видит самой главной и оставляет бессмыслицу? Можно ли читать «да воюете на тех странах»? Выходит, что греки, стараясь оградить Корсунскую область от притязаний русских князей, в то же время позволяют им воевать ее. Каким образом не догадаться, что здесь пропущена частица «не» («да не воюет»)? Этот пропуск очевиден и по дальнейшему условию, чтобы русский князь не пускал черных болгар нападать на Корсунскую область. То же условие не воевать этой области подтверждается и в договоре Святослава.
О черных болгарах в том же договоре сказано: «А о сих, оже то приходить Чернии болгары и воюют в стране Корсуньстей, и велим князю Русскому да их не пущаеть и пакостять стороне его» (по Ипатьевскому списку). Что такое значит «стороне его»? Это место, очевидно, дошло до нас в испорченном виде, и Тимковский если не вполне, то приблизительно исправил чтение таким образом: «Да не пущает пакостить стране той». Но г. Ламбин именно эту-то бессмыслицу и отстаивает. По его мнению, надобно читать: «и велим князю русскому да их не пущает: пакостят и стране его». Выходит, что греки в договоре с русским князем условие о недопущении болгар в страну Корсунскую мотивировали тем, что они вредят и его собственной стране (то есть владению русского князя). Так именно и объясняет нам г. Ламбин. Объяснение, как видите, в высшей степени произвольное; но оно нужно г. Ламбину, чтобы подкрепить свою теорию о положении Тмутараканской Руси. Последняя, по его мнению, находилась в Тавриде, где-то между Корсунью и черными болгарами или хазарскими округами; хотя город Тмутаракань, как известно, лежал на Таманском, а не на Таврическом полуострове.
Далее г. Ламбин делает самое неожиданное предположение. Тмутараканская Русь оказывается у него ни более ни менее как аланское княжество, о котором Константин Багрянородный упоминает в своем сочинении «Об управлении империей». Описание Константина не допускает и мысли, чтобы речь шла о каких-либо других аланах, кроме кавказских. А по мнению г. Ламбина, «О Кавказской Алании у него здесь не может быть и речи». Эта Алания у него оказывается в восточной части Крыма. Тут встречается маленькое затруднение: у Константина говорится, что князь алан может подстерегать хазар на пути к Саркелу, лежавшему на Дону. Относительно народа, обитавшего на северной стороне Кавказа, такое известие понятно; а относительно обитателей Тавриды оно было бы очень странно. Г. Ламбин из этого затруднения выпутывается весьма просто: он предполагает, что у таврических алан были корабли, на которых они ходили в Азовское море, а следовательно, и в Дон. Для полной вероятности такой догадки остается еще предположить, что хазары жили не на восток от Азовского моря, а на запад. Автор исследования согласен, пожалуй, допустить, что Константин тут «спутался» и что известия его «нуждаются в строгой критической оценке»; но то несомненно, «что у него под названием Алании почему-то сокрыта Русь Черноморская». Конечно, при таких наивно-критических приемах сомнение и невозможно.
В числе доказательств, что Тмутараканское княжество основано отнюдь не Игорем, а Олегом, важную роль играют их характеры.
Игорь оказывается князем слабым, ленивым и невоинственным; Олег же имел совсем противоположные свойства. Мы уже имели случай заметить, что иностранные свидетельства рисуют нам Игоря князем чрезвычайно предприимчивым и деятельным, а что Олега история знает только по имени, ибо о делах его у нас нет никаких известий, кроме летописных легенд. Но что могут значить подобные замечания для таких глубокомысленных исследователей!
Дальнейшие рассуждения г. Ламбина представляют все тот же ряд самых произвольных догадок и удивительных соображений, которые передавать мы не беремся. В конце своей статьи он возвращается к известным греческим отрывкам, найденным Газе и помещенным в его издании Льва Диакона. Относительно их г. Ламбин опять позволяет себе все те же вопиющие толкования. Во-первых, оба отрывка он приписывает одному и тому же автору; на что нет ровно никаких доказательств. Напротив, по содержанию их можно прийти к выводу совершенно противоположному. Во-вторых, он думает, что рукопись, в которой найдены эти отрывки, представляет собственное письмо предполагаемого херсонского начальника, что они суть его «черновые автографы». И эта догадка вполне произвольная. В-третьих, по мнению Газе, письмо отрывков принадлежит X или даже XI в.; а г. Ламбин относит их к IX в., и опять совершенно произвольно, единственно для того, чтобы приурочить их ко времени Олега и открыть его в том князе варваров, о котором говорится во втором отрывке. Нельзя же считать серьезными доказательствами те крайние натяжки, с помощью которых автор усматривает «поразительно тесную связь» между двумя упомянутыми отрывками и двумя из писем патриарха Николая Мистика (помещенных в Т. X). Например, у патриарха в одном месте упоминается об опасном пути и благополучном прибытии в «город херсонитов». Г. Ламбин считает это письмо ответным на первый отрывок, где описываются переправа через реку Днепр и трудный поход в город Маврокастрон. Не говоря уже о различии Маврокастрона от города херсонитов, тут не может быть связи и потому, что сообщение Византии с Корсунью производилось морем, а в отрывке говорится о сухопутном походе. Но к каким догадкам и выводам нельзя прийти с подобными критическими приемами!
Г. Ламбин упорствует в том мнении, будто второй из упомянутых отрывков заключает в себе намек на пресловутое призвание князей из Скандинавии. Для большей убедительности он перепечатывает весь этот отрывок в латинском переводе и подчеркивает соответственные с своею целью выражения. Но сколько бы ни перепечатывали данный отрывок, ни один серьезный исследователь не найдет там искомого намека. А что касается до варваров, чуждавшихся греческого образа жизни, сопредельных князю, властвующему к северу от Дуная, и нравами ему подобных, то весьма мало оснований видеть в них таврических готов тетракситов. Эти готы представляли небольшое племя, уцелевшее в горной, южной части Крыма. Они издавна (еще с IV или V в.) исповедовали христианскую религию, и, по всей вероятности, их нравы в данное время совсем не походили на языческую русь. Невероятно, чтобы они возымели к последней более сочувствия, чем к грекам, и передались на ее сторону. Их недружелюбные отношения к руси слышатся еще и в XII в. в Слове о полку Игореве. Отрывок указывает именно на ту часть варваров, которая подчинена нам, то есть грекам. (Хотя тут же оказывается, что подчинение было более номинальное.) Следовательно, была и другая часть этих варваров, грекам не подчиненных. Г. Ламбин утверждает, будто, кроме готов, история не знает никаких других обитателей Тавриды, сходных обычаями с русью. Но прежде нежели делать подобные выводы, следовало уяснить вопрос: какие племена могли обитать в то время в Тавриде? Кроме готов, мы имеем положительные свидетельства о пребывании на полуострове печенегов. Далее, г. Ламбин упустил из виду очень важное свидетельство Прокопия о гуннах, поселившихся в юго-восточной части Крыма, между Боспором и Херсонесом. Эти-то таврические гунны, по нашему мнению, и есть искомый народ.
Дальнейшая борьба о руси и болгарах и русский вопрос175
Дальнейшая борьба о руси и болгарахСлавяно-балтийская теория176
Свою борьбу с норманнской школой по вопросу о происхождении руси мы можем считать почти оконченною. В течение полемики, длившейся около шести лет, она не опровергла научным, систематическим способом ни одного из моих главных выводов и доказательств; но я весьма благодарен ей за некоторые поправки второстепенной важности, а главное – за поднятый ею труд возражений, помогших мне еще более разъяснить шаткость ее оснований. Хотя некоторые представители этой системы и продолжают отстаивать ее с помощью обычных приемов, но такие приемы могут вводить в заблуждение только людей некомпетентных или пристрастных. Например, в последнее время норманизм с особым рвением ухватился за какую-то сочиненную им теорию конных и пеших народов, с помощью которой пытается отвергнуть тождество роксолан и руси. Любопытно главное основание для этой попытки. В I в. по Р. Х. роксолане совершили набег за Дунай в числе девяти тысяч конницы, которая обнаружила неискусство в пешем бою; а в X в., то есть спустя ровно девятьсот лет, русь явилась за Дунай в виде приплывшей на судах пехоты, которая оказалась неискусною в конном сражении. Не говоря уже об огромном промежутке и в течение его происшедших изменениях в народном быте, самые известия о том и другом походе могут быть рассматриваемы только критически, в связи с воззрениями их авторов и со многими другими обстоятельствами. У норманистов же выходит, что присутствие конницы есть прямой признак татарского племени, а пехоты – арийского. Но древние персы, мидяне, даже лидийцы славились своею конницею; парфяне являются самым конным народом; литовцы из своих лесов делали конные набеги на русь еще в XII и XIII вв., и они же пили лошадиное молоко. Разве это все были народы монголо-татарского, а не арийского семейства? А днепровская русь, которая, по мнению норманистов, будто бы в X в. уже не имела конницы, в XI в. имеет ее в значительном числе, по прямым свидетельствам летописца-современника. Первые битвы руси с половцами были по преимуществу конные. «Дай нам оружие и коней; хотим еще биться с половцами», – говорили великому князю Изяславу киевляне, то есть не дружина собственно, а народ. В это же время один только удельный князь Черниговский вышел в поле с трехтысячным конным отрядом и разбил половцев. По указанию летописи, все княжеские дружины и в X, и в XI вв. были конные. А если русские князья того времени нанимали иногда толпы конницы из кочевых народов, то, с другой стороны, они же нанимали и отряды пехоты, особенно из варягов. Раскопки же курганов ясно говорят о русских конниках в XI и в предшествующие века177. Впрочем, постоянно вновь и вновь опровергать все натяжки норманизма представляется делом хотя и нетрудным, зато длинным и довольно скучным. Свою настоящую заметку я посвящаю, собственно, другой системе.
Если доселе я вел борьбу исключительно с норманнской теорией происхождения руси, то потому, конечно, что она была у нас господствующею и имела за собою, кроме укоренившейся привычки, наружный вид строгой научной системы. Другие же теории имели значение преимущественно отрицательное по отношению к этой господствующей, но не представляли такой положительной стороны, с которою можно было бы в настоящее время вести серьезную борьбу. Между ними первое место по количеству и таланту сторонников и по объему литературы занимает теория варягов-Руси, пришедших с славяно-балтийского поморья. Она возникла на началах довольно естественных и логичных. Еще в прошлом столетии некоторые русские ученые (например, Ломоносов) начали сознавать нелепость призвания князей из племени не только чуждого, но и враждебного. Отсюда естественно было перейти к мысли: если новгородцы и призвали себе варяжских князей из-за моря, то не от скандинавов, а от родственного племени поморских славян; кстати же, там была область Вагрия, народ вагиры – почти что варяги. Эта мысль привилась и произвела на свет целую систему, которая блестит именами Венелина, Максимовича, Морошкина, Савельева, Ламанского, Котляревского, а в прошлом году закончилась трудами гг. Гедеонова и Забелина. Эта система, как мы видим, явилась в отпор норманизму; но их исходный пункт один и тот же: обе теории идут от призвания князей, считают его историческим фактом. Наши доказательства тому, что это не факт, а басня, полагаем, достаточно известны.
Г. Гедеонов задумал свой труд «Варяги и русь» еще с 1846 г., следовательно, ровно за тридцать лет до его окончания. Очевидно, этот труд был вызван известным сочинением А.А. Куника (Die Berufung der Schwedischen Rodsen. S.-Petersb. 1844–1845), в котором норманнская система доведена, так сказать, до своего апогея. В 1862–1863 гг. в «Записках Академии наук» г. Гедеонов представил ряд отрывков из своего исследования. До какой степени обнаружились в них эрудиция и логика автора, можно судить по тому, что представители норманнской школы тотчас признали в нем опасного противника и принуждены были сделать ему некоторые довольно существенные уступки. В своих первых статьях по варяго-русскому вопросу мы отдали полную справедливость ученым заслугам г. Гедеонова и его успешной борьбе с норманизмом. Но тогда же мы заметили, что положительная сторона его собственной теории не имеет надежды на успех, поскольку эта сторона проглядывала в отрывках. В настоящее время, когда имеем перед собой уже полный и законченный труд, нам приходится только повторить то же мнение.
Там, где г. Гедеонов борется с доказательствами норманистов, он наносит им неотразимые удары и весьма метко разоблачает их натяжки филологические и этнографические. Казалось бы, норманизму остается только положить перед ним оружие. И это действительно могло бы случиться, если бы автор исследования остановился на своей отрицательной стороне. Но рядом с ней он предлагает принять факт призвания варяжских князей с славяно-балтийского поморья. Здесь-то и открывается слабая сторона исследования; в свою очередь, начинаются очевидные натяжки и гадания. Тут, на почве призвания, норманизму легко справиться с своим противником, имея у себя такого союзника, как самый текст летописи. Что летописная легенда указывает на варяго-норманнов, по нашему крайнему разумению, это несомненно. Летопись знает славянских поморян и лютичей; но нисколько не смешивает их с варягами, которые приходили в Россию в качестве наемных воинов и торговцев; а призванных князей, очевидно, считает соплеменниками этих варягов (что касается до указания на Прусскую землю, то оно принадлежит позднейшим летописным сводам). Предположим, что князья были призваны, и призваны именно из славяно-балтийского народа. Но в таком случае, стало быть, у новгородцев были деятельные сношения с этим народом в IX и X вв.? Однако не только деятельных, автору не удалось показать никаких сношений за это время; вместо фактов мы находим одни предположения, ничем не подтверждаемые. Например, летопись говорит, что Владимир в 977 г. бежал «за море», откуда через три года пришел с варягами. Она ясно говорит здесь о варягах-скандинавах; саги исландские также рассказывают о их службе у Владимира. Однако автор исследования отсылает Владимира куда-то на славянское поморье и его трехгодичному пребыванию там придает большое значение. Так, из Вендского поморья Владимир вывез особую ревность к языческой религии (С. 350) и поклонение Дажьбогу (хотя его имени мы и не встречаем у поморских славян), откуда же он, по-видимому, привез на русь «или готовые уже изображения богов, или по крайней мере вендских художников» (С. 353), и даже чуть ли в ту же поездку не заимствовано оттуда слово пискуп (С. 312). Если же наши князья клялись Перуном и Волосом, а не Святовитом и Триглавом, то они поступали так по политическим соображениям (С. 349). Точно так же гадательны все те «следы вендского начала», которые автор пытается отыскать в языке, праве, обычаях и общественном устройстве древней руси. Приведенные на эту тему факты и сближения указывают только на родство славянских наречий и племен, а никоим образом не предполагаемое вендское влияние. В XII в. упоминаются в Новгороде заморские купцы, построившие церковь Святой Пятницы. Но отсюда еще далеко до возможности видеть здесь вендов, проживавших в Новгороде и принявших православное исповедание (С. 348). Напомним автору, что «гречники» в Киеве означали не греческих купцов, а русских, торговавших с Грецией. Во всяком случае, на подобных догадках трудно возвести какое-либо здание.
Любопытен научный прием, с помощью которого г. Гедеонов находит в русском языке следы вендского влияния. Известно, что древние венды не оставили нам письменных памятников на своем языке. Но так как, по мнению Копитара и Шафарика, полабский язык составлял средину между чешским и польским, то г. Гедеонов и прибегает к этим последним, чтобы объяснить заимствованием от вендов такие встречающиеся в русских памятниках слова и выражения, как: уклад, рало, смильное, свод, вымол, чин, утнет, поженет, кмет, комонь, хоть (супруга), болонь, уедие, яртур, Стрибог, Велес, отня злата стола, свычая и обычая, онако, троскотать, убудити (разбудить) и пр. и пр. Натяжки на мнимое вендское влияние слишком очевидны, чтобы о них можно было говорить серьезно. Этому мнимому влиянию приписывается, между прочим, и то, что принадлежало, несомненно, влиянию церковнославянского языка. А если такие слова, как павороз (веревка), серен (роса) и т. п., в настоящее время утрачены, сделались для нас непонятными и смысл их может быть объяснен с помощью польской и чешской письменности, то это есть самое естественное явление, и нет никакого основания объяснять его призванием варягов с вендского поморья.
Также гадательны доказательства вендского влияния на обычаи. Например, бритая голова Святослава сближается с описанием Святовитова идола и с изображением чехов на миниатюрных рисунках XI и XII вв. (С. 360 и след.); но при этом упускается из виду, что древнеболгарские князья тоже ходили с «остриженными главами». Обычай русских князей и дружины ездить на конях будто бы перешел к нам от вендов, и при этом несколько ссылок на источники, которые показывают, что действительно князья и воеводы у поморян и чехов ездили верхом на конях (С. 367). Да и самые воеводы, с их значением судей и наместников, явились на руси вследствие вендского влияния; ибо «о воеводах у вендов, ляхов, чехов свидетельствуют все западные источники» (следуют ссылки на Мартина Галла, Кадлубка, Богуфала и пр. (С. 390–292). Увлекаясь подобною аргументацией, автор рискует вызвать следующий вопрос: известно, что наши князья и бояре в XII в. обедали и ужинали; не был ли этот обычай принесен к нам в IX в. с Балтийского поморья?
По мнению автора, «Рюрик привел с собой не более трех, четырех сот человек» (С. 172). Цифра, конечно, взята совершенно гадательная; однако выходит так, что эти три-четыре сотни не только устроили государственный быт многочисленных восточнославянских народов, но и внесли значительные новые элементы в их язык, религию и обычаи. Таким образом, г. Гедеонов, сам того не замечая, вступает на тот именно способ норманофильских доказательств, который он столь победоносно опровергает в отрицательной части своего труда. Известно, что норманисты-историки всякое историческое свидетельство, относящееся к Древней Руси, перетолковывали по-своему; норманисты-филологи множество чисто русских имен и слов производили из скандинавских языков; а норманисты-археологи, раскапывая курганы, везде находили следы целой массы норманнов. Такой же ряд натяжек представляет IV глава данного исследования, посвященная призванию. Автор находит даже «темное предание» об этом призвании у арабского писателя Эдриси (С. 137), хотя в приведенной им цитате нет ничего даже подходящего. Мифический Гостомысл является «представителем западнославянского начала в Новгороде» (С. 139). «Вместе с Рюриком вышли к нам и Морозовы» (С. 143. Ссылка на Курбского, как будто на какое-либо несомненное свидетельство. А в примеч. 53 прибавляется, что «Mrozici – древневендский род; откуда взято это прибавление – не сказано; во всяком случае, оно ничего не доказывает). Автор признает существование князей у славян восточных, но полагает, что новгородские славяне предварительно прогнали своих старых князей на юг, а потом и призвали к себе новых с Балтийского поморья (С. 146), и т. д. и т. д.
Но почему же искусный обличитель норманофильских натяжек должен прибегать к натяжкам еще менее состоятельным при созидании своей собственной теории? Очень просто. Потому что он идет от одного с ними исходного пункта, то есть считает историческим фактом басню о призвании варяжских князей. А на этой почве, как мы сказали, норманизм всегда будет сильнее своих противников, потому что летопись говорит о варягах скандинавских, а не вендских, в чем невозможно сомневаться. Варяго-скандинавские дружины X и XI вв. нанимались в службу русских князей не только по известию нашей летописи, но и по свидетельствам иноземным, каковы византийцы и саги исландские. Куда же деваться с этими несомненными скандинавами на руси, о том г. Гедеонов, кажется, и не подумал серьезно. Мы же утверждали и повторяем, что именно присутствие этих наемных дружин, а также дружественные и родственные связи наших князей с скандинавскими (особенно Владимира и Ярослава) и самая слава норманнов послужили поводом к происхождению басни о призвании варяжских князей. О каких-либо славяно-балтийских князьях и дружинах при этом нет и помину. Жаль, очень жаль, что г. Гедеонов, уже 30 лет тому назад задумавший вступить на борьбу с норманизмом, в течение этого довольно долгого срока не напал на мысль: подвергнуть историко-критическому анализу самую легенду о призвании. Напади он на эту мысль, при его несомненном критическом даровании и соответствующей эрудиции, он наверное пришел бы к иным выводам и многое разъяснил бы в нашей первоначальной истории. Хотя окончание его исследования совершено три-четыре года после начала нашей борьбы с данною легендою, но понятно, что уже было поздно вновь пересматривать самые основы большего труда, почти законченного. При этом не могут же главнейшие представители какой-либо системы легко с нею расстаться. И если мы вели усердную борьбу с противниками, то имели в виду не столько убедить их самих, сколько раскрыть их слабые стороны и поставить дальнейшую разработку вопроса на почву историческую (по нашему крайнему разумению). Такие примеры, как Н.И. Костомаров, благородно отказавшийся от литовской теории, редки.
Г. Гедеонов мимоходом упоминает обо мне в предисловии; причем сообщает нечто для меня совершенно новое и неожиданное. Он говорит о каком-то «неподдельном, радостном сочувствии, с которым была встречена норманнскою школою вновь вызванная г. Иловайским к (кратковременной, кажется) жизни мысль Каченовского о недостоверности дошедшей до нас древнейшей русской летописи» (С. IX). Признаюсь, я и не подозревал, что мои противники-норманисты только по наружности ворчали на мою роксоланскую теорию, а что в действительности они ей очень обрадовались. Не знал я также, что Каченовский предупредил меня в систематическом опровержении легенды о призвании князей. Сам я полагал, что могу относить себя к школе историко-критической; но меня стараются уверить, что я только последователь скептической школы Каченовского. Пожалуй, из-за названий спорить не будем.
Затем г. Гедеонов слегка полемизует со мною в первом примечании к своему исследованию. Он не отвечает на мои «общенаучные соображения» относительно несостоятельности легенды о призвании, уверяя, что на них «можно найти готовые ответы у Шлёцера, Эверса, Круга, Погодина и других». Может быть, у этих других, мне неизвестных, и существуют означенные ответы, но упомянутые ученые, как известно, состоятельность самой легенды ничем не доказали, да о ней почти и не рассуждали, принимая ее просто за факт. Г. Гедеонов берет только мое мнение о летописных редакциях: причем приписывает мне положение, что «киевская летопись варягов не знала», что «они плод воображения новгородского составителя» и что второе «извращение древней летописи» произошло в XIV–XV вв. Тут мнение мое передано более чем неточно. Я говорил о том, что легенда в известной нам летописной редакции не сохранила своего первоначального вида – это главное мое положение – и затем что она, вероятно, новгородского происхождения. О последнем можно спорить, тогда как первое я считаю фактом и представил свои доказательства, которых никто доселе не опроверг. Я утверждал, что первоначальная летописная легенда отделяла русь от варягов, а более поздняя ее редакция (не ранее второй половины XII в.) смешала их в один небывалый народ варяго-руссов. Г. Гедеонов такое «умышленное» искажение текста списателями считает «неслыханным, беспримерным фактом»; хотя об умышленном (в нашем смысле) искажении никто не говорил. Подобные возражения со стороны норманистов нас не удивляли; но удивительно их слышать от автора того исследования, которое служит очевидным подтверждением моего мнения об искажении первоначальной редакции. Г. Гедеонов признает русь народом туземным (см. XIII главу), а варягов пришлым с Поморья. Известная же нам летописная редакция, несомненно, понимает варягов-русь как один пришлый народ. Каким именно образом г. Гедеонов объясняет себе это противоречие, из его исследования трудно понять. Вообще он в одно и то же время признает легенду с ее искаженною редакцией и позволяет себе существенные отступления названия русской земли от пришлых варяго-руссов; но исследователь считает это производство домыслом самого Нестора (С. 463), а имя руси ведет от рек. Аскольда и Дира он называет пришлыми варягами; исследователь же считает Аскольда венгром, наместником хазарского хагана, а Дира потомком Кия (С. 492). Приведенных примеров, надеюсь, достаточно, чтобы судить о том, имеет ли славяно-балтийская система какую-либо будущность в нашей науке178.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































