Текст книги "День Ангела"
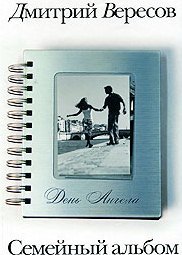
Автор книги: Дмитрий Вересов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Глава 6
Дозвольте мне ликовать, дозвольте мне радоваться, ибо все это могло бы оказаться обманом, если бы не показались уже первые лучи солнца, которое озарит все тайны.
Э. Т. А. Гофман. Повелитель блох
– Мне мерещится, Аврорушка, или розы на картине действительно осыпаются? – слабым голосом спросил Михаил Александрович. Он лежал под капельницей, а Аврора только что вернулась из прихожей, проводив торопившуюся медсестру.
– Вы, Аврора Францевна, иголочку сами выньте, – уже привычно наставляла медсестра Аврору, – а я еще забегу вечерком. – Это означало, что Валентина – медсестра – заявится на ночь глядя, измерит неизвестно зачем давление Михаилу Александровичу и намекнет, что хорошо бы чайку выпить. И у Авроры опять не хватит смелости не понять ее намека. И Валентина засидится до полуночи, тарахтелка, потому что идти-то недалеко, живет она в том же доме.
– У меня голова кружится, – говорил Михаил Александрович, – и поэтому, должно быть, мерещится. И все же взгляни на картину, Аврорушка. Что-то с ней, мне кажется, не так. Чудеса происходят.
Аврора Францевна испугалась очередного симптома, погрустнела, побледнела еще больше, но невольно взглянула на картину, давний подарок случайной знакомой, пожилой, но бодрой и жизнерадостной художницы, которую звали так странно: Рута Ойзенш-Йоон. Михаил Александрович и Аврора Францевна познакомились с ней в незапамятные времена в «Манеже», когда глубокой осенью, в ноябре, разворачивалась традиционная выставка ленинградских художников. «Осенний салон» так называемый. И все – «все» в понимании Авроры Францевны – все посещали выставку, бродили меж стендов и постепенно дурели от обилия идей и красок, эмоций и форм. И редко можно было встретить что-то простое и светлое или просто по-осеннему грустное, без выкрутасов, драпировавших истощенные души живописцев.
Выкрутасы, хотя и не слишком притязательные, изматывали до боли в спине и затылке. К тому же у Авроры Францевны от километров и километров, исхоженных меж стендами и вдоль зала, отекли лодыжки. И они с Михаилом Александровичем, который признавал лишь жанр парадного портрета, а иного понимать не хотел, считая, что ему посредством картины чаще всего навязывают какие-то чужие болячки вроде шизофрении или маниакально-депрессивного психоза, уселись на лавочку у бортика галереи второго этажа. А перед ними оказался этот стенд с розами, сплошными розами некой Руты Ойзенш-Йоон.
Розы в вазах, розы в чашах и богатой россыпью, розы охапками и венками, розы одинокие, розы и птицы, розы и мотыльки, розы и фрукты. Розы белые, алые, розы сияющего атласа и благородного бархата. Мантии шить из их лепестков. Розы невинные и грустные, розы умудренные и поруганные. Зеленые завязи, юные бутоны. Пышные розетки. Никнущие, блеклые создания. И сухой колкий букет. Аврора Францевна подалась вперед и замерла в восхищении.
– Знаешь ли, Миша, – молвила она, – мы все-таки не зря сюда выбрались. Эти розы стоят всей выставки и даже больше. Такая красота. Я никогда и нигде не видела ничего подобного. Она гениальна, эта художница. Глаз не отвести. И знаешь, все такое человеческое. Повесь в доме любую картину, и вот тебе розовый сад. Чудеса и волшебство. Даже засохший букет такой милый.
– М-да, – только и сказал Михаил Александрович, у которого в глазах рябило от этих цветочков, птичек и бабочек.
– Вам правда нравится? – весело спросила немолодая дама в не слишком модных джинсах покроя «полубанан» и в байковой блузе-распашонке. Она только что уселась рядом с Михаилом Александровичем и теперь очень и очень вольно перегнулась через его колени и, глядя из-под седой челки, переспросила Аврору Францевну: – Нет, ей-богу? Вы в восхищении?
– Ей-богу, – в тон ответила Аврора Францевна. – Это… Это просто красиво. Вы понимаете… Их не за что презирать. Наверное, это дурное слово, но, по-моему, тут все картины друг друга презирают. Все пыжатся или истекают желчью на свой манер. Мировая война, а не выставка. А здесь – свежесть и аромат, и всё правда. Они живут, эти цветы.
– Ах, вы мне польстили! – воскликнула дама, потрясая челкой. – Ну так приятно слышать мнение нормального человека, а не какого-нибудь мямли, художественного критика, который будет долго сопеть, мычать и жевать сопли. Разводить бодягу, хитро химичить. Искать высокий смысл, мистическое начало и скрытую символику. Ах, да все же на виду! А критики – это такое горе луковое! Уж поверьте. Они такие знающие и образованные, просто беда. И вот тут уж воистину: от многие знания многие печали. Только печали не им, тонким знатокам, а мне, простой художнице. Ну, вы догадались, конечно, кто я?
Аврора Францевна подняла брови, не решаясь дать ответ. А вдруг она неправильно догадалась?
– Да что тут сложного?! – воскликнула седая дама. – Я и есть Рута Ойзенш-Йоон. Вот пришла на выставку и любуюсь своими несравненными розами. А больше здесь и посмотреть-то не на что, не правда ли?
– Правда, – честно ответила Аврора Францевна.
– Я так рада, – восхитилась Рута Ойзенш-Йоон и обратилась к Михаилу Александровичу: – А вы как считаете?
– М-да, – сказал Михаил Александрович. – По… Пожалуй. – И вжался в спинку скамейки, отодвигаясь от напористой художницы.
– Ах, как я рада! – повторила художница. – И я, конечно же, подарю вам картину. Любую, на выбор.
– Благодарю, – погрустнела в вынужденном отказе Аврора Францевна, – но это неудобно. Вы могли бы задорого ее продать. Зачем же дарить?
– Неудобно? – удивилась Рута Ойзенш-Йоон. – Ах, боже мой. Неудобны совсем другие вещи, и мы с вами знаем какие, не так ли? А продать?.. Если бы я нуждалась, другое дело, а то ведь нет. Я уже лет семьсот не нуждаюсь, хорошо обеспечена. Вот разве что – ах, мой беспокойный характер! – разве что мне на месте не сидится, все хочется менять обстановку, странствовать и делиться с некоторыми милыми мне людьми своим богатым жизненным опытом. Мой опыт свидетельствует, например, что все шкатулки с секретным замком обязательно раскрываются перед развязкой событий. Но это к слову. Так вот, у меня масса недостатков, но я никогда не была торговкой. Поэтому, милая дама, примите в дар картину, весьма обяжете. Клянусь. Слово старой проказливой феи. Я ведь навсегда уплываю в заоблачную даль, как теперь говорят, на историческую родину, в райские кущи – буквально на днях, пора уже, а везти с собою все картины так хлопотно. Да и зачем они мне – там.
И Аврора Францевна, совсем неправильно, то есть в духе того времени, понявшая туманные намеки Руты Ойзенш-Йоон о ее намерениях (тогда все уезжали, такое было поветрие), не устояла, выбрала пышный букет в старинной серебряной вазе. Картина была унесена прямо с выставки и повешена в спальне супругов. А эксцентричную художницу Аврора Францевна и Михаил Александрович больше не встречали, да и не вспоминали о ней, как это ни покажется странным. Картина сразу прижилась на новом месте, картину любили, к картине привыкли, а если с ней с годами и происходили какие-то изменения, то их не замечали, как не замечают изменений любимого лица, разве что взглянут на фотографический портрет многолетней давности.
А вот теперь розы на картине осыпались, по робкому мнению хворого Михаила Александровича.
– Аврорушка, мне упорно кажется, что, когда мы впервые увидели картину, на мраморной столешнице под серебряной вазой лежали лишь два-три лепестка, не больше. А теперь, взгляни-ка, все усыпано. Я отхожу, должно быть, раз такое видится. Не проститься ли нам, пока я в сознании? Ты не плачь пока. Просто посиди со мною, и давай что-нибудь вспомним.
– Мишенька. Миша. Ты никогда не был мистиком, ты всегда был слепым, упрямым, отвратительным реалистом, – плакала Аврора Францевна. – Что такое на тебя теперь нашло? Совсем ты не умираешь. Тебе еще жить и жить. И не хочу я ничего и никого вспоминать. От этого только хуже. И не хочу я вспоминать, сколько там лепестков было, сколько стало. Ах, дребедень какая! Наверное, они с самого начала были, потом это не понравилось, и художница закрасила их, потом со временем они стали проступать сквозь верхний слой краски так же, как и осыпающиеся чашечки. Вот и все. А ты напридумывал, раскис и умирать собрался. Ну, стыдно!
– Так и есть, должно быть. Сквозь верхний слой краски, – вздохнул Михаил Александрович. – А еще знаешь что случилось? Черепаховая табакерка моей няньки, которую с детства храню и никогда открыть не мог, сама открылась, прямо у меня в руках. Помнишь, она говорила?..
– Не помню, Миша, кто говорил и о чем, – покачала головой Аврора Францевна. – А что там было внутри?
– Ничего. Пусто. Только запах табака да чуть табачной пыли в уголках. Взгляни сама, если хочешь… А она говорила, что секретные замочки сами открываются перед развязкой. Или что-то в этом роде. Меня, я сейчас это чувствую, всю жизнь пытались втянуть в какую-то сказку, а я упирался всеми четырьмя, брыкался, огрызался даже… И даже лицемерил, сам того не замечая. Я теперь думаю, не от того, что такой самостоятельный и гордый, а, наоборот, от трусоватости. А теперь от трусоватости вот суеверен стал и жду… развязки.
– Будем ждать хорошей развязки, Миша. Почему ты думаешь, что плохой? – устало принялась успокаивать Аврора Францевна и схватилась за сердце. Как всегда теперь, от неожиданных звуков сердце сжималось, подпрыгивало и начинало трепыхаться в тесной клетке. За стеною вовсю шел ремонт, и после недолгого перерыва опять заколотили, завизжала дрель, что-то загрохотало, обвалившись… И почти одновременно возопил дверной звонок.
* * *
Из клиники Оксана Иосифовна приехала в настроении самом радужном, а Вадим Михайлович, пыхтя спиртовым перегаром, но трезвехонький от ненависти и с квадратными от ненависти же глазами, смотрел врагом, швырнул салфетку за обедом и ушел, не доев и грохнув стулом. Иногда бил кулаком о стол или о стенку, пинал все, что попадалось под ноги, и молчал, прямо-таки палачески молчал, казня весь подлый мир и себя заодно. И тер лицо, потому что ему казалось, что он грязен, что гадкая плесенная зелень расползается у него под глазами и во впадинах бледных щек.
А потом он ушел, не сказавшись Оксане, которая почти струхнула, так как никогда раньше не видела мужа в таком состоянии, а потому не спросила, куда это он собрался. Лишь поджала губы, недоуменно повела плечом и вопросительно взглянула в зеркало: может быть, ее отражение что-то знает и даст ответ? Но и отражение поджало губы и недоуменно повело плечом, в точности как сама Оксана. И Яши не было, чтобы спросить, что такое с отцом. Яша оперился и взял волю и шастает теперь под бледно-голубым осенним небом, нарезает круги. И, вероятно, не один, а со свиристелкой.
А Вадим Михайлович вылетел из гостиницы на Невский и попер против течения, руки в карманах, рассекая толпу. Он шел пешком, так как понятия не имел, на чем теперь поверху можно добраться до Васильевского, а спускаться в метро не хотелось. Он и так света белого не взвидел, а там, внизу, вместо неба черт-те что. Твердь. Рухнет еще на голову, прибьет, а отца так и угробят, залечат, мерзавцы. Сволочи. Нелюди. Нечисть. Погань.
На Дворцовом мосту подхватил его ветер с залива, разбросал полы теплого плаща, растрепал волосы, выжал слезы из глаз и надул в ухо. Нева бликовала и слепила, мост трясся под колесами легковушек и автобусов, под мостом разбегались катера и кораблики, а Стрелка с Биржей и Ростральными колоннами как всегда смотрелась неправдой, ярким миражом, голограммой другого мира. Летела городская пыль, першило в горле, и спасу не было от зловонного дыхания автомобилей.
Вадим Михайлович поднял воротник плаща, поглубже зарылся носом и вспоминал. Вспоминал, как он когда-то, во времена, когда по мосту еще бегали, рассыпая зеленые и синие искры и веселый звон, трамваи, нес через этот мост плетеное кресло-качалку для матери, для ее больной спины, и как она испугалась поначалу, что моментально сделается в этом кресле старушкой с седой улиткой на голове, чтобы соответствовать книжному образу. И как полюбила потом это кресло и уходила от всех проблем, сидя и покачиваясь, с каким-нибудь старым романом на коленях, читаным-перечитаным. Времена тогда были еще счастливые, донья Инес была его звездой… А Оксанка, наверное, в гроб вгонит. Она, как тесто, все поднимается и поднимается, уж и через край пошло, а он завяз изюминкой и размякает, и сомлел, и задыхается в сдобных пузырях. Если бы не Яша… Но Яша уже взрослый, слава богу, и даже приобрел известность.
Вадим Михайлович сошел с дребезжащего моста на твердый, обшарканный многими поколениями гранит набережной. Свернул у Академии наук, миновал институт Отта, где проходил студентом акушерскую практику, затем университетскими задворками вышел в Тучков переулок, памятным проходным двором выбрался на линии. И вот уже рукой подать – от Первой до Третьей. А между ними – узенькая улица Репина, такая незаметная, таинственная и страшноватая по ночам, утекает вдаль, к Неве, вымывая дворовые пещеры и гроты. И высится на Среднем проспекте грязно-желтый псевдоготический собор, нисколько не любимый. Нисколько. И рукой подать до дома с мавританско-голландской башенкой над крышей, не видной с фасада. Сердце обгоняло шаги, понукало, торопило, только успевай. И хорошо одетый человек не первой молодости, с красивой сединой в черных волосах, придерживая солидные очки, чуть не вприпрыжку бежал вдоль фасадов.
Вот знакомая подворотня, и даже ворота починены, вот лестница, крутая и по-прежнему сыроватая, вот последний этаж, вот обитая потершимся дерматином дверь. Старый-старый белый фарфоровый звонок с чуть замазанной синей краской кнопочкой. Вадим перевел дыхание и решительно вдавил кнопку звонка. И услышал из-за двери такую памятную трель. А потом, минуту спустя, и робкие шаги. Клацнул замок – мама никогда не спрашивала, кто там, и все ее ругали, кроме Франика.
– Мама. Это всего лишь я, – сообщил Вадим. – Я не заслуживаю, но ты бы меня впустила, а? Я кое-что важное должен сказать.
– Вадька! Вадик, – запричитала Аврора Францевна, распахивая дверь во всю ширину. – Я и не мечтала тебя больше увидеть. Ты повзрослел наконец. Такой стал… удивительный. Ох! И так крепко обнимаешь. Никогда ты меня так не обнимал, только когда я брала тебя на ручки, а ты боялся свалиться, трус такой.
– А ты не меняешься, мама. Как будто и время не прошло. Все такая же красивая и стройная.
– Я гимнастику делаю. Я обречена на гимнастику, ты же знаешь. Годы и годы гимнастики. Как я ее ненавижу! Но обойтись не могу – день пропустишь, и спина не гнется и болит. А мне сейчас очень нужна моя спина. Мне воз везти.
– Ты об отце?
– Он очень болен, Вадька. Он, наверное, скоро умрет, хотя врачи и врут, что ничего подобного, что ему от страшной болезни помогут какие-то особые капельницы. А ему только хуже, голова болит, и всякое уже мерещится. И мнителен стал, и аппетита никакого… У него страшный диагноз, Вадик. Страшный. А я изверилась.
Губы у Авроры Францевны дрожали, и слезы текли по морщинкам, так привычно текли, что казалось, будто они сами и проложили эти русла. Вадим обнял ее покрепче и тихо сказал прямо в ухо:
– Ну и зря, мама. Потому что все вранье. Все вранье от начала до конца. Я только что узнал. Был в клинике.
– Что?!
– Случайно получилось. Встретил старого приятеля и узнал и про диагноз, и про то, что все вранье.
– Не понимаю, Вадик! – разволновалась до дрожи в руках Аврора Францевна. – Я не понимаю, что ты хочешь сказать…
– Пойдем к нему. Не спит? Я все объясню, мама. А потом, наверное, убью Сеньку Шульмана. И жалею, что по малодушию своему не врезал заодно и Славке. Компромат он копит. Ах ты! И столько денег воруют у несчастных людей! Откуда у вас деньги на такое лечение?
– Вадик!
– Откуда, я спрашиваю?
– Светочка помогает, – пролепетала Аврора Францевна, – она успешная музыкантша. Гонорары… Вадик, а…
– Идем к папе, – перебил Вадим Михайлович, – и я все вам расскажу, дорогие родители.
Михаил Александрович встретил их взглядом строгим и высокомерным, как у матерого орла. Словно с ледяной вершины смотрел Михаил Александрович, с трудом скрывая горечь и разочарование, накопленные за много лет. Иголку капельницы он выдернул сам, трубочка повисла, покачивалась, и раствор из нее капал на пол. Уже маленькая лужица натекла.
– Миша! Вадик приехал, – повысив голос, потому что за стенкой грохотало, сообщила жалобным голосом Аврора Францевна. Жалобным, так как ясно было, что Михаил Александрович зол, разобижен до смерти, стыдится своей слабости и ненавидит Вадьку.
– Папа, – сказал Вадим и поперхнулся на приветствии, таким слабым и больным выглядел Михаил Александрович. Вадим как был, в плаще, присел у кровати. – Папа, здравствуй.
– Тебя никто не звал, – с минуту помолчав, выдавил из себя Михаил Александрович. – Скоро похороны, и мне будет все равно, кто там явится. Тогда и являйся. О чем вы там шептались в прихожей с матерью? Какой мне гроб выбирать? Так я скажу. Фанерный, с кумачом. Дешево и сердито. И на Смоленское меня. К матушке Марии Всеволодовне. Если вам, конечно, не очень сложно. Отпевать не следует – моды не блюду, не крещен и не верую. Засим все. Счастливо оставаться.
– Папа, не торопился бы ты в фанерный с кумачом. Похороны отменяются. Тебе еще жить и жить. Все вранье. Вранье – этот твой долбаный диагноз. Что тут тебе вливают? – посмотрел Вадим на перевернутую бутылочку в держателе капельницы. – И сколько уже влили? – нахмурился он.
– Через день, с небольшим перерывом, вот уже два месяца почти, – сказала Аврора Францевна. – У Миши уже вен нет, один сплошной синяк.
– Убью Шульмана, – проскрипел Вадим. – Это не лекарство, мама и папа, это… чтобы было понято, это полная фигня. И если ты, папа, за два месяца в своем возрасте от этой фигни не загнулся, то запас здоровья у тебя гигантский. До ста лет проживешь и даже больше.
– Вадик, – взмолилась Аврора Францевна, – да объясни, наконец! Что ты все загадками. Я боюсь и не понимаю, и надеяться страшно.
– Все очень просто, папа. Я видел снимки твоей головы. Абсолютно здоровая голова. Чуть-чуть холестерина на стенках сосудов, но, ты знаешь, не больше, чем у иного тридцатилетнего. И это все. Никаких опухолей. Чистенько. А в клинике этой – преступники. Ставят ложные диагнозы, пугают людей и дерут бешеные деньги за якобы лечение. Здоровых людей залечивают! Одним словом, ты здоров, папа. А Шульмана, однокурсничка моего, который там всем заправляет, я убью.
– Что это значит, Вадим? – строго и устало осведомился Михаил Александрович, но неприязнь и горечь ушли из его взгляда, растворились в зыбкой надежде. – Ложь во спасение? Когда уже все бесполезно? Не нуждаюсь.
– Папа, ты здоров! – повысил голос Вадим. – И я не понимаю, почему вас угораздило обратиться в эту клинику!
– Реклама, Вадик, – вздохнула Аврора Францевна. – «Лечим все», видишь ли. А в районной поликлинике ничего такого, как ты понимаешь. Там только таблетки от головной боли прописывали. Но голова-то у папы и правда болит. Жуткие мигрени. Жуткие. До черноты в глазах и полуобморока. Это с той аварии в метро. Вадик? Так папа… здоров?
– Абсолютно. Мигрени мигренями, но по сути здоров. Я как доктор говорю. Я ведь стал хорошим доктором, мама, скажу не хвастая. А мигрени… Это, понятно, осложнение после травмы. Немного потерпим и подберем хорошее импортное лекарство. Вряд ли головные боли совсем прекратятся, но станет легче их переносить. Папа, поверь мне, пожалуйста. И давай выбросим эту дрянь, которую тебе вливают. И не пускайте на порог шарлатанов. Папа…
– Спасибо, Вадька, – прикрыл глаза рукой Михаил Александрович. – Жизнь подарил, да? Спасибо, Вадька. Вот я встану на ноги, и пойдем мы с тобой громить эту клинику.
– Если хочешь, папа. Но теперь она, видишь ли, почти моя. Покупаю я ее, как настоящий буржуй. А шарлатанов выгоню. Да что у вас за шум-гром такой за стенкой? А, родители? Это у тебя от шума мигрени, папа, не иначе.
– За стенкой у нас, Вадик, полный ужас, – заторопилась объяснять счастливая и на радостях сразу помолодевшая Аврора Францевна. – Там квартира с той парадной, с фасадной, что на Четвертой линии. Я ходила, спрашивала. Разнюхивала. Долго ли будет продолжаться и что там вообще творится-то. Ну и разнюхала. Почти. Потому что там тайны Мадридского двора, улыбаются, носами крутят и все скрывают.
Но как же без слухов? А по слухам вот что: квартиру, и даже, кажется, две, купила одна иностранка, и теперь там развели грандиозный ремонт, который называется «реконструкция». Называется, чтобы не запретили ломать стены, я так понимаю. И управы никакой на это безобразие нет и быть, оказывается, не может. Велят терпеть и обещают, что к Новому году все закончится, а грохот и того раньше.
– Боюсь спросить, надолго ли ты, сынок? – с надеждой посмотрел на Вадима Михаил Александрович. А по глазам Вадиму читалось: где же ты раньше был, прохвост такой? Мать вся извелась в тревогах и заботах. Но вслух это, по счастью, произнесено не было, Михаил Александрович помиловал приемного сына. Как, впрочем, миловал всегда, не то что родного Олега.
– Я же здесь клинику покупаю, папа. Навсегда. Разъезжать еще придется, но не век же. Будем часто видеться. Обещаю. Ты меня простил? А ты, мама?
– Ах, все забыто, Вадька, перетерто, пережевано и сплюнуто. Не спрашивай таких вещей. А то ты не знал, что мы любим тебя вопреки всему на свете, – улыбнулась Аврора Францевна.
– Да, да, – закивал Михаил Александрович, все еще немного фальшиво от вросшего, как дурной ноготь, недоверия и обиды – помехи, подлежащей немедленному устранению. Вот только вызывает тошный трепет неизбежная хирургическая боль. И боязно: а не станет ли операция напрасной? Не ложь ли все, не предсмертный ли сон он видит? Но Михаил Александрович положил холодные пальцы на запястье Вадима: – А раскрой-ка, Вадик, окно настежь. Чтобы не пахло больницей. Да осторожней: рамы гнилые. Я, похоже, заново родился, а?
– С днем рождения, папа.
* * *
В узкой протоке за Петровским стадионом, в осенних буроватых сумерках, предвещающих невнятную погоду дня грядущего, октябрьского уже дня, светились окошки плавучего ресторанчика, а редкие гирлянды тускловатых лампочек подергивались на ветру и роняли дерганый желтый свет в холодные темные воды. Ресторанчик под названием «Корюшка» в прошлой жизни был прогулочным теплоходиком и именовался то ли «Сапфир», то ли «Юпитер» – в общем, как-то роскошно именовался, несмотря на свой неуклюжий вид плавучей коробки.
«Корюшка» возраст имела преклонный, краска близ ватерлинии старой чешуей топорщилась на ее боках, и она еще студентами помнила кое-кого из тех, кто собрался нынче отпраздновать юбилейную встречу.
Они изменились, постарели, гораздо меньше ершились и, как видно, с трудом топорщили усталые плавники. Они глотали водку и коньяк, чтобы согреться и выглядеть моложе, чтобы побыстрее растворить жалость друг к другу и к себе, мешающую веселью, чтобы высушить в глазах мутную воду прожитых лет, что залила молодой огонь.
Салаты были жидкими и теплыми, а мясо холодным и пересушенным, ножи, естественно, тупыми, а бокалы и рюмки – толстого дешевого стекла. Но встреча в общем и целом удалась, разогрелась понемножку, раскочегарилась и пошла бесшабашной юлой на часок-другой-третий во всеобщей хмельной любви друг к другу, во всеобщей фантазийной памятливости и сочувствующем взаимопонимании. Узнавали, радовались, удивлялись напоказ, поздравляли и хвастали.
Оркестра не приглашали, так как намеревались музицировать сами, как получится. Сначала кто-то пьяноватыми пальцами прошелся по клавишам не то чтобы разбитого, но разбитного пианино, которое настолько привыкло к трехаккордным композициям, что утратило способность воспроизводить более сложные лирические излияния. Потом на сцену явился Славка со своей ветеранствующей, покрытой шрамами гармошкой, и все подхватили не очень приличные медицинские частушки, как-то после зимней сессии по вдохновению коллективно сочиненные еще на втором курсе.
«Расступись, честной народ: Вася резать труп идет! Смотрит, а у трупа аж четыре пупа!» История была не совсем выдуманная, а того самого Васю Кумовкина, обкурившегося натощак, который ловил по всей анатомичке сбежавшие у трупа пупки числом четыре, сама профессор Шон по прозвищу Потрошон потчевала нашатырем под нос, а затем вывела вон с нецензурным напутствием и больше не пустила. Зачета Вася так и не получил и был отчислен. Потрошон была пристрастна и привечала далеко не всех, а только избранных неизвестно по каким причинам. Вася Кумовкин какое-то время еще обретался в общаге у Гренадерского моста, уныло диссидентствовал, побирался, а потом исчез в сиянии голубого дня – попал под призыв, оказался в Афгане, где кумарил, пока не помер, сам не понял от чего, – то ли от коварной мины, то ли от пули, то ли от дизентерии, то ли от разъедающей мозги дымной травы.
За частушки эти всю группу публично казнили в комитете комсомола и на профсоюзном собрании, поминая через слово Ее Величество Медицинскую Этику. Но все как-то обошлось и замялось, потому что цитирование некоторых особо пикантных строк вызывало у профессионалов, будь они хоть трижды партийные, комсомольские или профсоюзные деятели, условно-рефлекторные смеховые спазмы.
Вечер шел своим чередом, и вслед за подуставшим распаренным Славкой на сцену под белы рученьки вывели хмельную уже после пары рюмок и раскрасневшуюся донью Инес. А за нею с почтением несли ее гитару, норовистую и фигуристую маленькую испаночку с исчирканной декой, покорявшуюся лишь одной хозяйке. Так по-особому она была настроена, в лад с ломко-мелодичным голосом Инны.
Инна вела себя странно, непривычно. Вся в себе была Инна, не похожа на себя в юности. И разговаривала она то ли с собой, то ли со своей гитаркой – рабыней, подружкой, утешительницей, ангелицей-хранительницей. Инна отодвинула стоявший на сцене стул вбок и чуть в глубину, в сень огромной искусственной пальмы, уселась там и погладила лаковый гитаркин бок.
– Ты моя девочка, – себе под нос ласково сказала она. – Мы с тобой как-то даже не всех здесь узнали. И Вадика нет. Кому мы будем петь? Мы Никите будем петь. Вдруг он нас услышит.
Инну всегда по неведомому следу находили какие-то особые, никому не известные песенки, они тихими мышками селились в ее гитарке и не пускали туда разную перхотную дребедень на вечное поселение. Разве что в гости.
Инна завела тихонько то, что пела Никите маленькому:
Уж ты бабушка Улита,
Ты впусти котов в калитку,
Под березой там кровать,
На ней сладко почивать,—
запела Инна и прикрыла глаза, а пальцы привычно перебирали струны, немного рассеянные сегодня.
Та кроватка нова-нова,
А подушечка пухова.
Ветер листья шевелит,
Мой Никита сладко спит.
Спи, малютка, почивай,
Карих глаз не открывай.
Мелодия была простая и мягкая-мягкая – детская постелька, а не мелодия. И пьяненькое вдохновение, хвастовство, и глуповатый кураж, и петушиный задор улеглись вдруг за банкетным столом, будто осыпалось сусальное золото, легло под ноги невесомыми тончайшими чешуйками, и жалко золотишка стало – сил нет. Слушали Инну напряженно и со смущением, но любили ее по-прежнему, пусть и двадцать пять лет уже прошло и она уже не та донья Инес с высоким пластмассовым гребнем под черепаху, а больше похожа на обманувшуюся в любви русалку.
Инна пела негромко, но голос был такой особый, звучный, проникающий, хотя и стал ниже с годами и бедами:
– Вот такая песенка, – сказала Инна как бы сама себе. – А еще есть песня про лягушек. Ее почему-то тоже никто не знает. Никто на свете. Такая уж она заповедная. Можно попробовать спеть, если получится. Вот такая:
У леса на опушке,
Посреди лужайки,
Три старые лягушки
Бренчат на балалайке…
– Нет, не хочу, – прикрыла вдруг Инна струны ладонью, – вы еще квакать станете. А чего хочу, сама не знаю.
– «Марусю»! – потребовал из-за стола Димка Гуров, бывший троечник и брехун, а ныне уважаемый человек и чуть ли не завотделением в «бехтеревке», но Инна помотала головой, рассыпая волосы.
– «Через тумбу!» – выдвинула уж совсем неоригинальную идею Иннина подружка студенческих времен и соседка по комнате в общежитии Галя, до сих пор прозябавшая на «скорой» и сама похожая на широкий, тряский, дебелый автомобиль, увешанный к тому же какими-то плетеными амулетами с бусинками.
– Ну тебя, Галка, – отмахнулась Инна.
– Инесса, – вдохновился Славка, – а давай на пару нашу: «Я в весеннем лесу-у из горла пил „Хирсу-у“…»
– Лучше утопиться, – хрипловато откликнулась Инна и задумалась, высоко подняв подбородок, и стала очень красивой в своем кургузом голубеньком свитерочке и отстиранных по случаю торжества джинсиках. Такой был у нее, пьющей санитарки, парадный наряд.
А Вадим, запоздавший на торжество после встречи с родителями, оставаясь незамеченным, с палубы наблюдал за Инной в квадратное окошко банкетного зала, и будто молодость возвращалась, и прошлые ошибки представали во всей своей красе. Такие ошибки! Глупейшие. Какой она была верной и самоотверженной, а казалась перелетным парашютиком одуванчика, милым, но досадным, когда задержится на рукаве, и вы предстанете в чужих глазах человеком не совсем опрятным. И он тогда, молодой дурак, лицемер и карьерист, винил ее в своих неудобствах и неприятностях. Ему, дураку, казалось, что жизнь его – как это стало теперь понятно, дурацкая тогда и никчемная – пошла под откос, а донья Инес, сама звезда и светлая песня, представлялась бездарной дурищей, маялась своей бездарностью и его заставляла.
Где теперь ее задорный гребень? Потерян, сломан, позабыт. Она и зимой ходила без головного убора, даже под снегом. И снег скапливался вокруг коричневых пластмассовых завитушек маленьким сугробиком, и волосы у нее зимой часто были мокрыми, и ресницы тоже. Трава травой, подмерзшая, но свежая, выходила она из-под талого снега. Умна ли она была? А как трава.
Снег? Какой там снег. Ручейки седины в потускневших, но все еще густых темно-льняных волосах.
Вадим вошел, наконец, в зал, и его приветствовали, и жали руки, и хлопали по плечам, и целовали куда ни попадя, и наливали всего сразу. А он смотрел на Инну, в ее глаза, потерявшие блеск, на ее обиженные жизнью губы, на нездоровый спиртовой румянец и чуть припухшие веки и был почти счастлив.
И она тоже заметила его со сцены, потому что ждала, а, не дождавшись, была не в ударе, до того не в ударе, что хотела уже петь «Сову», а с тем и напиться по-настоящему, и пошло оно все… Но он явился, вообще-то, совсем не нужный. И что вдруг вспомнился и пожелался, словно яркий шелковый платочек, когда-то бывший мечтой и счастливой обновой? И она воспрянула, разулыбалась, а потом погрустнела, за туманом лет не разглядев в нем, как ни силилась, двадцатилетнего мальчишку с вольной вороной челкой, челкой совершенно пленительной.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































