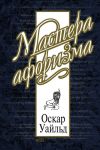Текст книги "Избранное"

Автор книги: Джек Лондон
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 82 (всего у книги 113 страниц)
Теперь между ним и целью его путешествия – Доусоном – оставалось еще пятьсот миль, а водный путь был уже скован льдом. Но с выражением особой решимости на лице Расмунсен бросил все и отправился назад по озерам пешком. Что он перенес на этом длинном переходе, не имея при себе ничего, кроме легкого одеяла, топора и горсти бобов, обыкновенному смертному понять не дано. Только тот, кто хоть раз был захвачен метелью на Чилкуте, или искатель приключений, затерявшийся за Полярным кругом, могли бы это понять. По пути врач отнял ему два отмороженных пальца на ноге, и все-таки он не падал духом, и мы видим его сначала в качестве судомойки на пароходе «Павона» по пути к Пюджет-Саунд, а затем в качестве кочегара на почтовом пакетботе по пути в Сан-Франциско.
Теперь это был уже угрюмый, нечесаный человек, когда его снова увидели ковылявшим по натертому полу Народного банка, куда он явился, чтобы совершить вторую закладную на свой несчастный дом. Его впалые щеки просвечивали сквозь давно небритую бороду, и глубоко провалившиеся глаза светились холодным блеском. Его руки, огрубевшие от непривычной работы и от влияния непогоды, были черными от грязи и угольной пыли. Все время он говорил только о яйцах, льдинах, ветре и волнах; но когда ему отказались выдать под дом более одной тысячи, то он стал лепетать какие-то бессвязные слова, главным образом о цене на собак, о стоимости корма для них и о таких вещах, как лыжи, полярная обувь и сани. Ему прибавили пятьсот долларов сверх второй тысячи, чего, в сущности, не стоил его дом, и вздохнули с облегчением, когда, наконец, он подписал закладную и вышел из банка.
Две недели спустя он опять перебирался через Чилкут, но на этот раз уже на трех санях, по пяти собак в упряжке. Передними санями он правил сам, а на остальных сидели два индейца. На озере Марш они откопали из-под снега яйца и погрузили их на подводы. Но далее не было санного пути. Расмунсен оказался первым, двинувшимся в этом году к Северу на санях; на его долю выпало проложить по снегу первый след и устранить с пути навороченные во время ледостава глыбы. Он часто замечал позади себя дымки чьих-то лагерей, тонкими струйками поднимавшиеся кверху в неподвижном воздухе, и удивлялся, почему другие путники не присоединяются к нему, чтобы ехать вместе. Но он был здесь чужим и ничего не понимал. Не понимал он и сопровождавших его индейцев, когда они старались ему что-то объяснить. Они считали путь очень утомительным, но когда пробовали возражать хозяину и отказывались утром сниматься с лагеря, то он принуждал их к этому, угрожая револьвером.
Когда он провалился сквозь лед близ Белого Коня и вновь отморозил себе ногу, еще не совсем зажившую от прежнего обморожения, то индейцы стали питать надежду, что на этот раз он сляжет. Но он пожертвовал своим одеялом и, обмотав им ногу так плотно и толсто, что она стала походить на ведро, все-таки продолжал свой путь на передних санях. Это было тяжелое мученичество, и индейцы прониклись к нему уважением, хотя тайком от него постукивали себя пальцами по лбу и многозначительно покачивали головой. Один раз ночью они попытались бежать от него, но посланные им вдогонку пули заставили индейцев вернуться. После этого чилкутские дикари сговорились убить его; но он спал всегда чутко, как заяц, одним глазом. Поэтому, спал ли он или бодрствовал, им одинаково не представлялось случая исполнить свое намерение. Часто они старались втолковать ему, что означали дымки, поднимавшиеся в тылу, но он не понимал их и стал относиться к ним еще подозрительнее, чем раньше. И когда они сердились и начинали выказывать неповиновение, то всякий раз он охлаждал их горячие головы тем, что выхватывал револьвер и направлял на них дуло.
Так пробирался он вперед – с индейцами, замыслявшими заговор, с одичавшими собаками, среди трудностей пути, надрывавших сердце. Он вел постоянную борьбу с индейцами, чтобы удержать их при себе; сражался с собаками, чтобы отогнать их от яиц; вел борьбу со льдинами, холодами и с болью в ноге, которая мешала ему двигаться. Едва успевала зарубцеваться его рана, как мороз вновь растравлял и разъедал ее, воспаление увеличивалось, и опухоль стала, наконец, величиной с кулак… По утрам, когда он ступал на ногу, голова у него кружилась от боли, и он едва не падал в обморок; но позднее, среди дня, боль утихала, чтобы возобновиться, когда останавливались на ночлег и он пытался заснуть. И все-таки он, бывший до тех пор простым счетоводом и всю свою жизнь просидевший за конторкой, находил в себе мужество выдерживать все это до тех пор, пока совсем не загнал своих индейцев и не замучил окончательно собак. Ему и в голову не приходило, как много он работал и сколько ему приходилось страдать. Он был человеком идеи, и раз он уверовал в нее, то всецело отдался в ее власть. Его сознание было приковано к Доусону и к тысяче дюжин яиц, и эти два представления его «я» соединяло в одну золотую точку: пять тысяч долларов. Только об этом и мог думать. Во всем остальном он действовал, как автомат. Он был ко всему безучастен. Все, что он делал, исполнялось им с точностью заведенной машины; так же работала и его голова. Поэтому выражение его лица окаменело, и индейцы стали побаиваться его, этого странного бледнолицего человека, который сумел превратить их в рабов и заставил быть соучастниками его безумных поступков.
На озере Ле-Бардж погода резко переменилась. Холод дошел до высшего предела на нашей планете; термометр показывал шестьдесят с лишним градусов ниже нуля. Работая все время с открытым ртом, чтобы легче было дышать, Расмунсен простудил свои легкие, и весь остаток пути его мучил сухой, лающий кашель, который был для него особенно невыносим, когда на стоянках приходилось дышать дымом костра или когда нужно было сверх меры напрягаться. На реке Тридцатой Мили он наткнулся вдруг на полынью, на которой только кое-где виднелись ненадежные ледяные переходы, да у самых берегов держался еще узенький ледок, обманчивый и коварный. Рассчитывать на эти узкие полосы льда было нельзя, но он не желал ни с чем считаться, все еще пуская в ход револьвер, когда индейцы отказывались ему повиноваться. По ледяным переходам, присыпанным снегом, еще можно было кое-как перебираться, если принять меры предосторожности, и вот стали переправляться по ним на лыжах, держа в руках длинные палки, чтобы в случае провала удержаться на них и не утонуть. Перейдя сами, манили к себе собак. И при одном из таких переходов, когда вместо льда оказалась замаскированная выпавшим снегом полынья, один из индейцев погиб в ней. Он быстро пошел ко дну, и стремительным потоком его унесло под лед.
В эту же ночь, воспользовавшись тем, что светила луна, сбежал от Расмунсена и другой его индеец. Напрасно Расмунсен нарушал молчание ночи выстрелами из револьвера: это выходило у него быстро, но не очень метко. Тридцать шесть часов спустя индеец прибежал к полицейскому посту у реки Большого Лосося. А затем переводчик так докладывал своему удивленному начальству.
– Там… там… там какой-то странный человек… как это по-вашему?.. Ну, человек, лишившийся головы! Как? Да, да! Сумасшедший, сумасшедший! Вот именно! Все, понимаете ли, говорит про яйца, яйца, яйца… Он скоро придет сюда.
И действительно, через несколько дней явился туда и сам Расмунсен. Трое саней у него были привязаны друг к другу гуськом, и все собаки впряжены в одну общую упряжь. Так ехать было неудобно, и в тех местах, где дорога была плоха, ему приходилось каждые сани в отдельности выволакивать собственными силами, для чего требовалось очень много времени, не говоря уже о геркулесовых усилиях. Казалось, что он не слушал, когда полицейское начальство сообщало ему, что его индеец уже ушел по направлению к Доусону и, вероятно, находится теперь на перевале, на полпути между Селкерком и Стюартом. Не заинтересовался он и тем, что сама полиция расчистила перед ним путь вплоть до самого Пелли, потому что уже привык относиться ко всем превратностям судьбы, благоприятным и дурным, с фаталистической покорностью. Но когда ему сообщили, что в Доусоне голод усилился до невероятных размеров, он вдруг широко улыбнулся, тотчас же запряг собак и двинулся в дальнейший путь.
Но только на этой последней стоянке и объяснилась для него тайна появлявшихся позади него на горизонте дымков. Когда было объявлено у Большого Лосося, что дорога уже накатана полицией до самого Пелли, то дымки позади сейчас же исчезли. Этого известия только и ожидали. Согнувшись около своего одинокого костра, Расмунсен с грустью увидел, как мимо него стали пролетать одни сани за другими. Первыми промчались курьер и метис, которые помогли ему выбраться на берег озера Беннет; затем на двух санях почта, направлявшаяся в Сёркл-Сити; а потом потянулись всякого рода люди, ехавшие в Клондайк. Все эти люди и собаки были сыты и здоровы, тогда как у Расмунсена собаки были истощены до такой степени, что походили на скелеты, обтянутые кожей. Люди, от костров которых шел в свое время дымок, продвигались вперед не спеша, только через два дня на третий, и берегли свои силы для того, чтобы сразу же ринуться в путь, как только полиция наладит дорогу; он же, не зная этого, каждый день то проваливался, то карабкался наверх, с трудом продвигаясь вперед, и понапрасну терзал и обессиливал своих собак.
Сам он по-прежнему оставался неукротимым. Все эти сытые, свежие люди любезно благодарили его за то, что он для общей пользы потратил столько усилий, прокладывая путь, – благодарили его горячо, но все же не скрывали от него своих улыбок во все лицо и не скупились на насмешки; и теперь, когда он понял, в чем дело, ему оставалось только молчать. Он даже не испытывал горечи. Да и стоило ли? Ведь факт остается фактом, а идея – идеей. Ведь и сам он и его тысяча дюжин яиц были все-таки здесь; а там, вдалеке, ждал Доусон.
Да, задача его нисколько не изменилась.
У Малого Лосося вышла вся провизия для собак; они забрались в его личные запасы и съели их целиком; начиная с Селкерка, ему пришлось поддерживать свои силы одними бобами, грубыми и тяжелыми для желудка, и у него каждые два часа так схватывало живот, что он корчился от боли. Хотя правительственный агент в Селкерке и прибил на дверях почты объявление, гласившее о том, что в течение двух лет ни одному пароходу не удалось из-за льда подняться вверх по Юкону, и потому цена на съестные припасы поднялась выше всякой меры, тем не менее он предложил Расмунсену произвести с ним обмен: за каждое яйцо он предлагал ему по чашке муки. Расмунсен ответил отказом и отправился далее. Где-то на задворках ему удалось купить замороженную лошадиную шкуру для своих собак. Лошади были ободраны еще чилкутскими погонщиками, а остатки от туш и отбросы были употреблены в пищу индейцами. Он и сам попробовал было пожевать эту кожу, но шерсть от нее стала застревать у него в ранках, которыми был усеян весь его рот от бобов, и он принужден был отказаться от этой пищи.
Здесь, в Селкерке, ему пришлось столкнуться с первыми беглецами из Доусона, напуганными голодом, а затем они стали попадаться ему на пути уже целыми толпами; у всех был жалкий, изможденный вид.
– Нечего есть! – говорили все они в один голос. – Нечего есть, и достать негде! Каждый бережет последнюю крошку для себя самого. Мука – по два доллара за фунт, и негде ее купить.
– А яйца?
Кто-то ответил:
– По доллару за штуку, да где их взять-то?
Расмунсен произвел быстрые вычисления.
– Двенадцать тысяч долларов! – сказал он вслух.
– Вы о чем? – переспросил его собеседник.
– Так, ничего… – ответил он и погнал собак вперед.
Когда он прибыл к реке Стюарт, в восьмидесяти милях от Доусона, у него пало сразу пять собак, а остальные еле передвигали ноги. Он и сам едва тащился, напрягая последние свои силы. И все-таки он делал по десяти миль в день. Его лицо и нос, много раз отмороженные, стали темно-кровавого цвета. На него было жутко смотреть. Большой палец, отделенный в рукавице от прочих пальцев, был тоже отморожен и причинял ему сильнейшую боль. На ноге оставалась по-прежнему повязка, и странная боль появилась в голени.
На Шестидесятой Миле кончилась последняя порция бобов, которые он давно уже ел по счету, и все-таки он упорно отказывался от яиц. Ему совершенно не приходило в голову, что он мог их есть, и он шел, спотыкаясь и падая, все вперед и вперед. У Индейской реки какой-то добродетельный старожил подкрепил, наконец, и его самого, и его собак свежей олениной, а в местечке Энсли он почувствовал полную уверенность в том, что с лихвою вознаградит себя за все свои испытания, так как, находясь в пяти часах пути от Доусона, он узнал, что сможет получить по доллару с четвертью за каждое привезенное им с таким трудом яйцо.
С сильно бьющимся сердцем и дрожащими коленями он стал подниматься на крутой берег, на котором были расположены бараки Доусона. Но собаки так устали, что он принужден был дать им немного передохнуть, а сам в изнеможении оперся на палку. Какой-то статный мужчина вразвалку проходил мимо него в громадной медвежьей шубе. Он с любопытством поглядел на него, затем остановился и изучающим взглядом окинул собак и трое привязанных друг к другу саней.
– Что вы везете? – спросил он.
– Яйца, – хрипло ответил Расмунсен голосом, немногим отличавшимся от шепота.
– Яйца? Да что вы говорите? Неужели?
От радости он даже запрыгал на месте, как сумасшедший, а затем пустился в какой-то воинственный пляс.
– И все это одни только яйца? – переспросил он.
– Одни яйца.
– Значит, вы и есть тот самый человек, везущий яйца, о котором здесь так много говорили?
Он ходил вокруг Расмунсена и оглядывал его со всех сторон.
– Нет, вправду, – допытывался он, – вы действительно тот самый человек?
Расмунсен не знал точно, о ком его спрашивали, но, предполагая, что речь шла именно о нем, подтвердил это. Человек немного успокоился.
– А почем вы рассчитываете их здесь продавать? – спросил он с осторожностью.
Расмунсен сразу приосанился.
– По полтора доллара, – ответил он.
– Идет, – тотчас согласился человек. – Отсчитывайте дюжину!
– Я… я ведь это полтора доллара за штуку, – смутился Расмунсен.
– Ну, разумеется! Я не глухой, слышал. Давайте две дюжины. Вот вам в уплату золотой песок!
Человек вытащил здоровенный мешок с золотом, величиною с добрую колбасу, и небрежно постучал им о палку. Расмунсен вдруг почувствовал странную дрожь в желудке, щекотанье в ноздрях и едва мог преодолеть в себе желание сесть и заплакать. Но вокруг стала собираться любопытная толпа, и со всех сторон посыпались требования на яйца. У него не было весов, но человек в медвежьей шубе добыл их откуда-то и любезно стал развешивать золото, в то время как Расмунсен отпускал товар. Началась толкотня, поднялся крик. Каждый желал купить поскорее. И когда возбуждение достигло высшей точки, Расмунсен положил ему конец. Так дальше, по его мнению, продолжаться не могло. В том, что все они так охотно разбирали у него яйца, непременно должно было скрываться нечто, чего он еще не знал. Поэтому, думал он, будет гораздо умнее, если он сперва немного отдохнет, а потом справится с базарными ценами. Быть может, яйца здесь продаются и по два доллара за штуку. Во всяком случае, теперь он уже знал, что дешевле полутора долларов за штуку продавать яйца не следует.
– Стой! – воскликнул он, когда сотни две было распродано. – Больше продажи не будет! Я очень утомился. Мне надо найти себе комнату, и тогда – милости просим, пожалуйте!
Ропот пронесся по толпе, но человек в медвежьей шубе поддержал Расмунсена. Двадцать четыре замороженных яйца уже болтались в его просторных карманах, и его не интересовало, будут ли сыты остальные жители города или нет. Кроме того, он видел, что Расмунсен действительно еле держался на ногах.
– Комната сдается вон там, направо, за вторым углом от Монте-Карло, – указал он ему, – с окошком из бутылочных донышек. Она не моя, но я могу распоряжаться ею. Цена – десять долларов в сутки, дешевле дешевого. Въезжайте прямо в нее, а я вас потом навещу. Так не забудьте же – с окном из бутылочного стекла! Тру-ля-ля! – послышался затем его голос. – Пойду полакомиться яичками и помечтать о родине!
По пути к указанной комнате Расмунсен вспомнил, что ему очень хочется есть, и закупил для себя немного провизии в лавочке Северо-Американского торгово-промышленного кооператива, купил говядины у мясника и запасся сушеной лососиной для собак. Комнату он разыскал без затруднения, оставил собак в упряжи, а сам поскорее развел огонь и стал варить кофе.
– Полтора доллара за штуку… – рассуждал он вслух, не бросая своего дела, и все повторял и повторял свои вычисления. – А всего тысяча дюжин – это составит восемнадцать тысяч долларов!
Не успел он кинуть на раскаленную сковородку свой бифштекс, как дверь отворилась. Он обернулся. Это был человек в медвежьей шубе. Он вошел с решительным видом, как бы для того, чтобы выполнить определенное дело, но, как только взглянул на Расмунсена, тотчас же выражение неловкости появилось у него на лице.
– Видите ли… – начал он. – Видите ли…
И не договорил. Расмунсен подумал, что он пришел требовать с него квартирную плату!
– Видите ли… Э, да черт вас побери совсем, – ваши яйца протухли!
Эти слова ошеломили Расмунсена. Ему почудилось, будто кто-то нанес оглушительный удар в переносицу. Стены завертелись и запрыгали у него перед глазами. Он протянул руку, чтобы за что-нибудь ухватиться, и опустил ее прямо на плиту. Острая боль и запах горелого мяса привели его в себя.
– Я вижу, что вы хотите получить обратно деньги… – сказал он медленно, шаря в кармане, чтобы достать оттуда кошелек.
– Мне не нужны ваши деньги, – ответил человек, – но не найдется ли у вас других яиц, посвежее?
Расмунсен покачал головою.
– Нет, уж лучше возьмите обратно ваши деньги, – предложил он. Но человек отказался и направился к выходу.
– Я еще приду к вам, – сказал он, – а вы тем временем разберите ваш товар, – может быть, там что-нибудь и найдется!
Расмунсен вкатил в комнату чурбан и стал вынимать яйца. Это он делал вполне спокойно. Затем он взял топор и каждое яйцо стал разрубать на две части. Все половинки он внимательно осматривал, а затем бросал на пол. Сначала он брал яйца для пробы из каждого ящика отдельно, а затем стал опоражнивать ящики подряд. Куча на полу все росла и росла. Кофе давно уже перекипел, и дым от сгоревшего бифштекса наполнил комнату. Расмунсен разрубал каждое яйцо без исключения, делал это монотонно и неутомимо, пока, наконец, последний ящик не оказался пустым. Кто-то постучался к нему в дверь раз и другой и вошел.
– Ну и картина!.. – воскликнул гость и огляделся вокруг себя. Разрубленные яйца стали уже оттаивать, и от них пошел отвратительный смрад, который становился все гуще и сильнее.
– Должно быть, это с ними случилось на пароходе, – сделал предположение вошедший.
Расмунсен посмотрел на него долгим, пристальным взглядом.
– Я Муррей, Джим Муррей, – отрекомендовался вошедший. – Меня здесь знают все. Я только что услышал, что ваши яйца протухли, и вот хочу предложить вам двести долларов за все. Они не так питательны для собак, как лососина, но все же пригодятся.
Казалось, Расмунсен окаменел. Он не двинулся с места.
– Идите к черту! – выговорил он, наконец, в тяжелом горе.
– Да вы рассудите! Ведь никто, кроме меня, не предложит вам такой цены за эту гадость, и лучше вам взять хоть что-нибудь, чем ничего. Двести долларов. Ну, сколько же вы хотите?
– Идите к черту!.. – тихо повторил Расмунсен. – Оставьте меня одного.
Муррей, не спуская с него глаз, осторожно попятился.
Расмунсен вышел вслед за ним и выпряг из саней собак. Он бросил им лососину, которую только что для них купил, и стал кольцами навертывать себе на руку ремень от упряжи. Затем он возвратился в комнату и запер за собою дверь на щеколду. Дым от сгоревшего мяса ел ему глаза. Он встал на скамейку, перекинул ремень через балку и измерил длину ремня глазами. Ему показалось, что ремень короток, и он поставил на скамейку стул и влез на него. Он сделал на конце ремня петлю и просунул в нее голову. Другой конец он привязал покрепче. Затем оттолкнул стул ногой.
В бухте Йеддо
Он его потерял где-то на Театральной улице. Помнил он, как довольно грубо пробивался сквозь толпу на мосту, через один из каналов, какие перерезают эту шумную улицу. Возможно, что какой-нибудь ловкий карманный воришка с раскосыми глазами радуется сейчас пятидесяти с лишним иенам, бывшим в его кошельке. А затем он подумал: быть может, он просто его потерял, потерял по небрежности.
С безнадежным видом в двадцатый раз обшаривал все свои карманы в поисках пропавшего кошелька. Его там не было. Рука его осталась в пустом кармане, и он горестно посмотрел на вертлявого горланящего содержателя ресторана, который в бешенстве кричал.
– Двадцать пять сен! Твой платит сейчас двадцать пять сен!
– Но… мой кошелек! – сказал мальчик. – Говорю вам, я его где-то потерял.
Тут содержатель ресторана с негодованием всплеснул руками и завизжал:
– Двадцать пять сен! Двадцать пять сен! Твой платит сейчас!
Собралась толпа, и для Элфа Дэвиса положение становилось затруднительным.
«Какая мелочность, как нелепо, – думал Элф. – Сколько шума из-за пустяков!» И, несомненно, он должен что-то предпринять. У него мелькнула мысль проскользнуть сквозь этот лес ног и ударить всякого, кто вздумает его задержать; но, словно угадав его намерение, один из лакеев, приземистый коренастый парень, неприятно косивший на один глаз, схватил его за руку.
– Твой платит сейчас! Твой платит сейчас! Двадцать пять сен! – ревел охрипший от бешенства содержатель ресторана.
У Элфа лицо тоже пылало от обиды, но он мужественно предпринял новое обследование карманов. Он уже потерял надежду найти кошелек и все упование возложил на случайные монеты. В маленьком карманчике пиджака, где он держал мелочь, ему попалась монета в десять сен и на пять сен медью. Вспомнив, как он недавно не мог доискаться монеты в десять сен, он вспорол шов кармана и извлек монету из глубины подкладки. В руке у него было двадцать пять сен – сумма, необходимая для платы за съеденный им ужин. Он передал ее содержателю ресторана, а тот, пересчитав деньги, внезапно успокоился и низко поклонился – и вся толпа подобострастно поклонилась и растаяла.
Элфу Дэвису едва исполнилось шестнадцать лет. Он служил матросом на борту «Энни Майн», американской парусной шхуны, завернувшей в Иокогаму для отправки в Лондон своей летней добычи – тюленьих шкур. Элф сходил на берег вторично и сейчас начал подмечать любопытные особенности восточного духа. Когда прекратились поклоны и приседания, он рассмеялся и вышел, повернувшись на каблуках. Тут он столкнулся с новой проблемой. Как попасть на судно? Было уже одиннадцать часов вечера, и у берега не оставалось ни одной судовой шлюпки, а перспектива нанимать с пустым карманом лодочника-туземца не особенно ему улыбалась.
Зорко вглядываясь, не встретится ли кто-нибудь из товарищей по шхуне, он направился вниз, к набережной. В Иокогаме нет длинного ряда пристаней. Суда бросают якорь на рейде и тем дают возможность нескольким сотням коротконогих людей зарабатывать себе пропитание доставкой пассажиров на берег и обратно.
Дюжина лодочников – мужчин и мальчишек – окликнула Элфа и предложила свои услуги. Он выбрал самого симпатичного на вид – добродушного старика с усохшей ногой. Элф вошел в его сампан и уселся. Было совсем темно, и он не мог разглядеть, что делает старик, хотя, по-видимому, тому ничего не оставалось, как оттолкнуть лодку и отправиться в путь. Наконец он, хромая, шагнул в лодку и заглянул Элфу в лицо.
– Десять сен, – сказал он.
– Да, знаю, десять сен, – беззаботно ответил Элф. – Живей! На американскую шхуну!
– Десять сен! Твой платит сейчас, – настойчиво повторил старик. Элфа бросило в жар от этих ненавистных слов «твой платит сейчас».
– Ты отвезешь меня на американсую шхуну, тогда я тебе заплачу, – сказал он.
Но старик упрямо стоял перед ним, протягивал руку и повторял:
– Десять сен! Твой платит сейчас!
Элф попробовал объяснить ему. У него не было денег. Он потерял свой кошелек. Но он заплатит. Как только он попадет на борт американской шхуны, он расплатится. Нет, он даже не станет подниматься на борт американской шхуны. Он крикнет своим товарищам, и те сейчас же заплатят лодочнику десять сен. После этого он поднимется на борт. Итак, разумеется, все в порядке.
На это старик – столь симпатичный на вид – ответил:
– Твой платит сейчас! Десять сен!
И в довершение беды остальные лодочники расселись на ступеньках мола, прислушиваясь к разговору.
Элф, опечаленный и рассерженный, встал и приготовился сойти на берег. Но старик удержал его за рукав.
– Твой дает сейчас рубаха. Мой везет американска шхуна, – предложил он.
Тут в Элфе возмутился дух независимости. Англосаксу присуще чувство отвращения к надувательству, а Элф счел это настоящим разбоем! Десять сен равняются шести американским центам, а его рубаха, совсем новая и из хорошей материи, стоила ему два доллара.
Он молча повернулся спиной к старику и поднялся на конец мола, а толпа с громким хохотом последовала за ним. Большей частью это были крепко сложенные, мускулистые парни.
Стояла изнуряюще жаркая июльская ночь, и одежда их была сведена до минимума. Моряки всех рас – народ буйный и грубый, и Элф понял вдруг, что отнюдь не безопасно находиться в полночь, в толпе лодочников, на конце мола, в большом японском городе.
Дюжий парень с копной черных волос и свирепыми глазами выступил вперед. Толпа двинулась за ним, чтобы принять участие в споре.
– Твой дает башмаки, – сказал парень. – Твой дает сейчас башмаки! Мой везет американска шхуна!
Элф покачал головой, а толпа потребовала, чтобы он принял предложение. Но англосаксы устроены так, что труднее всего добиться от них чего-либо угрозами или задиранием. Они охотно идут на риск, но не выносят никаких принуждений. И эта попытка лодочников подчинить своей волей Элфа только пробудила все упрямство его расы. В нем были свойства человека, который преследует несбыточную мечту; и здесь, на пустынном молу, под звездным небом, окруженный скученной, толкающейся бандой, он решил скорее умереть, чем подвергнуться такому оскорблению и уступить хотя бы одну-единственную принадлежность своего костюма. Теперь ставкой были уже не вещи, а принцип.
Тут кто-то грубо подтолкнул его сзади. С пылающими глазами он обернулся, и круг подался назад. Но толпа все смелела. То тот, то другой требовал у него отдельные принадлежности его костюма, и эти требования сейчас же громко подхватывались здоровыми глотками.
Элф давно уже не говорил ни слова, но понимал, что положение становится опасным, и единственный выход – уйти прочь. Его лицо было угрюмо, глаза блестели, как острие стали, тело приняло устойчивое и твердое положение. Этот решительный вид произвел на лодочников такое впечатление, что они расступились перед ним, когда он зашагал по молу к берегу. Но они шли за ним, хохоча и галдя еще громче, чем раньше. Какой-то парень, ростом и сложением походивший на Элфа, нахально сорвал у него с головы шапку; но не успел он нахлобучить ее себе на голову, как Элф размахнулся сплеча, и парень покатился по камням.
Шапка вылетела из его руки и исчезла под ногами толпы. Элф быстро прикинул в уме: его гордость моряка не позволяла ему оставить в их руках шапку. Он пошел в том направлении, куда она покатилась, и вскоре разыскал ее под босой ногой дюжего парня, который плотно придавил ее. Элф попробовал неожиданно выдернуть шапку, но потерпел неудачу. Он уперся в ногу противника, но тот только заворчал. Это был открытый вызов, и Элф его принял. Быстро подставив ему ногу, он с силой ударил плечом в грудь парня. Тот не выдержал этой энергичной атаки, пошатнулся и упал на спину.
Через секунду шапка очутилась на голове Элфа, а кулаки он держал наготове, перед собой. Затем он круто повернулся, чтобы предупредить нападение с тыла, и те, кто был позади, поспешно улетучились. Этого-то он и добивался. Теперь никого не оставалось между ним и берегом. Мол был узкий. Лицом к толпе, угрожая кулаками тем, кто пытался обойти его сбоку, он продолжал свое отступление. Это действовало возбуждающе – пятиться к берегу и в то же время сдерживать наступающую массу людей. Но темнокожие народы всего земного шара научились уважать кулак белого человека; и победой Элф был обязан не столько своему собственному военному фронту, сколько сражениям, выигранным многими моряками.
Там, где мол соединяется с берегом, находилось управление портовой полиции, и Элф, пятясь, ввалился в освещенную электричеством контору, рассмешив бойкого дежурного чиновника. Лодочники, притихшие и смирные, скучились, как мухи, у открытой двери, откуда им было видно и слышно все происходящее.
Элф в нескольких словах объяснил свое затруднительное положение и попросил, чтобы чиновник доставил его на борт в полицейской лодке. Чиновник, которому известны были все «правила и уставы», объяснил в свою очередь, что портовая полиция перевозом не занимается, а полицейские лодки исполняют более серьезные функции, чем доставка на судно запоздавших и неимущих матросов. Затем он прибавил, что лодочники – завзятые грабители, но пока они грабят в пределах закона, он над ними не властен. Они вправе требовать плату вперед, и разве он может заставить их взять с пассажира уплату после переправы? Элф признал справедливость его слов, но намекнул, что тот мог бы их убедить, раз не имеет права приказывать. Полицейский чиновник охотно согласился оказать ему эту услугу и вышел к дверям, откуда и обратился с речью к толпе. Но они тоже знали свои права и, когда чиновник замолчал, хором затянули свой ужасный припев:
– Десять сен! Твой платит сейчас, твой платит сейчас!
– Вы видите, я ничего не могу поделать, – сказал чиновник, прекрасно говоривший по-английски. – Но я им наказал не трогать вас, так что вы, по крайней мере, будете в безопасности. Ночь теплая и уже близится к концу. Прилягте где-нибудь и поспите. Я бы разрешил вам устроиться здесь, в конторе, если бы это не противоречило правилам и уставам.
Элф поблагодарил его за доброту и вежливость; но лодочники раздразнили его расовую гордость и упрямство, а проблема таким путем не разрешалась. Провести ночь на камнях – значило признать свое поражение.
– Лодочники отказываются доставить меня на судно?
Чиновник кивнул головой.
– И вы отказываетесь меня доставить?
Чиновник снова кивнул.
– Отлично! По нашим правилам и уставам вы не можете воспрепятствовать мне добраться самому?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.