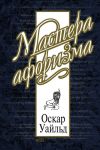Текст книги "Избранное"

Автор книги: Джек Лондон
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 85 (всего у книги 113 страниц)
Гниль завелась в штате Айдахо
В штате Айдахо засадили в тюрьму трех рабочих[84]84
…засадили в тюрьму трех рабочих. – Политический процесс Чарлза Мойера, Вильяма Хейвуда и Джорджа Петтибона, арестованных в штате Колорадо и похищенных из тюрьмы полицейскими агентами штата Айдахо, был инсценировкой, состряпанной губернаторами обоих штатов по договоренности с местными горными компаниями. Процесс привлек к себе внимание социалистов и передовых деятелей всего мира. Горький откликнулся на него телеграммой: «Привет вам, братья социалисты! Мужайтесь! День справедливости и освобождения угнетенных всего мира близок. Навсегда братски ваш». Статья Джека Лондона появилась 4 ноября 1906 года в газете «Чикагский социалист», в те дни, когда Верховный суд США после длительных проволочек и оттяжек приступил наконец к рассмотрению дела. Обвиняемые, просидевшие около года в тюрьме в ожидании казни, были оправданы за отсутствием улик. Интересна судьба Вильяма Хейвуда. Избранный генеральным секретарем организации «Индустриальные рабочие мира», он был в 1917 году арестован и осужден на двадцать лет заточения в крепости. В 1921 году ему удалось нелегально уехать в Москву. Умер в 1928 году.
[Закрыть] – Мойера, Хейвуда и Петтибона. Их обвиняют в убийстве губернатора Стюненберга. Помимо того, на совести у этих людей десятки, если не сотни, кошмарных злодеяний. Убийцы – не только руководители рабочего движения, но и анархисты. Виновность их установлена, не сегодня-завтра – казнь. К сожалению, их ожидает повешение – слишком легкая смерть для таких злодеев: их следовало бы четвертовать. Но хорошо уже и то, что их наверняка повесят, – это все-таки утешение.
Вот вкратце, что знает об этом деле и что думает о нем рядовой американец – фермер, адвокат, учитель, священник, бизнесмен. Он думает так на основании того, что ему сообщают газеты. Если бы газеты освещали это дело иначе, он возможно, думал бы иначе. Цель настоящей статьи огласить те факты, о которых умалчивает девяносто девять процентов американских газет.
Начнем с того, что в день совершения убийства ни Мойера, ни Хейвуда, ни Петтибона в штате Айдахо даже и не было. Далее: то обстоятельство, что местные власти заключили этих рабочих лидеров в тюрьму, надо расценивать как злостное нарушение закона со стороны самих блюстителей закона, начиная с главы штата и кончая самым мелким чиновником, причем эти незаконные действия совершены ими в сговоре с ассоциацией шахтовладельцев и железнодорожными компаниями.
Итак, перед нами явный и ничем не прикрытый заговор. Участники его, будучи сами заговорщиками и нарушителями закона, требуют наказания тех, кого они облыжно называют заговорщиками и нарушителями закона. Это по меньшей мере недобросовестно, скажете вы. Не только недобросовестно, но и подло, скажу я. Ложь и подлость никогда еще не приводили к правде. А между тем шахтовладельцы начинают свой крестовый поход в защиту правды – с неправды.
Плохое начало: оно заставляет нас поближе заняться этими господами – посмотреть, что за люди наши шахтовладельцы и каковы их прошлые дела, вникнуть в их побудительные мотивы; а заодно не мешает рассмотреть обвинительный материал, на основании которого были осуждены Мойер, Хейвуд и Петтибон.
Этим материалом послужили показания некоего Гарри Орчарда. Надо прямо сказать: они не внушают доверия. Да и как в самом деле верить свидетелю, который заявляет, что по чьему-то наущению и за соответствующую мзду он совершил убийство? А именно к этому сводится признание Гарри Орчарда.
Лидеры Западной федерации горняков не впервые предстают перед судом по обвинению в убийстве, и не впервые против них даются сомнительные показания. Колорадо славится такими показаниями, самый воздух там способствует их урожайности. Особенно не повезло Мойеру: его затаскали по тюрьмам, и каждый раз ему вменяли в вину какое-нибудь убийство. Не меньше чем полдесятка свидетелей клялись на библии, что по наущению Мойера они совершили убийство. А история учит нас, что, когда подручный сознается в преступлении, на виселицу отправляют хозяина.
Случай с Мойером опровергает уроки истории. Несмотря на обилие опорочивающих показаний, он еще ни разу не был осужден. Последнее обстоятельство говорит не в пользу колорадских показаний, они, оказывается, с гнильцой. А явная порочность всех предыдущих показаний заставляет нас усомниться и в нынешних показаниях Гарри Орчарда, в свежести и чистоте этого колорадского фрукта. Трудно поверить, чтобы в местности, где выращивают заведомо гнилые фрукты, выросло что-нибудь порядочное, благоухающее свежестью и чистотой.
Когда свидетель является в суд для дачи показаний, не мешает поинтересоваться, что это за человек, какие дела он совершил в жизни и не привели ли его сюда корыстные побуждения. Вот ассоциация шахтовладельцев Колорадо и Айдахо! Она явилась в суд, чтобы свидетельствовать против Мойера, Хейвуда и Петтибона. Что же за люди шахтовладельцы? И каковы их прошлые дела?
О том, что шахтовладельцы попирают закон и право, знает каждый ребенок. Ни для кого также не тайна, что они ограбили тысячи американцев, лишив их избирательных прав. Что беззаконие они возвели в закон, давно уже стало неопровержимой истиной. Но все это имеет лишь общее касательство к данному предмету.
Перейдем к частностям. Начиная с 1903 года, с тех пор как в Колорадо вспыхнула ожесточенная классовая война, шахтовладельцы преследуют рабочих, членов Западной федерации горняков, обвиняя их во всевозможных преступлениях. Это породило целую серию процессов, причем во всех случаях суд прекращал дело за отсутствием состава преступления. Свидетельские показания на процессах давались платными шпиками и сыщиками компаний. Но хотя все они большие мастера по части фабрикации улик, на суде дело оборачивалось не в их пользу. А это плохая рекомендация для того сорта показаний, которые родит в изобилии тучный чернозем Колорадо.
Но это еще не все. Пусть сыщики и шпики, выступая свидетелями в суде, не имели успеха, зато они блестяще проявили свои таланты на уголовном поприще. Многие из них были осуждены и теперь отбывают наказание за самые разнообразные преступления, начиная с мелкой кражи и кончая убийством.
А можно ли считать шахтовладельцев добропорядочными гражданами? Уважают ли они закон? Выполняют ли его предписания? «Плевать нам на конституцию!» – вот программа, с которой они выступали в 1903 году. Генерал Шерман Белл, их приспешник, заявил: «Неприкосновенность личности? Многого захотели! Как бы я не прописал этим личностям «со святыми упокой!» А Гудинг, нынешний губернатор Айдахо, недавно сказал во всеуслышание: «Плевать мне на народ!»
Естественно усомниться в гражданской добропорядочности людей, которые постоянно и последовательно плюют на права личности, на конституцию и народ. Несколько лет назад в Чикаго группа людей была приговорена к повешению за «подстрекательские речи», куда более невинные. Но то были рабочие. В ассоциацию же шахтовладельцев Колорадо и Айдахо входят только директора компаний, иначе говоря – капиталисты. Их не повесят. Напротив, они пользуются неограниченной свободой и правом посылать на виселицу тех, кто им почему-либо не симпатичен.
Почему Мойер, Хейвуд и Петтибон не симпатичны шахтовладельцам? Оттого что, по мнению последних, эти люди пытаются залезть к ним в карман. Мойер, Хейвуд и Петтибон – руководители организованных рабочих. Они возглавляют борьбу за более высокую зарплату и сокращение рабочего дня. Но это влечет за собой удорожание производства. Чем выше издержки производства, тем меньше прибыль. С другой стороны, если бы хозяевам удалось разгромить Западную федерацию горняков, ничто не помешало бы им увеличить рабочий день, снизить зарплату и выиграть на этом миллионы долларов. Лишить шахтовладельцев этих миллионов – значит, на их языке, залезть к ним в карман.
У шахтовладельцев бездонные карманы. Иуда предал Христа за тридцать сребреников. С тех пор человеческая природа нисколько не изменилась; вполне возможно, что Мойер, Хейвуд и Петтибон будут повешены из-за нескольких миллионов долларов. Это отнюдь не означает, что Мойер, Хейвуд и Петтибон лично неприятны шахтовладельцам (Иуда не питал неприязни к Христу), – просто они не хотят упускать свои прибыли. Иуда тоже не хотел упустить свои тридцать сребреников.
Что все это говорится не для красного словца, явствует из того, что шахтовладельцы давно уже недвусмысленно заявляют, что они намерены разнести Западную федерацию горняков. В этом, и только в этом, и состоят их побудительные мотивы, ясно и четко выраженные. Над этими мотивами стоит задуматься каждому сознательному патриоту и гражданину.
Короче говоря, положение в Айдахо сводится к следующему: в результате длительной и упорной схватки между капиталистами и рабочими капиталисты заключили в тюрьму руководителей рабочего движения и теперь добиваются их казни. Это не первая попытка капиталистов убрать неугодных им людей, но до сих пор ни одна из сфабрикованных ими «улик» и ни одно «свидетельское показание» не имели успеха, – при ближайшем рассмотрении они оказывались гнилою трухой. Наемные шпики и агенты капиталистов сами попадали в тюрьму за совершенные ими преступления, и все их попытки оговорить кого-либо из рабочих руководителей бесславно провалились.
Капиталисты не только на словах, но и на деле покушаются на основные законы страны. Им выгодно уничтожить рабочие организации. У капиталистов нет ни стыда, ни совести, они ни перед чем не останавливаются для достижения своих целей. В своих помыслах и делах они такие же преступники, как те ищейки, которые им служат. Так что же нам сказать о положении в Айдахо? Скажем прямо: в штаге Айдахо завелась гниль!
1906.
Как аргонавты в старину…
Было это летом 1897 года, когда в семье Таруотеров снова стало неладно. После мирного десятилетия приличной и тихой жизни дедушку Таруотера прорвало. Заболел он на этот раз клондайкской горячкой. Первым и неизменным признаком болезни было пение. И всегда он пел одну и ту же песню, хотя помнил только один куплет, да и из него только четыре стиха. Вся семья немедленно понимала, что ноги у него чешутся и в мозгу бушует старое безумие, как только в доме раздавался его разбитый, некогда густой, а ныне перешедший в фальцет, голос:
Как аргонавты в старину,
Покинули мы дом,
И мы плывем, тум-тум, тум-тум,
За золотым руном.
Десять лет назад он распевал эту же песенку, когда его обуяла золотая горячка, увлекшая его в Патагонию. Многочисленному семейству удалось в тот раз укротить его, но не без труда. После того как все средства поколебать его решение потерпели неудачу, родные пригрозили ему, что они обратятся к адвокату, учредят над ним опеку, а затем засадят в дом умалишенных. Это было вполне возможно, когда вопрос шел о человеке, расточившем четверть века назад в спекуляциях родовое имущество в Калифорнии, за исключением жалких десяти акров, и не проявившем с тех пор лучших способностей в делах.
Адвокаты для Джона Таруотера были вроде горчичника. Им он приписывал потерю своих обширных поместий. Вот почему в дни патагонской горячки одного упоминания о них оказалось достаточно, чтобы излечить его. Он быстро доказал, что он не сумасшедший: справился со своей горячкой и отказался от поездки в Патагонию. Но вскоре, однако, все убедились, что он действительно помешался. Он добровольно отдал своей семье в полную собственность и десять акров на Таруотерской равнине, и дом, и гумно, и службы, и воду. Кроме того, перевел на имя детей хранившиеся в банке восемьсот долларов, остаток погибшего состояния. Впрочем, домашние не говорили при этом о заключении старика в лечебницу, так как его распоряжения оказались бы тогда недействительными.
– Дедушка, конечно, рехнулся, – объявила старшая его дочь Мэри, сама уже бабушка, когда отец ее отдал все детям и для сокращения расходов бросил курить.
Старик оставил себе только упряжку старых лошадей, горную тележку и единственную комнату в большом доме. Мало того, он объявил, что ничем и никому не хочет быть обязанным, и условился возить два раза в неделю почту Соединенных Штатов из Кельтервила через Таруотерскую гору в Старый Альмаден – ртутный рудник в горной местности. Его старые клячи с трудом делали две поездки в неделю.
За десять лет он не пропустил ни одного рейса ни зимой, ни летом. А также ни разу не запоздал уплатить Мэри за свои харчи, аккуратно внося плату по субботам. На этой плате он сам настоял в те дни, когда оправлялся от патагонской горячки, хотя для этого ему пришлось отказаться от табака.
– Ладно! – делился он своими мыслями с изломанным колесом старой Таруотерской мельницы, которую когда-то сам выстроил и которая молола пшеницу для первых колонистов. – Ладно! Пока я сам себя содержу, меня не смогут отправить в богадельню. А раз в банке на мое имя не положено ни единого гроша, то и пройдохам-адвокатам незачем ко мне соваться.
А между тем именно в силу этих высокоразумных поступков Джон Таруотер и прослыл страдающим тихим помешательством.
Первый раз он запел свою песню «Как аргонавты в старину…» в 1849 году, когда он двадцати лет от роду, в остром припадке калифорнийской горячки обменял двести сорок акров в Мичигане – из них сорок уже расчищенных – на четыре пары быков и один фургон и пустился в путь через равнины.
– И повернули мы у Форт-Галла, откуда орегонские эмигранты пошли на север, а мы на юг, в Калифорнию, – обычно заключал он свое повествование об этом тягостном пути. – Я и Билл Пинг ловили арканом медведей в зарослях в долине Сакраменто.
Затем последовали годы упорного труда в копях, на Мерседесских приисках, и Джон Таруотер смог наконец удовлетворить свою страсть к земле, свойственную его расе и его поколению, и пустил корни в Сономском округе.
Десять лет старик возил почту через таруотерскую городскую землю (вверх по Таруотерской долине и через Таруотерскую гору, по земле, большая часть которой была когда-то его собственностью), и все это время он мечтал о том, как бы вернуть себе эту землю перед смертью. И вот теперь огромная худощавая фигура его выпрямилась, как не выпрямлялась уже много лет, и в небольших впалых глазах сверкали синие искры, когда он пел свою старинную песню.
– Начинается. Слышите? – заметил Уильям Таруотер.
– Не все дома, – усмехнулся Хэррис Топпинг, женатый на Энни Таруотер, от которой у него было девять детей.
Дверь кухни отворилась, и вошел старик, уходивший кормить лошадей. Пение умолкло, но Мэри была раздражена тем, что обожгла себе руку, и тем, что желудок одного из ее внуков отказывался переваривать разбавленное по всем правилам коровье молоко.
– Нечего, отец, заводить старую погудку, – сварливо сказала она. – Прошла пора шататься в такие места, как Клондайк, а на свои песни ты ничего себе не купишь.
– А я готов биться об заклад, – возразил старик невозмутимо, – что я мог бы еще пробраться в этот самый Клондайк и набрать достаточно золота, чтобы выкупить таруортерскую землю.
– Старый дурак! – вставила Энни.
– Выкупить ее можно не меньше как за триста тысяч, да еще нужно дать кое-что в придачу, – произнес Уильям, внося свою лепту в общую попытку образумить старика.
– Ну, что же, я и набрал бы триста тысяч, да еще кое-что в придачу, если бы попал туда, – спокойно ответил старик.
– Хорошо, что туда не дойти пешком, не то только бы мы тебя и видели, – крикнула Мэри. – А на переезд морем надо уйму денег.
– Когда-то были у меня деньги, – смиренно заметил ее отец.
– Ну а раз у тебя их больше нет, то позабудь о них, – посоветовал Уильям. – Прошли те времена, когда ты ловил медведей с Биллом Пингом. Медведей больше нет.
– А все-таки…
Но Мэри перебила его. Схватив с кухонного стола газету, она яростно потрясла ею перед носом престарелого родителя:
– Ну, что пишут сами клондайкцы? Тут вот черным по белому написано. Только молодые да сильные переносят Клондайк. Там хуже, чем на Северном полюсе. Да и молодых немало там перемерло. Посмотри на их портреты. Ведь ты на сорок лет старше самого старого из них.
Джон Таруотер посмотрел, но глаза его остановились на других фотографиях, помещенных на первой странице.
– А посмотрите-ка на снимки самородков, которые они привезли, – сказал он. – Я толк в золоте знаю. Недаром выгреб двадцать тысяч из Мерседесских приисков.
– Вконец рехнулся, – поделился своим мнением Уильям с остальными весьма явственным презрительным шепотом.
– Похвально ли так говорить с отцом? – мягко упрекнул его старик Таруотер. – Мой отец выбил бы из меня дурь тяжелым вальком, вздумай я этак поговорить с ним.
– Но ведь ты же вправду рехнулся, отец, – начал Уильям.
– Сдается мне, что ты прав, сынок. Ну а мой отец был в полном рассудке, и он бы так и сделал…
– Начитался старик журнальной дребедени о тех, кто богатеет после сорока лет, – продолжала насмехаться Энни.
– Почему бы и нет, дочка? – спросил он. – И почему бы человеку не добиться счастья даже после семидесяти лет? Мне только в этом году исполнилось семьдесят лет. Пожалуй, и мне бы повезло, только бы добраться до Клондайка.
– Никогда ты туда не доберешься, – отрезала Мэри.
– Ну, коли так, – вздохнул он, – пойду-ка я лучше в постель.
Старик встал с места, высокий, сухопарый, костистый и корявый, как старый дуб, – прекрасная развалина человека. Косматые волосы и усы были не седы, а белы как снег; пучки белых волос торчали на суставах костлявых пальцев. Он двинулся к двери, отворил ее, вздохнул и остановился, глядя через плечо на детей.
– А все-таки, – жалобно пробормотал он, – до чего чешутся у меня пятки – сил моих нет!
На следующее утро, задолго до того как домашние его проснулись, старик Таруотер при свете фонаря накормил и запряг лошадей, сварил и съел свой завтрак и был уже далеко в Таруотерской долине по пути к Кельтервилу, когда в доме началась жизнь. Были две необычайные особенности в этой обычной поездке, которую он проделал тысячу и сорок раз с тех пор, как заключил договор с почтой. Во-первых, он не продолжал пути на Кельтервил, а свернул по большой дороге на юг, к Санта-Роса. Во-вторых, еще замечательнее было то, что в ногах у него лежало что-то, завернутое в бумагу. Это была его единственная приличная черная пара, которую, по намекам Мэри, он давно должен был бы перестать носить – не потому, что она была поношена, а потому, как он догадывался, что в ней вполне возможно будет похоронить его.
В Санта-Роса он тотчас же продал эту пару в лавке подержанного платья за два с половиной доллара. От того же обходительного лавочника он получил четыре доллара за обручальное кольцо покойной жены. Лошади с фургоном пошли за семьдесят пять долларов, хотя наличными он получил всего двадцать пять. Случайно повстречавшись на улице с Алтоном Грэнджером, которому он никогда не напоминал о десяти долларах, данных Алтону в долг в семьдесят четвертом году, намекнул о долге, и тот мигом заплатил. Оказалось также, что местный пьяница, которого Таруотер много раз угощал в лучшие дни, каким-то невероятным чудом оказался при деньгах и дал ему взаймы доллар. И старик отбыл с вечерним поездом в Сан-Франциско.
Дней двенадцать спустя, с парусиновым мешком, с одеялами и старым платьем, он высадился на берег Дайэ в самый разгар клондайкской горячки. Берег был похож на сумасшедший дом. Грудами был навален багаж, около десяти тысяч тонн, и тысяч двадцать человек растаскивали его и спорили из-за него. Доставка багажа индейцами-носильщиками через Чилкут к озеру Линдерман поднялась с шестнадцати центов до тридцати за фунт, что равнялось шестистам долларов за тонну. Суровая зима была не за горами. Все это знали, и все знали, что из двадцати тысяч человек весьма немногие проберутся через ущелье; большинство останется зимовать и дожидаться весенней оттепели.
Таков был берег, к которому причалил старый Джон Таруотер. Через отмель и вверх по дороге пустился он к Чилкуту, мурлыкая свою старую песенку, как старый дедушка Язон. Никаких забот о багаже он не знал, так как никакого багажа у него не было. Ночь он провел на равнине, в пяти милях выше Дайэ, в том месте, откуда начинается переправа на челноках. Река Дайэ – бурный горный поток – вырывалась из темного ущелья.
И здесь-то рано утром случилось Таруотеру увидать маленького человека, весом фунтов в сто, ковыляющего по бревенчатым мосткам, с привязанным к спине мешком муки фунтов в сто, а может быть, и больше. Таруотер увидел, как этот человек сорвался с бревна и упал вниз головой в маленький водоворот, фута в два глубины, где преспокойно принялся тонуть. Не то чтобы ему была охота умирать, но мука на спине весила столько же, сколько он сам, и не давала ему подняться.
– Спасибо, старик, – сказал он Таруотеру, когда тот вытащил его из воды на берег.
В то время как человек расшнуровывал обувь и выливал воду, они разговорились. А потом малыш вытащил золотой в десять долларов и предложил своему спасителю.
Старик Таруотер отрицательно покачал головой и повел плечами от холода, так как промок, стоя по колено в ледяной воде.
– Но я не отказался бы закусить с вами по-товарищески.
– Не завтракали? – спросил с любопытством человек, который сказал, что его зовут Энсоном и что ему сорок лет.
– Ничего еще во рту не было, – ответил Джон Таруотер.
– А снаряжение где? Послали вперед?
– Нет снаряжения.
– Думаете закупить провизию на той стороне?
– У меня нет ни одного доллара на покупку, дружище. Да это неважно, а вот выпить бы чего-нибудь горячего!
В Энсоновском бивуаке, четверть мили дальше, Таруотер увидел стройного рыжего малого, лет тридцати, изрыгавшего проклятья над костром из сырого ивняка. Его представили Таруотеру под именем Чарльза, причем он тотчас же перенес всю свою злобу и хмурые взгляды на старика; но тот добродушно стал разводить огонь, воспользовавшись резким утренним ветерком, чтобы усилить тягу, и вскоре огонь запылал при меньшем количестве дыма. Тут подоспел третий член компании, Билл Вильсон, или, как они его звали, Большой Билл, с грузом в сто сорок фунтов, и Чарльз подал товарищам весьма скудный, по мнению Таруотера, завтрак. Маисовая каша оказалась наполовину сырой и подгоревшей, сало превратилось в уголь, а кофе похож был на что угодно, но не на кофе.
Наскоро покончив с завтраком, трое компаньонов взяли пустые мешки и отправились вниз по тропе за остатками своего багажа, на место последней стоянки, за милю отсюда. А старику Таруотеру нашлась работа в бивуаке. Он перемыл посуду, натаскал сухого хвороста, починил разорванный мешок, отточил кухонный нож и топор, упаковал кирки и лопаты в удобный для пути сверток.
Во время завтрака он был поражен тем особенным уважением, которое Энсон и Большой Билл оказывали Чарльзу. Воспользовавшись удобной минутой, когда Энсон отдыхал, притащив еще сотню фунтов груза, Таруотер спросил осторожно о причине такого отношения.
– Видите ли, в чем дело, – пояснил Энсон. – Мы разделили обязанности. У каждого из нас своя специальность. Я, например, плотник. Когда мы дойдем до озера Линдерман, срубим деревья и распилим их на доски, я буду заведовать постройкой лодки. Большой Билл – дровосек и рудокоп, стало быть, ему придется распоряжаться рубкой леса и работами на приисках. Большая часть нашего багажа впереди. Мы совсем было разорились на индейцев-носильщиков, чтобы доставить багаж на вершину Чилкута. Наш товарищ уже там. Он переправляет багаж вниз на ту сторону. Его имя Ливерпул. Он моряк. Когда лодка будет готова, ему придется управлять ею во время переправы через озеро и через пороги до самого Клондайка.
– А Чарльз? Какая у него специальность? – осведомился Таруотер.
– Он по деловой части. Когда дойдет до организации и всего прочего, то хозяином будет он.
– Гм, – размышлял Таруотер. – Хорошо, что в деле так много специалистов!
– Больше чем хорошо, – поддакнул Энсон. – Вдобавок все вышло случайно. Мы все пустились в путь поодиночке. Встретились на пароходе по пути в Сан-Франциско и составили товарищество. Ну, пора мне отправляться. Чарльз сердится, что я ношу меньше других. Но нельзя же требовать, чтобы стофунтовый человек осилил столько же, сколько детина весом в сто шестьдесят фунтов.
– Побудьте здесь и приготовьте нам что-нибудь к обеду, – сказал Чарльз, когда пришел со следующей частью груза и заметил результаты распорядительности старика.
И Таруотер приготовил обед, и это был настоящий обед. Потом вымыл посуду. К ужину подал свинину с бобами и хлеб, поджаренный на сковородке. Настолько было все вкусно, что трое компаньонов чуть не объелись. Перемыв тарелки после ужина, старик наколол лучин для быстрой растопки огня утром, научил Энсона одному ухищрению, очень ценному при его работе, спел свое «Как аргонавты в старину…» и рассказал им о великом переселении через равнины в сорок девятом году.
– Надо правду сказать, ни разу не было у нас такой веселой, уютной стоянки, – заметил Большой Билл, выколачивая трубку и стаскивая сапоги на ночь.
– Не подсобить ли вам немного, ребята? – добродушно спросил Таруотер.
Все кивнули в знак согласия.
– Когда так, у меня к вам предложение. Можете согласиться или отказать, только выслушайте меня. Вам надо поскорее добраться на место до морозов. Один из вас тратит на кухню половину того времени, что пошло бы на переноску багажа. Если я буду для вас готовить, вы сбережете время. И стряпня будет вкуснее, и работа пойдет лучше при хорошей пище. Кроме того, я и сам могу кое-что перетащить между делом – немного, самую чуточку.
Большой Билл и Энсон одобрительно закивали головой, но Чарльз остановил их.
– Чего вы хотите от нас взамен? – спросил он у старика.
– Пускай ребята сами решают.
– Так дела не делаются, – резко заметил Чарльз. – Вы внесли предложение. Договаривайте до конца.
– Я бы так думал…
– Вы рассчитываете на то, что мы прокормим вас всю зиму? – перебил Чарльз.
– Нисколько. Если вы меня доставите на своей лодке в Клондайк, больше мне от вас ничего и не надо.
– У вас нет харчей, старина, вы там помрете с голоду.
– Кормился же до сих пор, – возразил с веселой искоркой в глазах старик Таруотер. – Мне семьдесят лет, и я еще ни разу не умер с голоду.
– Согласны вы подписать бумагу, что перейдете на свое иждивение, как только мы прибудем в Доусон? – продолжал деловой человек.
– Ну конечно, – был ответ.
Снова Чарльз прервал двух компаньонов, выражавших удовлетворение по поводу достигнутого соглашения.
– Еще одно, старина. У нас компания из четырех человек, и все мы имеем право голоса. Молодой Ливерпул ушел вперед с главным багажом. Мы не знаем, что он скажет.
– А что он за птица? – осведомился Таруотер.
– Грубый матрос, и нрав у него дрянной, запальчивый.
– Немножко буйный, – добавил Энсон.
– А уж как сквернословит! Прямо жутко становится, – подтвердил Большой Билл. – Зато малый справедливый, – добавил он, и Энсон с готовностью закивал, подтверждая похвалу.
– Вот что, ребята, – заключил Таруотер, – когда-то давно я решил отправиться в Калифорнию – и добрался до нее. А теперь попаду и в Клондайк. Нет! Ничто не остановит меня! Да вдобавок мне надо там выколотить из земли триста тысяч. И выколочу, ничто не помешает мне. Нужны мне эти деньги, и все тут. Буйный нрав еще не беда, раз малый справедливый. Была не была, иду с вами, пока не догоним его. Если же он скажет «нет», ну что же, стало быть, проиграл. Но мне почему-то сдается, что не скажет «нет». Уж очень близко будет к морозам, как же он бросит меня. А главное, надо мне попасть в Клондайк во что бы ни стало; думаю, не откажет он мне.
Старый Джон Таруотер сделался заметной фигурой среди толпы, идущей в Клондайк, вообще богатой колоритными фигурами. Эти тысячи людей, таскавшие по полтонны багажа на спине и проделывавшие каждую милю пути раз по двадцати, мало-помалу перезнакомились со стариком и стали называть его Дедушкой Морозом. И все время, пока дедушка работал, раздавался его дребезжащий фальцет, распевающий старинную песенку. Ни один из его компаньонов не мог на него ни в чем пожаловаться. Правда, суставы его были недостаточно гибки – он не отрицал, что слегка подвержен ревматизму, – двигался он медленно и как бы поскрипывал, похрустывал, однако не переставал двигаться. Последним забирался он вечером под одеяло, а утром был первым на ногах, чтобы напоить трех товарищей горячим кофе перед первой партией багажа, которую они обычно приносили до завтрака. Между завтраком и обедом, а затем между обедом и ужином он ухитрялся и сам перетащить несколько мешков. Впрочем, шестьдесят фунтов были крайним пределом для его сил. Он мог поднять и семьдесят пять, но не выдерживал до конца. Раз как-то ему вздумалось нагрузить на себя девяносто, тут он совсем надорвался и два дня был сам не свой.
Труд! На этой дороге, где люди труда впервые узнали, что такое действительная работа, ни один не трудился усерднее старика Таруотера. Подгоняемые угрозой близкой зимы и безумной мечтой о золоте, иные расходовали свои силы до последней крупицы и падали на пути. Другие, когда неудача становилась несомненной, пускали себе пулю в лоб. Третьи сходили с ума, а четвертые, под гнетом непосильного напряжения, расторгали всякие соглашения и порывали дружеские узы с людьми, которые были ничуть не хуже их самих и так же, как и они, страдали от безумного утомления и от страсти к золоту.
Труд! Старик Таруотер мог всех из заткнуть за пояс, несмотря на свой скрип и хруст и привязавшийся к нему скверный лающий кашель. Утром и вечером, на дороге или в лагере, он вечно был на виду, вечно чем-нибудь занят, вечно готов откликнуться на прозвище Дедушка Мороз. Иной раз усталые носильщики опускали свою поклажу на бревно или камень рядом с его поклажей и говорили ему: «А ну-ка, папаша, спой свою песенку о сорок девятом годе». После того как он хрипло исполнял свою песенку, они вставали со своими тюками и снова пускались в путь, приговаривая, что «стало как будто легче на душе».
– Если кто вполне отработал свою дорогу и заслужил ее, так это наш Дедушка Мороз, – говорил Большой Билл двум своим компаньонам.
– Нечего там! – перебил Чарльз Крейтон. – Как только доберемся до Доусона, все дела с ним будут кончены. Если мы оставим его, нам же придется и хоронить его. Кроме того, неминуем голод, и каждая унция еды будет на счету. Помните, что мы всю дорогу кормим его. И если в будущем году случится у нас недохваток, пеняйте на себя. Пароходы не могут доставить продуктов в Доусон раньше июня, а до июня еще девять месяцев.
– Что ж, ты вложил денег и продуктов столько же, сколько каждый из нас, – согласился Большой Билл, – поэтому имеешь право сказать свое слово.
– И скажу, – продолжал Чарльз с возрастающей раздражительностью. – Ваше счастье, что при вашей дурацкой чувствительности еще есть кому раскинуть за вас мозгами, не то все мы поколели бы с голоду. Говорю вам – надвигается голод. Я по всему это вижу. Мука будет по два доллара фунт, если не по десять, и не у кого будет ее покупать. Помните мое слово.
На плоскогорьях, среди темных ущелий, среди нависших грозных ледников, на крутых склонах, покрытых ледяным настом, где приходилось ползти на четвереньках, старик Таруотер неизменно стряпал, таскал поклажу и пел. При первой осенней метели перевалил он через Чилкутский перевал выше линии леса. Те, кто сидел внизу без топлива на бесплодном берегу озера, услыхали из надвигающейся темноты странный голос, распевающий:
Как аргонавты в старину,
Покинули мы дом,
И мы плывем, тум-тум, тум-тум,
За золотым руном.
Из снежных вихрей выступила сухопарая фигура, белая борода развевалась по ветру, а спина согнулась под тюком, содержавшим шестьдесят фунтов топлива.
– Дедушка Мороз! – пронесся клич. – Трижды ура Дедушке Морозу!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.