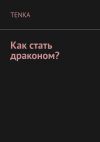Текст книги "Пастернак – Цветаева – Рильке"

Автор книги: Екатерина Зотова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Последний всплеск (декабрь 1929 – лето 1931)
После майского письма Пастернак опять замолчал. Главная причина, видимо, коренилась в том, что усиление цензуры лишало переписку как способ творческого общения всякого смысла. Хотя именно в это время Борису Леонидовичу особенно нужна была поддержка извне.
1929 год оказался переломным в истории страны. Зимой на селе началась массовая коллективизация, положившая конец последним иллюзиям экономической свободы, остававшимся от НЭПа. Еще раньше Российская ассоциация пролетарских писателей повела наступление на «попутчиков в литературе», в число которых попали не только Асеев с Фединым, дарование которых Пастернак оценивал очень высоко, но и «сам» Маяковский. (В феврале 1930 года РАППовцы фактически заблокировали его юбилейную выставку.) В ноябре настал черед и самого Пастернака: Ленгиз отказался печатать роман в стихах «Спекторский» «по неясности его общественных тенденций»4646
Пастернак Е. Б. Борис Пастернак: Материалы для биографии. – М., 1989. – С. 444.
[Закрыть]. Издательство явно осторожничало, поскольку финал романа показывал, что сочувствие автора – отнюдь не на стороне победившего пролетариата. (Отдельным изданием «Спекторский» выйдет в 1931 году.) Неудивительно, что в это время поэт не видел для себя никакой творческой перспективы…
Между тем, до Цветаевой дошли слухи о болезни друга (в июне он перенес мучительную операцию на нижней челюсти). Она не на шутку встревожилась, и, возможно, это подвигло Бориса Леонидовича 1 декабря взяться за перо. «Буду писать тебе, точно не молчал, точно все по-другому», – начинает он (ЦП, 509). Однако вскоре становится понятно, что писать по-старому не удается. Пастернак не может отделаться от автоцензуры – не раз, начиная мысль, он тут же обрывает ее, сводя все к недомолвкам, а затем и вовсе предлагает: «Давай писать друг другу легкие письма, о чепухе, о житейском» (ЦП, 510).
Подробно описывая операцию и ее последствия, о своем настроении и планах он сообщает осторожно, особенно опасаясь писать о тяге за границу:
«Существую я одиноко и невесело. Живу мечтой, давно тебе известной. И опять, не надо ничего предрешать: говорю о немногом, житейском, детском, вольном. Что земля и люди разошлись врозь для меня, что ближайшие мне люди не на той земле, что мне всего ближе» (ЦП, 510).
Последняя фраза расшифровывается просто: «земля, что всего ближе» – Россия, вне которой поэт себя не мыслил, а «люди» – Цветаева и родители с сестрами. Борис Леонидович мимоходом сообщает подруге, что перевел и напечатал оба реквиема Рильке (ЦП, 511), и, не утерпев, все же проговаривается: «Я совершенно вне здешней литературы, т.е. дружбы мои не тут» (ЦП, 510). Одновременно впервые в переписке с Цветаевой появляется имя пианиста Генриха Нейгауза. Пастернак еще не знает, что это знакомство круто изменит жизнь их семей. Пока общение с Нейгаузом и философом В. Ф. Асмусом лишь скрашивало его духовное одиночество.
Конец декабря ознаменовался новым ударом по прошлому – было официально отменено празднование Нового года.
«Эту зиму мы живем вне календаря, – так Борис Леонидович начинает письмо от 24 декабря. – <…> Нового года, как праздника, тоже не будет. И я не возражаю, это тоже в порядке вещей» (ЦП, 511, 512).
Он сообщает подруге, что отклонил настоятельное предложение поехать в Польшу по линии Всесоюзного общества культурной связи с заграницей.
«Я отказался из тех соображений, что собираюсь который уже год во Францию и не оставил этой мысли: что встретить там долю французского веянья будет мне мучительнее полного лишенья. <…> Но еще труднее, чем ездить в Польшу, – писать письма. И еще труднее не писать их, – подчеркивает Пастернак тяжесть своего положения и просит: – <…> Напиши мне, пожалуйста. Я живу – трудней нельзя, пишу туго» (ЦП, 512, 513).
Марина Ивановна тут же откликается и шлет подряд три письма и новогоднюю телеграмму. Отдельное поздравление прислал и Сергей Яковлевич, который в это время лечился в туберкулезном санатории.
Копия одного из писем Цветаевой (по-видимому, первого) сохранилась. Оно написано 31 декабря 1929 года, сразу после получения пастернаковского. И вновь – совпадение, подмеченное Мариной Ивановной: словно исполняя приказ советского правительства, она решила не идти на встречу Нового года. (Ее, похоже, даже обрадовало это странное и невольное проявление солидарности с другом.) В тот же день она посылает в Москву поздравительную телеграмму по-французски: «ЗДОРОВЬЯ МУЖЕСТВА ФРАНЦИЯ МАРИНА» (ЦП, 515). Пастернак особо отметил, что телеграмма пришла как бы от имени Франции (ЦП, 520).
Цветаева тоже страдала от перерывов в переписке и тоже чувствовала, что письма все меньше и меньше способны заменить им живое общение.
«Борис, я с тобой боюсь всех слов, вот причина моего неписанья, – признается она. – Ведь у нас кроме слов нет ничего, мы на них обречены. Ведь все, что с другими – без слов, через воздух, то теплое облако от – к – у нас словами, безголосыми, без поправки голоса. <…> И еще, Борис, кажется, боюсь боли, вот этого простого ножа, который перевертывается» (ЦП, 514).
Марина Ивановна вновь признается, что после рождения сына «никого не любила». Однако теперь она нашла этому объяснение.
«Все это – начинаю так думать – чтобы тебе было много места вокруг, чтоб по пути ко мне ты не встретил ни одной живой души, чтобы ты ко мне шел по мне (в лес по́ лесу!), а не по рукам и ногам битв. И – никакого соблазна. Все, что не ты – ничто. Единственный для меня возможный вид верности» (ЦП, 514).
Кажется, Цветаева по-прежнему верит в их встречу, ждет ее. Но несколькими строками ниже у нее вырывается пронзительное признание:
«Борис, я тебя заспала, засыпала – печной золой зим и морским (Муриным) песком лет. Только сейчас, когда только еще вот-вот заболит! – понимаю, насколько я тебя (себя) забыла. Ты во мне погребен – как рейнское сокровище – до поры» (ЦП, 515).
В этих до предела сжатых фразах – и понимание несбыточности мечты, и ощущение того, что что-то важное в их отношениях потеряно навсегда, и отчаянная, наперекор всему, надежда на чудо, которое все-таки произойдет…
Как всегда, Цветаева зорко следит за композицией писем, обещая в следующем написать «о всем, что еще есть» (ЦП, 515). Это же она полностью посвящает их чувствам, впуская в него только Рильке. Вспоминая потрясение и творческий порыв, вызванные его смертью, Марина Ивановна утверждает: «Если я умру, не встретив с тобой такого, – моя судьба не сбылась, я не сбылась, потому что ты моя последняя надежда на всю меня, ту́ меня, которая есть и которой без тебя не быть» (ЦП, 515).
А для Пастернака новый год начался очередным разочарованием. Из писем подруги он узнал, что вернувшаяся в Россию В. А. Завадская4747
Вера Александровна Завадская (1895—1930), знакомая Цветаевой с гимназических лет; сестра режиссера Юрия Завадского.
[Закрыть] должна привезти последние работы Цветаевой – статьи о письмах Рильке и о творчестве художницы Н. Гончаровой. Но та, видимо, предупрежденная о советских порядках, не взяла их с собой.
«На нее нельзя сердиться, – уговаривает он Марину Ивановну, а заодно и себя. – Но половина установлений, имеющих силу в любом государстве в какое угодно время, исходят от передового населенья, от того, как себя люди ведут. И в тех случаях, когда я сознаю совершенную чистоту и невинность того, что я делаю, мне и в голову не может прийти, каким ложным истолкованьям может подвергнуться или даже принято подвергать эти вещи» (ЦП, 516—517).
Возможно, случай с Завадской, которая не только не повезла книги, но и отказалась от переписки с заграницей (ЦП, 521), напомнил Борису Леонидовичу о моральной значимости каждого поступка и укрепил его решимость идти против течения, повинуясь лишь собственным нравственным постулатам. Его письмо от 19 января, как и прежде, написано свободно, без оглядки на цензуру. Впрочем, за исключением фрагмента о Завадской, письмо получилось на редкость безобидным. Видимо, отвечая на «спокойные описания» (ЦП, 517) Цветаевой, Пастернак решил просто рассказать ей о впечатлениях начала года: о радости от письма С. Я. Эфрона и своей любви к нему, о французском духе, который царил на встрече со знакомыми у Завадской, о новогоднем подарке – книге с дарственной надписью – от Ромена Роллана. Впрочем, тут же он дает волю самокритике и бранит Марину Ивановну за то, что та дала сыну его детскую книжку «Зверинец», написанную в 1925 году.
А на следующий день он отвечает большим дружеским посланием на поздравление Сергея Яковлевича – и уже во второй раз за время переписки письмо к нему оказывается глубже написанных в это же время писем Цветаевой. Именно ему он раскрывает драматичные обстоятельства своей духовной жизни.
«Мне становится все трудней год от года, – признается Пастернак. – Никто кроме меня в этом не виноват. <…> Начиная с „Девятьсот пятого“ я пишу не от себя, а все для кого-то. Между тем ответа я от этого местоименья не получаю и с тем, что до меня доходит, жизни завести не могу» (ЦП, 521).
Здесь, в обычном для него сниженно-философском тоне, поэт констатирует, что все его усилия показать революцию 1905 года как «главу истории русского общества» (ЦП, 139) оказались безрезультатными – критики, хваля «правильную» тематику, вникать в его историософию не захотели, а читатель ее попросту не заметил. Так провалилась попытка Бориса Леонидовича приблизить дорогой ему мир дореволюционной русской культуры к «рожденному революцией» новому поколению читателей. Нарастал творческий кризис: замыслы были практически исчерпаны (дописывалась последняя в этом ряду «Охранная грамота»), а между тем творчество Пастернака не стало ближе и понятнее его современникам. В письме он трезво оценивает свою известность не только в России, но и за границей, отмечая, что там вся она сводится к усилиям Эфрона и его соратника Д.П.Святополк-Мирского (ЦП, 521). В этой ситуации никакого смысла писать «от себя» (то бишь, попросту в стол) поэт не видел. Не было и вдохновения…
Главной болью Пастернака, несмотря на кажущееся везение (ни сам, ни ближайшие родственники в кровавые 30—40-е годы не пострадали), было пожизненное отсутствие единомыслия с массовым читателем. Не было даже мимолетной иллюзии взаимопонимания – той, что греет душу большинству литераторов. (Та же проблема была и у зрелой Цветаевой.) Между тем, он делал все, чтобы «быть понятым своею страной» (цитата из Маяковского) – все, кроме одного: никогда не шел на сделку с совестью, никогда, в отличие от того же «трибуна революции», не позволял себе наступать «на горло собственной песне». Через год в стихотворении, адресованном Борису Пильняку, Борис Леонидович так определит свою проблему:
И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не подымаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?
Однако даже эти неудачи не делали его противником идеи социального переустройства общества. В том же письме Пастернак с возмущением отзывается как о псевдодуховных поисках части эмигрантских кругов, так и о бездуховности нового советского мещанства.
«Чувствуете ли Вы, – вопрошает он, – чем близки эти противоположности? На одной только и мелют, что о духовном, но… но по душевной импотенции не знают, что такое бессмертие, и не желают его, потому что не могут его хотеть. На другой не успели ни разу им соблазниться ввиду заполненности жизни акциями и бутербродами». И тут же следует экспрессивное определение революции: «Революция есть ответ оскорбленной истории: ее бурное объяснение по всем пунктам с человеком, по тем или иным причинам к бессмертию безразличным. Да здравствует революция». (ЦП, 522—523)
Убежденный в своей правоте, поэт не оставлял надежд «достучаться» до общества. Как раз в это время он дописывал главы «Охранной грамоты», посвященные роли, которую сыграли в его судьбе творчество и личность Владимира Маяковского. Борис Леонидович надеялся, что они помогут его бывшему кумиру выйти из творческого тупика.
«Я думал, – написал он Цветаевой в апреле 1930 года, сразу после самоубийства Маяковского, – что он по-своему раздвинет рамки жизни и роковой предугаданности всеми, т.е. исчезнет в неизвестность или обманет ожиданье еще чем-нибудь. Но мне казалось, что, обманув, останется жить, чтобы совершенствовать неожиданность, а о таком именно исходе я не думал» (ЦП, 524).
Неизвестно, что ответила на это сообщение Цветаева, – в архиве Пастернака сохранилась лишь сочувственная открытка от С. Я. Эфрона. 21 апреля она написала А. А. Тесковой:
«Бедный Маяковский! <…> Чистая смерть. Все, все, все дело – в чистоте…» Выше в том же письме есть такие фразы: «…а теперь стряслось горе, – какое пока не спрашивайте – слишком свежó, и называть его – еще и страшно и рано.
Мое единственное утешение, что я его терплю (subis), а не доставляю, что оно – чистое <…> На горе у меня сейчас нет времени, – оказывается – тоже роскошь»4848
Цветаева М. И. Собр. соч. – Т. 6. Письма. – С. 386.
[Закрыть].
К чему относятся эти строки, из опубликованных фрагментов письма неясно, но повторение эпитета «чистый» позволяет предположить, что речь идет о Маяковском.
Впрочем, и без них ясно, что самоубийство Маяковского поразило Марину Ивановну. Позже, в августе, она посвятит ему цикл из семи стихотворений. Однако в них она не столько оплачет собрата по перу («враг ты мой родной»), сколько осудит его уход: «Богоборцем разрушен/ Сегодня последний храм», т.е. собственное тело. Цветаева поместит их вместе с Есениным в какой-то межеумочный закуток «того света», в котором царит тот же порядок, что и на земле, и под который они, поразмыслив, порешат «подложить гранату»… Что ж, она и тут верна собственным представлениям, воплощенным еще в «Новогоднем»: каждому – свой «тот свет». А еще позднее, в конце 1932 года, во время перерыва в переписке с другом, она напишет большое эссе «Эпос и лирика современной России (Владимир Маяковский и Борис Пастернак)». В нем – уже спокойно и вдумчиво – она сопоставит творчество двух крупнейших русских поэтов 20-х годов.
Пастернака смерть Маяковского потрясла, но не сломила. В письме Цветаевой от 18 апреля есть примечательная фраза: «Я нигде не мог пристроить двух столбцов о нем, которые ничего страшного, кроме признания красоты его свободного конца, не заключали» (ЦП, 524. Выделено мной, – Е.З.). Заметка, о которой упоминает поэт, не сохранилась, однако о том, как оценивал он этот поступок, красноречиво свидетельствуют заключительные строки стихотворения «Смерть поэта»:
Твой выстрел был подобен Этне
В предгорьи трусов и трусих.
Разрушительный, как вулкан (тут они с Цветаевой сходятся), в России поступок Маяковского действительно мог показаться свободным волеизъявлением в уже набирающем силу круговороте безропотной покорности, арестов и смертей. Ведь совсем недавно, 16 марта, на премьере пьесы Маяковского «Баня» Борис Леонидович с ужасом услышал о расстреле своего 28-летнего знакомого, критика, члена ЛЕФа, убежденного коммуниста и кристально честного человека, Владимира Силлова. (С момента ареста до гибели прошло чуть больше месяца. Узнав о смерти мужа, его жена пыталась выброситься из окна.) Эти события так поразили Пастернака, что подробно, хотя и не называя имен, рассказывает о случившемся в письмах своему отцу и писателю Николаю Чуковскому. Сознавая рискованность своего поступка, поэт предупреждает Н. Чуковского:
«Если же запрещено и это, т.е. если по утрате близких людей мы обязаны притвориться, будто они живы, и не можем вспомнить их и сказать, что их нет; если мое письмо может навлечь на Вас неприятности, – умоляю Вас, не щадите меня и отсылайте ко мне, как виновнику. Это же будет причиной моей полной подписи (обыкновенно я подписываюсь неразборчиво или одними инициалами)»4949
Пастернак Б. Л. Собр. соч. – Т. 5. – С. 298.
[Закрыть].
Так Пастернак впервые осмелился открыто протестовать против действий властей. Впрочем, Марине Ивановне о трагедии Силловых он почему-то не написал.
Видимо, две эти смерти укрепили его решение «о поездке на год – на полтора за границу, с женой и сыном. В крайности, если это притязанье слишком велико, я отказался бы от этого счастья в их пользу», – прибавляет Борис Леонидович, обращаясь к Горькому с просьбой посодействовать в получении разрешения на выезд5050
Пастернак Б. Л. Собр. соч. – Т. 5. – С. 303.
[Закрыть]. Логика понятна: если не удастся выехать вместе, пусть хоть близкие отдохнут от советской действительности, в которой усиливающийся гнет властей дополнялся суровыми жилищными условиями.
О том, что Пастернак планировал остаться за границей, нет ни одного свидетельства. Однако разрешение получено не было. Горький наотрез отказался помогать, советуя подождать. «Не могу, но хотел бы научиться верить, – писал Борис Леонидович Цветаевой 20 июня, – что это слово что-нибудь значит, т.е. что время изменит что-то и приблизит, что это не навсегда, что попытку можно будет возобновить» (ЦП, 526—527). Кажется, впервые он почувствовал, что капкан советского строя захлопнулся… О том, насколько тяжело было ему в эти месяцы, говорит мелькнувший в том же письме факт. В апреле или начале мая Марина Ивановна, видимо, попросила написать Сергею Яковлевичу в санаторий (его лечение затягивалось, что не могло не отразиться на настроении). Однако и к 20 июня письмо написано не было. Поэт признается:
«Когда ты попросила меня написать С.Я., мне тоже было очень тяжело. Простила ли ты мне, и он, что просьба осталась без исполненья?» (ЦП, 528).
Более подробно о своем настроении он рассказывает в письме двоюродной сестре О. М. Фрейденберг, написанном неделей раньше:
«…Чувство конца все чаще меня преследует, и оно исходит от самого решающего в моем случае, от наблюдений над моей работой. Она уперлась в прошлое, и я бессилен сдвинуть ее с мертвой точки, я не участвовал в создании настоящего и живой любви у меня к нему нет»5151
Пастернак Б. Л. Собр. соч. – Т. 5. – С. 305.
[Закрыть].
В это время, особенно после гибели Маяковского, известность Пастернака в широких читательских кругах быстро растет и будет расти до середины 30-х годов. Власти явно пытались его приручить, переиздавая революционные поэмы и одновременно жестко критикуя за любые отступления от советской идеологии. Поэт прекрасно понимал, чего от него хотят, и знал, что этой дорогой не пойдет. Недаром в том же письме Цветаевой Борис Леонидович роняет многозначительную фразу: «Часто болею, ложность положенья растет, своей судьбы не понимаю» (ЦП, 527—528). Впрочем, чуть позже, освоившись в новой обстановке, Пастернак попытается использовать популярность для распространения своих взглядов на культуру и творчество, что приведет к еще большему обострению ситуации…
Пока же Пастернак и не предполагал, что после летнего отдыха на даче рядом с Нейгаузами в местечке Ирпень под Киевом его жизнь резко изменится. (Цветаевой он сообщает о предстоящей поездке с явным неудовольствием.) А Марина Ивановна тем временем уехала с детьми в Савойю, где ей удалось снять деревенский дом в трех верстах от санатория, в котором лечился Сергей Яковлевич. В это время, закончив титаническую работу – перевод на французский собственной поэмы «Молодец» – она взялась за давний замысел «Поэмы о Царской Семье». Заодно и отдыхала – одиночество, гулянье по лесу, многокилометровые прогулки к мужу и на базар в ближайшую деревню были ей по нраву. Однако в конце сентября выяснилось, что Красный Крест больше не может оплачивать лечение Сергея Яковлевича, и в начале следующего месяца семья вернулась домой.
Положение было тяжелым. Опубликовать французского «Молодца» не удалось, больной муж не мог найти работы. Одновременно исчерпались возможности некоторых благотворителей, регулярно помогавших Цветаевой и ее семье. Она шлет, кому можно, в том числе и Пастернаку, письма с мольбой о помощи. 12 октября он откликается деловитой открыткой. Сетуя на задержки с выплатой гонораров, Борис Леонидович сообщает, что «кое-что предпринял и думаю, что результаты опередят письмо. Прости, это гораздо меньше должного и обещанного, но рассчитывай на остальное», – обнадеживает он (ЦП, 528).
Вскоре Пастернак получил с оказией рукопись перевода «Молодца» – и 5 ноября спешит поддержать подругу.
«Твой перевод ошеломил меня. Это верх артистизма во всей его силе и смысле. Просто-напросто это гениально, и легко предречь, что твой вклад во французскую лирику отразится на ее развитьи» (ЦП, 529).
Чем была вызвана эта похвала – искренним чувством человека, любящего творчество Цветаевой, сознательным стремлением укрепить ее самооценку, наконец, влиянием внутрироссийских обстоятельств? Чуть ниже поэт сам помогает сделать выбор:
«…тут у нас свирепейшая проза, и я стараюсь, и мне не до преувеличений. Так вот, утрачивая чувство концов и начал в этом бесплотно капканном времени, я в твоем труде обретаю для него дату» (ЦП, 529).
Парадоксальным образом эта безрассудная с практической точки работа Марины Ивановны вновь, как и весной 1926 года, помогала ему обрести опору в противоборстве с воинствующим конформизмом эпохи.
Посвятив все письмо отклику на «Молодца», Борис Леонидович делает на полях многозначительную приписку: «О себе не пишу не случайно. Это – не тема, пока лучше не надо» (ЦП, 530). Он чувствовал, что стоит на грани нового этапа в жизни, но еще не знал, чем обернется его влечение к жене ближайшего друга, Генриха Нейгауза. (О том, что любовь взаимна, он узнает через два месяца, в первых числах января 1931 года.)
Слухи о любовной драме и уходе Пастернака из семьи быстро достигли Франции. В феврале Марина Ивановна написала сестре: «Мне ему писать сейчас неудобно, он мне давно не пишет, – письмами не считаюсь, но ввиду его переезда и т. д. не хочется та́к напоминать о своем существованьи» (ЦП, 530). Анастасия Ивановна тут же показала письмо Пастернаку, после чего он уже не мог отмалчиваться.
5 марта 1931 года помечен его рапорт Цветаевой о сути случившегося. Не вдаваясь в подробности, Борис Леонидович рассказал о своем отношении к участникам драмы и в качестве «вещественного доказательства» привел свою балладу, посвященную Зинаиде Николаевне. Верный своей привычке, он стремился понять и оправдать всех, и в прежде всего – Евгению Владимировну. «Женя – человек, мизинца которого я не стою и никогда не стоил, и это первая правда, произнесенная мною о ней за всю нашу совместную жизнь», – патетически заявляет Пастернак (ЦП, 533). И в конце прибавляет: «Ничего не знаю. Может быть, вернусь к Жене. Но люблю Зину» (ЦП, 534). К первой семье он не вернется, однако и путь ко второй будет нелегким – выяснение отношений в треугольнике «Нейгаузы – Пастернак» продлится еще около года.
Пока писался «рапорт», пришло письмо и от самой Цветаевой, в котором она, по-видимому, просит Пастернака определиться с отношением к ней. Ясное представление о ее позиции можно получить, читая письмо А. А. Тесковой от 20 марта:
«Теперь – пусто. Мне не к кому в Россию. Жена, сын – чту. Но новая любовь – отстраняюсь. Поймите меня правильно, дорогая Анна Антоновна: не ревность. Но – раз без меня обошлись! У меня к Б <орису> было такое чувство, что: буду умирать – его позову. Потому что чувствовала его, несмотря на семью, совершенно одиноким: моим. Теперь мое место замещено: только женщина ведь может предпочесть брата – любви! Для мужчины – в те часы, когда любит – любовь – все. Б <орис> любит ту совершенно так же как в 1926 г. – заочно – меня. Я Б <орису> написала: „Если бы это случилось пять лет назад… – но у меня своя пятилетка!“ Острой боли не чувствую. Пустота.»5252
Цветаева М. И. Собр. соч. – Т. 6. Письма. – С. 393—394.
[Закрыть]
На этот раз Марина Ивановна оценила ситуацию почти точно. Пастернак действительно был одинок в первой семье и потому так страстно рванулся к ней. 1930 и два последующих года подарили ему не только новую любовь, но и крепкую дружбу с Генрихом Нейгаузом и его кругом, что не могло не отразиться на отношениях с Цветаевой.
Однако и тогда, в 1926 году, он любил ее иначе, чем Евгению Владимировну или Зинаиду Николаевну. Поэтому, получив ее письмо, Пастернак искренне не понимает, что ее так взволновало.
«Зачем ты напоминаешь о нашем совместном? – приписывает он в ответ. – Неужели ты думала, что тут может что-нибудь измениться? Я оттого ни словом его не коснулся, что это – самоочевидность, которой ничто никогда не поколеблет» (ЦП, 534).
Эти строчки наглядно показали: Борис Леонидович насколько отделял свои чувства к Цветаевой от повседневного течения жизни, что верил, будто даже увлечение другой женщиной не сможет их изменить.
Впрочем, Марина Ивановна уже ничего не ждет и потому откликается на его исповедь со спокойным сочувствием. Хвалит стихи: «Баллада хороша. Так невинно ты не писал и в 17 лет – она написана тем из сыновей (два сына), который крепче спит» (ЦП, 534). Стремясь как-то ободрить друга, она заговаривает о своем понимании любви, в том числе о чувстве к Пастернаку.
«С <ергею> больно, я не смогу радоваться Р <одзевичу>. Кто перетянет не любовью ко мне, а необходимостью во мне (невозможностью без), – вспоминает она свой последний роман и продолжает. – <…> Я знаю только одну счастливую любовь: Беттины5353
Беттина фон Арним (1785—1859) – немецкая писательница, в юности была влюблена в И.-В. Гёте и переписывалась с ним.
[Закрыть] к Гёте, Большой Терезы5454
Святая Тереза Авильская (1515—1582), испанская монахиня ордена кармелиток, мистическая писательница.
[Закрыть] – к Богу. Безответную. Безнадежную. Без помехи приемлющей руки. Как в прорву. <…> Что бы я с тобой стала делать до́ма? Дом бы провалился, или бы я, оставив тебя спящим и унося в себе тебя спящего – из него вышагнула – как из лодки. С тобой – жить?!» (ЦП, 534, 535—536).
Так, не найдя воплощения своим мечтам на земле, Цветаева объявляет счастьем саму их несбыточность. Грустная замена…
А Пастернак, видимо, был рад вновь обрести ее сочувствие. Три месяца спустя он, уже не сдерживаясь, изливает ей свои невзгоды, в том числе главную – размолвку с отцом. С середины мая Евгения Владимировна с сыном жили в Германии у его родителей. Узнав от нее подробности семейной драмы, Леонид Осипович написал сыну гневное письмо.
«И добро бы шел этот гнев на меня, преступника, об руку с любовью к пострадавшим, – жалуется Борис Леонидович. – Но, к ужасу моему, я в словах его прочел боязнь, не свалено ли все это ему на шею, – и тут сердце у меня сжимается за своих, потому что ни на что, кроме нравственной поддержки и развлекающего участья, я в их сторону не рассчитывал, матерьяльно сам обеспечу (и частью уже сделал) и значит, в главных своих надеждах, быть может, обманулся» (ЦП, 537).
Нервный срыв был и у Нейгауза – весной, во время концертной поездки в Киев. Зинаида Николаевна тут же бросилась на помощь мужу. «Но Нейгауз человек высочайшей закваски, – едва ли не с гордостью пишет Борис Леонидович, – этот-то знает, что надо совладать, на то и брат мне, и, кажется, постепенно овладевает собой» (ЦП, 537). Ниже он подробно рассказывает о том, как, встретившись на концерте, они помирились у общих знакомых за чтением цветаевского «Крысолова»…
Ответ Марины Ивановны был снова непредсказуем. Она отнюдь не собиралась становиться поверенной в любовных делах друга (хватало и своих проблем!) и потому фактически предлагает прекратить переписку.
«Дорогой Борис, я стала редко писать тебе, п.ч. ненавижу зависимости от часа, – содержание, начертанное не тобой, ни даже мной – не начертанное, а оброненное случайностью часа, – подводит она теоретический фундамент под свое решение. – <…> Мне тебя, Борис, не завоевывать – не зачаровывать. Письма – другим, вне меня живущим. Так же глупо (и одиноко), как писать письмо себе» (ЦП, 539—540).
Что это – возврат к чешским временам, когда она «вызывала» его тень к фонарному столбу на пустынной станции (ЦП, 35)? Сознавала ли Цветаева, что сказанное относится к большинству писем?..
А за «теоретической» частью в письме следовало неожиданное признание.
«Вчера впервые (за всю с тобой, в тебе – жизнь), не думая о том, что́ делаю (и – делая ли то, что́ думаю?), повесила на стену тебя – молодого, с поднятой головой, явного метиса, работы отца. <…> Когда я – т.е. все годы до – была уверена, что мы встретимся, мне бы и в голову и в руку не пришло та́к выявлять тебя воочию – себе и другим… Выходит – сейчас я просто изъяла тебя из себя – и поставила. – Теперь я просто могу сказать: – А это – Б.П., лучший русский поэт, мой большой друг, говоря этим ровно столько, сколько сама знаю» (ЦП, 540). Горькое открытие, которое – увы – отражало действительное положение вещей.
Впрочем, Цветаева не была бы собой, если бы и в этот драматичный момент не сотворила новый миф – миф о Пастернаке как не только творческом, но и кровном потомке Пушкина. (Одновременно летом 1931 года появились первые стихотворения цикла «Стихи к Пушкину». ) Опираясь на отцовский портрет, она пишет:
«Ты думал о себе – эфиопе – арапе? О связи, через кровь, с Пушкиным – Ганнибалом – Петром? О преемственности. Об ответственности. М.б. после Пушкина – до тебя – и не было никого?» Дальше – уже знакомый мотив освобождения от уз нравственности: «Если бы ты, очень тебе советую, Борис, ощутил в себе эту негрскую кровь …, ты был бы счастливее, и цельнее, и с Женей и со всеми другими легче бы пошло» (ЦП, 540). Завершаются эти рассуждения фразой, словно предостерегающей от неверного шага: «Пушкин – негр (черная кровь, Фаэтон5555
Фаэтон – в греческой мифологии сын Аполлона, бога Солнца, решивший без спроса прокатиться по небу на отцовской колеснице. Не справившись с дикими конями, юноша упал на землю и разбился.
[Закрыть]) самое обратное самоубийству, это все я выяснила, глядя на твой юношеский портрет» (ЦП, 541).
А ведь Марина Ивановна не знала, что именно в эти месяцы Борис Леонидович серьезно думал о собственном уходе как наилучшем способе разрубить тугой узел взаимных притязаний и даже писал об этом сестре Жозефине. Полгода спустя, доведенный до отчаянья невозможностью найти в Москве комнату, чтобы создать новую семью, он и впрямь попытается покончить с собой. (Его спасет сестринский опыт и быстрая реакция Зинаиды Николаевны.)
Покончив с прояснением отношений, Цветаева вкратце пишет о своих делах. О том, что сестра Анастасия, боясь преследования, через знакомых просила не печатать монархических вещей. («Таким образом, у меня еще два посмертных тома», – грустно иронизирует она (ЦП, 541). О том, что тяжело болен Д. П. Святополк-Мирский, несколько лет оплачивавший ей квартиру. Напоминает, что не получала первой части «Охранной грамоты» (Пастернак обещал выслать вторую). Просит исполнить просьбу мужа – как выяснили исследователи, речь идет о попытке С. Я. Эфрона получить советское гражданство. И, как черта под всеми невзгодами, – фраза: «Пожимаю плечами и живу дальше» (ЦП, 541)…
На это письмо Пастернак не ответил, и переписка вновь прервалась на два года.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.