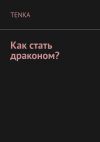Текст книги "Пастернак – Цветаева – Рильке"

Автор книги: Екатерина Зотова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Впрочем, ограничиваться общением с духом-Рильке Цветаева не собиралась. Покончив с «воскаждением», она сообщает о намерении в следующем, 1927 году, навестить его вместе с Борисом. А затем прямиком переходит к объяснению в любви и утверждению своих правил великой любовной игры:
«Знаешь ли, почему я говорю тебе Ты и люблю тебя и – и – и – Потому что ты – сила. Самое редкое.
Ты можешь не отвечать мне, я знаю, что такое время, и знаю, что такое стихотворение. Знаю также, что такое письмо. Вот.
<…>
Чего я от тебя хочу, Райнер? Ничего. Всего. Чтобы ты позволил мне каждый миг моей жизни подымать на тебя взгляд – как на гору, которая меня охраняет (словно каменный ангел-хранитель!).
Пока я тебя не знала, я могла и так, теперь, когда я знаю тебя, – мне нужно позволение.
Ибо душа моя хорошо воспитана.
Но писать тебе я буду – хочешь ты этого или нет. о твоей России (цикл «Цари» и прочее). О многом» (П26, 87—88).
Как мы уже знаем, Рильке с восторгом и благодарностью принял излияния незнакомой ему русской поэтессы. Позже он признается:
«…И в первом твоем письме, и в каждом последующем, меня удивляет твое безошибочное умение искать и находить, неистощимость твоих путей к тому, что ты хочешь сказать, и твоя неизменная правота. …Ты права своей чистой непритязательностью и полнотой целого, откуда ты черпаешь, и в этом – твое беспрерывное право на бесконечность» (П26, 190).
Очевидно, что он сумел оценить не только виртуозное владение словом (Марина Ивановна писала по-немецки!), но и редкую, вплоть до противоречия самой себе, искренность корреспондентки, доверчивую обнаженность ее души.
Пока же Райнер отвечает Цветаевой вдохновенным гимном, возвращая ей ее же комплимент:
«Милая, не ты ли – сила природы, то, что стоит за пятой стихией (то есть поэзией, – Е.З.), возбуждая и нагнетая ее?.. И опять я почувствовал, будто сама природа твоим голосом произнесла мне „да“, словно некий напоенный согласьем сад, посреди которого фонтан и что еще? – солнечные часы. О, как ты перерастаешь и овеваешь меня высокими флоксами твоих цветущих слов!» (П26, 90—91)
Воспользовавшись тем, что Цветаева различает в Рильке поэта и человека, он рассказывает ей о своей болезни как о «разладе» с телом (П26, 91). Со сдержанной тоской Райнер Мария вспоминает о былой гармонии: «Подошвы ног, испытывающие блаженство, столько раз, блаженство от ходьбы по земле, поверх всего, блаженство узнавать мир впервые, пред-знание, по-знание не путем знания!» (П26, 91) С каким сочувствием Марина Ивановна, сама неутомимый ходок, должна была читать эти строки! Но в ответном письме о них – ни звука…
Впрочем, до него было еще одно, появившееся как бы в исполнение обещания писать независимо от отклика. В нем Цветаева стремится рассказать о своем понимании творчества Рильке, однако в результате вышло повествование о самой себе, увиденной в зеркале его стихов. Поэтому не стоит удивляться, что сначала речь неожиданно заходит о сборнике «Часослов», впервые вышедшем еще в 1905 году.
«Тот свет (не церковно, скорее географически) ты знаешь лучше, чем этот, – так, без всякого вступления, начинается письмо, – ты знаешь его топографически, со всеми горами, островами и замками». И чуть ниже она продолжает: «Священник – преграда между мной и Богом (богами). Ты же – друг, углубляющий и усугубляющий радость (радость ли?) великого часа между двумя (вечными двумя!), тот, без кого уже не чувствуешь другого и кого единственного в конце концов только и любишь» (П26, 91—92).
Значит ли это, что именно Рильке, раньше или позднее, «открыл» Марине Ивановне «тот свет»? Маловероятно, тем более что неизвестно, когда вообще сборник попал в ее руки. «Тем светом» она жила с отрочества – примерно с тех самых лет, когда дописывался «Часослов». О любви к «потустороннему общению» Цветаева писала Пастернаку в феврале 1923 года. Поэтому речь может идти скорее о созвучии, совпадении основных идей, которому она, в соответствии с местом Рильке в своем мире, придала вид ученичества. Тот же прием используется в письме не раз. Пользуясь цитатами из присланной Райнером книги «Сонеты к Орфею», она пишет о собственном понимании совершенства:
«Твой «Орфей». Первая строчка:
И дерево себя перерастало…
Вот она, великая лепота (великолепие). И как я это знаю!» (П26, 93)
(Заодно она жалуется поэту на полное отсутствие понимания со стороны эмигрантской критики.)
Над одним из стихотворений Рильке карандашом восстановил посвящение: «К собаке». Опираясь на эту помету, Марина Ивановна подробно рассказывает о своей любви к этим животным – и заканчивает по-детски наивным вопросом: «Есть ли у тебя там¸ где ты сейчас, собака?»… (П26, 95) Она хочет как можно полнее познакомить его со своим творчеством и высылает несколько последних сборников с карандашными пояснениями в наиболее сложных местах.
Получив ответ на предыдущее письмо, Цветаева обрывает размышления: «Только что пришло твое письмо. Моему пора отправляться» (П26, 95). Хотя, казалось бы, вполне можно продолжить разговор. (Именно так в сходной ситуации, причем в эти самые дни, поступил Пастернак.) Но для нее переписка всегда была сродни творчеству. Она создавала очередной роман, разбивая его на главы-письма, каждая из которых посвящалась своей теме.
Тема очередного письма – узнавание. Попытка ответить на вопрос: кого же она любит – человека или поэта. Попытка помочь ему – в ответ на осторожное: «А тебя как увидеть?» (П26, 90) – лучше понять ее, Цветаевой, мир.
Похоже, бурное развитие отношений озадачило Марину Ивановну. Она неожиданно попала в положение своих возлюбленных, почувствовав, что восторги Рильке обращены не столько к ней, сколько к образу, порожденному его сознанием. Она боится потерять расположение великого современника, едва ли не единственного, кого не оттолкнула ее кипучая натура. Отсюда – нехарактерная для Цветаевой неуверенность в себе. Признавшись в самом начале письма:
«Люблю поэта, не человека, – она тут же спохватывается. – Смею ли я выбирать? <…> Ты – уже абсолют. Пока же я не полюблю (не узна́ю) тебя, я не смею выбирать…»
Несколькими строками ниже – уточнение:
«…человека Рильке, который еще больше поэта …, – ибо он несет поэта (рыцарь и конь: ВСАДНИК!), я люблю неотделимо от поэта».
И тут же – новый поворот мысли:
«Написав: Рильке-человек, я имела в виду того, кто живет, издает свои книги, кого любят, кто уже многим принадлежит и, наверное, устал от любви многих. <…> Написав: Рильке-человек, я имела в виду то, где для меня нет места. Поэтому вся фраза о человеке и поэте – чистый отказ, отречение, чтоб ты не подумал, будто я хочу вторгнуться в твою жизнь, в твое время, в твой день (день трудов и общений), который раз навсегда расписан и распределен. Отказ – чтобы затем не стало больно…» (П26, 95—96).
В порыве «отказа» она еще раз напоминает ему о полной свободе:
«Если ты мне скажешь: не пиши, это меня волнует, я нужен себе для самого себя, – я все пойму и стерплю» (П26, 96).
Она даже не подумала о том, что «уставшие от любви многих» таких писем не пишут…
Однако стремление Цветаевой завоевать любовь великого поэта было таким сильным, что, отказываясь на словах от вторжения в его мир, на деле она продолжает наступление. Разделавшись со своими чувствами, она подробно рассказывает Райнеру о детях и муже – «астральном юнкере», который красив «страдальческой красотой». (Именно в этом письме она зачем-то на два года уменьшает свой возраст.) Попутно Марина Ивановна сообщает о своем увлечении Наполеоном Бонапартом и засыпает Рильке множеством вопросов:
«Кто ты, Райнер? Германец? Австриец? … Где ты родился? Как попал в Прагу? Откуда – „Цари“? <…> Давно ли ты болен? Как живешь в Мюзот?» (П26, 97)
А заканчивается письмо многозначительным: «Милый, я уже все знаю – от себя к тебе – но для многого еще слишком рано. Еще в тебе что-то должно привыкнуть ко мне» (П26, 97). Значит ли это, что сомнения в начале письма – не более чем игра?..
Так или иначе, Рильке принял смятение Марины Ивановны всерьез. Он честно пытается вникнуть в ее стихи и даже начал письмо старательно выведенной по-русски первой строчкой из ее стихотворения 1918 года, обращенного к дочери:
– Марина, спасибо за мир!
Дочернее странное слово.
И вот – расступился эфир
Над женщиной светлоголовой…
«Как случилось, Марина, что твоя дочь могла сказать тебе это, – изумленно продолжал он уже по-немецки, – и притом в трудные годы?! Кто в дни моего детства, какой ребенок, по крайней мере, в Австрии, Чехии, произнес бы, ощутив в себе неудержимость отзвука, такие слова?..» (П26, 98)
Однако в целом чтение стихов Цветаевой оказалась для него слишком сложной задачей.
«Марина, мне трудны твои книги, несмотря на то, что ты помогаешь мне в самых сложных местах, – я слишком долго ничего не читал систематически, лишь отдельные вещи, например (в Париже) несколько стихотворений Бориса в какой-то антологии, – признается Райнер Мария и сокрушенно вздыхает. – О, если бы я мог читать тебя так же, как ты читаешь меня!» (П26, 101)
Основная же часть этого большого письма продиктована стремлением Рильке развеять опасения корреспондентки. Коротко рассказав историю своего брака и едва упомянув о внучке, он обращается к теме одиночества – одновременно благодетельного и, как он полагал, губительного.
В Мюзот, пишет поэт, «я живу одиноко (не считая редких дружеских визитов), так же одиноко, как я жил всегда, и даже более: в постоянном и подчас жутком нарастании того, что называется одиночеством, в уединении, достигающем крайней и последней степени (ибо раньше, в Париже, Риме, Венеции, где я жил подолгу один, … везде было какое-то соучастие, чувство сообщности и приобщенности): однако Мюзот, решительней, чем другие места, оставил мне лишь возможность свершения, прыжка в пустоту, отвесно, вознесения всей земли во мне… Да и что сказать тебе, милая, – нежно упрекает ее Райнер за невнимательность, – ведь ты держишь в руках „Элегии“, держишь их в своих руках, возле своего сердца, что участливо бьется от близости к ним…» (П26, 98)
Он подробно рассказывает Марине Ивановне, как в уединении создавал «Дуинезские элегии» и «Сонеты к Орфею», а затем вновь заговаривает о своей болезни, сути которой он пока не знает.
«Однако оттого ли, что, стремясь за пределы достигнутого, я пытался продлить невозможные условия чрезмерной отрешенности, … оттого ли, что механически и слишком долго я терпел такое же необычное затворничество в героической долине, под солнечно-яростным небом виноградной страны, – впервые в жизни, и как-то каверзно, мое одиночество обернулось против меня, уязвляя физически и делая мое пребывание наедине с собой подозрительным и опасным, и все более тревожным из-за телесного недомогания, заглушившего теперь то, чем была издавна изначальнейшая для меня тишина» (П26, 99).
Рильке вновь жалуется на тягостный разлад с собственным телом и, видимо, чувствуя, что силы могут покинуть его в любой момент, предупреждает Цветаеву: «…если вдруг я перестану сообщать тебе, что со мной происходит, ты все равно должна писать мне всякий раз, когда тебе захочется „лететь“» (П26, 100 – 101). 12 мая Марина Ивановна писала ему: «От меня к тебе ничего не должно течь. Лететь – да!» (П26, 92)

М. И. Цветаева. Фото П. И. Шумова (1926)
Чувствуется, как сильно притягивает его Цветаева, способная и по-немецки «достигать своей цели, быть точной и оставаться собой» (П26, 100). Райнер просит ее поскорее прислать более удачную фотографию (в предыдущем письме она упомянула о съемках у известного фотографа П. И. Шумова и прислала фото из паспорта) и обещает в первое же посещение Мюзота отобрать для нее несколько своих. Однако…
Острые углы любви (май – декабрь 1926)
Однако именно после этого нежного и взволнованного письма Цветаева, до сих пор отвечавшая практически мгновенно, на две недели берет «тайм-аут». Его причину она объясняет Пастернаку в двух больших письмах, написанных одно за другим в двадцатых числах мая, после трехнедельного перерыва. (Пересылая в начале мая записку Рильке, она не прибавила к ней ни слова. Это вызвало у Бориса Леонидовича очередной приступ тоски: «Я не знал, что такую похоронную музыку может поднять, отмалчиваясь, любимый почерк» (ЦП, 199), – написал он 19 мая, получив накануне долгожданный ответ любимого поэта.)
«Борис!
Мой отрыв от жизни становится все непоправимей, – так начинается первое письмо. – Я переселяюсь, переселилась, унося с собой всю страсть, всю нерастрату, не тенью – обескровленной, а столько ее (крови, – Е.З.) унося, что напоила б и опоила бы весь Аид…
Свидетельство – моя исполнительность в жизни. Так роль играют, заученное» (ЦП, 205).
Диагноз страшен, и, по-видимому, точен. Исполняя долг жены, матери и хозяйки, искренне любя домашних, Марина Ивановна всеми силами души рвется не просто из семьи – из обыденной жизни вообще. Рвется к свободе чувств и творчества, не стесняемой никакими, даже нравственными рамками. «Мне все равно куда лететь. И, может быть, в этом моя глубокая безнравственность (небожественность)», – пишет она несколькими строками ниже.
Из писем Цветаевой к Пастернаку видно, что стимулом такого «полета» могла стать либо высокая оценка ее творчества, основанная на глубоком понимании, либо чувство, рождающее новые произведения. Видимо, именно глубины ждала она и от переписки с Рильке. Но тяжелобольному поэту уже не под силу разбираться в сложнейших стихах, к тому же, написанных на иностранном языке. Он тянулся к тому, что еще было доступно, – к общению с оригинальной, талантливой, влюбленной в его поэзию женщиной…
Однако такая, чисто человеческая переписка не устраивала Марину Ивановну. В письме от 2 августа она наконец сформулирует, чего хочет от Рильке: «Райнер, я хочу к тебе, ради себя, той новой, которая может возникнуть лишь с тобою, в тебе» (П26, 191). (Примечательна формулировка: не ради него, не ради любви – ради себя…) Пока же, вспомнив о планах Пастернака «поехать к Рильке», Цветаева резко отвергает их:
«А я тебе скажу, что Рильке перегружен, что ему ничего, никого не нужно, особенно силы, всегда влекущей, отвлекающей. Рильке – отшельник. <…> На меня от него веет последним холодом имущего, в имущество которого я заведомо и заранее включена. Мне ему нечего дать: все взято. Да, да, несмотря на жар писем, на безукоризненность слуха и чистоту вслушивания – я ему не нужна, и ты не нужен» (ЦП, 207).
Вот так – весьма оригинально – были истолкованы жалобы Райнера на тяготы одиночества. Между прочем, мотив «холода» возник в первом же письме Цветаевой к Рильке – там, где она объясняет, почему никогда не пришла бы к нему первой:
«А может быть, – от страха, что придется встретить Ваш холодный взгляд – на пороге Вашей комнаты. (Ведь Вы не могли взглянуть на меня иначе! А если бы и могли – это был бы взгляд, предназначенный для постороннего – ведь Вы не знали меня! – то есть: все равно холодный.)» (П26, 86).
Как видим, Марина Ивановна выдумала холод Рильке еще до знакомства с ним.
В следующем письме Пастернаку, несколько раз касаясь этой темы, Цветаева проговаривается насчет еще одного возмутившего ее факта. Сожалея, что не может осилить ее стихи, поэт вспоминал: «А ведь еще десять лет назад я почти без словаря читал Гончарова…» (П26, 101). «Какая растрата! – иронизирует Марина Ивановна по этому поводу и продолжает уже всерьез. – …Есть мир каких-то твердых (и низких, твердых в своей низости) ценностей, о которых ему, Рильке, не должно знать ни на каком языке» (ЦП, 219). Так – безжалостно, не взирая ни на свою, ни на его боль, – она пытается отсечь все, что не вяжется с ее представлением о великом поэте.
А боль была сильна. Усиливало ее и сомнение в собственной правоте. «О, Борис, Борис, залечи, залижи рану, – восклицает Марина Ивановна все в том же письме. – Расскажи, почему. Докажи, что все та́к. Не залижи, – ВЫЖГИ рану!» (ЦП, 214).
Но Пастернаку самому было не сладко. Ведь это он свел двух поэтов и потому чувствовал себя в ответе за последствия. (В какой-то момент ему даже показалось, что Цветаева не любит Рильке «как надо и можно» (ЦП, 225), то есть так, как он сам.) Кроме того, ее слова невольно разрушали его собственное представление о кумире. Когда недоразумение рассеялось, Борис Леонидович признался: «…Я так верю каждому твоему слову, что когда ты принялась умалять или оледенять его, я принял это за чистую монету и пришел в отчаянье…» (ЦП, 226). Однако, в отличие от подруги, на этот раз он сдержал эмоции, только написал о необходимости «серьезного разговора», который из-за жизненных неурядиц придется отложить на потом (ЦП, 220). Тем временем пришедшее 9 или 10 июня письмо Марины Ивановны, в которое она вложила копии двух первых писем Рильке, расставило все на свои места. «Химеры» цветаевских домыслов «были рассеяны его изумительным вторым письмом» (ЦП, 226), и главная тема «разговора» отпала сама собой.
Единственной «головной болью», связанной у Пастернака с именем Рильке, оставался ответ на его «благословенье», точнее, его отсутствие. Не позволяя себе отвлекать великого поэта незначительным письмом, он хотел предстать перед ним с произведением, отражающим свое нынешнее мировосприятие. Но работа еще не была готова, и Борис Леонидович скрепя сердце молчал.
А Цветаева, выговорившись и несколько успокоившись, возобновила переписку с Рильке. Главной темой ее письма, помеченного 3 июня, стало объяснение молчания. Вначале Марина Ивановна почти дословно цитирует большой фрагмент собственного письма Пастернаку о «холоде имущего», а затем излагает новый вариант причины своего поступка.
«До жизни человек – все и всегда, живя жизнь, он – кое-что и теперь. (Есть, имеет – безразлично!)
Моя любовь к тебе раздробилась на дни и письма, часы и строки. Отсюда – беспокойство. (Потому ты и просил о покое!2626
Так Цветаева истолковывает предупреждение Рильке о том, что он может внезапно замолчать.
[Закрыть]) Письмо сегодня, письмо завтра. Ты живешь, я хочу тебя видеть. Перевод из Всегда в Теперь. Отсюда – терзание, счет дней, обесцененность каждого часа, час – лишь ступень – к письму. <…>
Чего я от тебя хотела? Ничего. Скорей уж – возле тебя. Быть может, просто – к тебе. Без письма уже стало – без тебя. Дальше – пуще. Без письма – без тебя, с письмом – без тебя, с тобой – без тебя. В тебя! Не быть. – Умереть!
Такова я. Такова любовь – во времени. Неблагодарная, сама себя уничтожающая. Любви я не люблю и не чту.
<…>
Итак, Райнер, это прошло. Я не хочу к тебе. Не хочу хотеть.
<…>
И – чтобы ты не счел меня низкой – не из-за терзания я молчала – из-за уродливости этого терзания!» (П26, 126—127)
В сущности, это – еще одна попытка отказа от сближения, от якобы неразделенного чувства, о котором Цветаева писала ровно три недели назад. Будучи ярким эгоцентриком, она не только не способна была зависеть от желаний или возможностей любимого, но и, как видно из письма, считала такую зависимость «уродливой». Однако, искренне стремясь защитить себя от очередной боли, Марина Ивановна одновременно пытается сохранить переписку с великим поэтом (иначе бы не писала!). Потому-то при первых фактах, опровергающих ее опасения, она без сомнений отбросит их.
Для Рильке же отказ от любви или дружбы во имя творчества с молодости стал нормой жизни. Поэтому он спокойно принимает решение Марины Ивановны, хотя и считает ее толкование своих слов ошибочным, а отношение к себе «предвзятым» (П26, 127). В любом случае, оно представлялось поэту не концом переписки, а началом нового ее этапа:
«Теперь, когда пришло нам время „не хотеть“, – пишет он, – мы заслуживаем отзывчивости. Вот мои маленькие фотографии. Пришлешь ли мне „несмотря ни на что“, свою – другую? Я не хотел бы отказываться от этой радости» (П26, 127).
Совпадение точек зрения на любовь и творчество (истинное или мнимое – не важно) вызвало один из последних творческих взлетов Райнера. Буквально за один день, 8 июня, была написана «Элегия для Марины», в которой поэт, словно укрепляя корреспондентку на выбранном ею пути, излагал суть своего восприятия мира. Провозглашая неотвратимость бесконечного круговорота жизни и смерти, бытия и небытия, он в то же время утверждает, что «любовь вечно нова и свежа и не должна ничего знать о темнеющих безднах. / Любящие – вне смерти» (НА, 87). Однако в финале элегии оказывается, что Рильке видит вершину этого чувства вовсе не в слиянии двоих:
Боги сперва нас обманно влекут к полу другому, как две половины в единство.
Но каждый восполниться должен сам, дорастая, как месяц ущербный до полнолунья.
И к полноте бытия приведет лишь одиноко прочерченный путь
Через бессонный простор. (П26, 129)
Цветаева с восторгом принимает этот дар. Однако из ее ответа поэт неизбежно должен был понять и иное – как далеко реальное мировосприятие русской поэтессы от его собственного. Словно забыв о предыдущем письме, она вновь пишет: «Райнер, я люблю тебя и хочу к тебе» (П26, 140). Рассказывает она и о том, что Пастернак почувствовал, будто она «отстраняет» его от Рильке. (В письме от 23 мая он действительно обронил: «У меня смутное чувство, точно ты меня слегка от него отстраняешь» (ЦП, 208). Именно в ответ на этот упрек она переслала ему письма Рильке.) Оправдывая свой поступок, Марина Ивановна признается:
«Борис подарил тебя мне. И, едва получив, хочу быть единственным владельцем. Довольно бесчестно. И довольно мучительно – для него. Потому я и послала письма» (П26, 140).
Так в переписке появляется тема собственничества в любви, тема, чуждая мировосприятию Рильке. В начале письма она выражена еще резче: «О, я плохая, Райнер, <в чувствах> не хочу сообщника, даже если бы это был сам Бог» (П26, 139). Позже, уже после смерти поэта, Цветаева разрешит публиковать свою переписку с Рильке только через 50 лет.
«Как можно, любя человека, отдавать его всем, «первому встречному, самому недостойному»2727
Кавычки из будущего. (Примеч. М. Цветаевой.)
[Закрыть] – вопрошала она в статье «Несколько писем Райнер-Мариа Рильке». — Как можно это вынести – перевод его почерка на лино– или монотип? с бумаги той – на бумагу – эту?
Где же ревность, священная после смерти?» (НА, 161—162)
Из-за ухудшившегося самочувствия Райнер Мария Рильке не ответил на письмо, но отношений не прервал. В конце июня он послал Цветаевой свой только что вышедший сборник «Vergers», составленный из стихотворений, написанных по-французски…
А между тем Марина Ивановна никак не могла разобраться в собственных чувствах. По-видимому, никогда раньше она не оказывалась в ситуации, когда несколько людей одновременно были ей одинаково дороги, так что выбор в пользу одного невозможен. И снова ее наперсником становится Пастернак…
В 20-х числах июня, не дождавшись ответа от Рильке, она обрушивает на него свои сомнения. В черновике это выглядит так:
«Можно ли, любя Рильке, не любить его больше всего на свете, можно ли, любя Пастернака, не любить его больше всего на свете, можно ли, любя своего сына, не любить его больше всего на свете. Можно ли, любя Гете – <оборвано>. Можно ли, осмеливаясь произнести или даже не осмеливаясь произнести люблю, не давать всего себя целиком, назад, вперед, навсегда, во веки веков, аминь.
Борис, я люблю его больше всего на свете, больше тебя. Этого ты хотел? Если да, ты совершенно божественное чудовище, как я, но это скобка» (ЦП, 237—238).
Пастернаку были близки и понятны ее проблемы. Над выработкой собственного отношения к тому же вопросу он бился с весны 1923 года, когда впервые ощутил необходимость определиться в отношениях с женой и «сестрой» – Цветаевой. К весне 1926 года решение, похоже, было найдено. Вот как оно формулируется в письме Марине Ивановне от 4 апреля:
«Сейчас от младшей сестры из Берлина <пришла> … копия письма Rilke к отцу со словами обо мне, и в ответ на эту любовь – благодарность тебе и слова, о как я люблю ее, Марину, охватывающую: и младшую сестру, и мать, и горизонт, и все, что случится, знающую все так, как надо знать, как, мне кажется, надо знать. И пусть они все существуют, милые, отдельные, сыгравшие свою роль в этой, под тебя глядящей жизни, пусть живут дальше и продолжают играть свою роль, и будем ласковы к ним отдельным, будем печься об их здоровье, желать им успеха и их любить, моя вся, моя общая, моя, как жизнь, умная, одухотворенная, умелая!» (ЦП, 163).
В перечне Пастернака нет жены, однако этими словами наверняка выражалось отношение и к ней, невольно ставшей одной из ступенек странной лестницы, ведущей, как казалось поэту, к идеальной, всеобъемлющей любви. Чуть раньше, 25 марта, он так отзывался о Евгении Владимировне:
«В основе она хороший характер. Когда-нибудь, в иксовом поколении, и эта душа, как все, будет поэтом, вооруженным всем небом. Не низостью ли было бы бить ее врасплох, за то и пользуясь тем, что она застигнута не вовремя и без оружия. <…> Забота об этой жизни, мне кажется, привита той судьбе, которая дала мне тебя» (ЦП, 151).
В последних числах июня, проводив жену с сыном к своим родителям в Германию, Пастернак почувствовал всю тяжесть одиночества. И это – притом, что с весны отношения в семье были близки к разрыву, который не состоялся лишь потому, что в последний момент Евгения Владимировна попросила мужа остаться. Однако остались и проблемы. Ей казалась оскорбительной его готовность делить свои чувства между женой и подругой. (Скрывать свои увлечения от близких Борис Леонидович не мог да, видимо, и не хотел.) Искренне привязанный к семье, он считал притязания жены необоснованными и так страдал от непонимания, что сомневался в ее любви. Отказ Пастернака от поездки за границу с семьей, как и решение через год ехать туда одному, еще больше обострило конфликт. Евгению Владимировну стесняло длительное пребывание у родственников мужа, обижало его отдаление от семьи.
Во время летней переписки дело с обеих сторон практически дошло до разрыва. В мучительную процедуру выяснения отношений между супругами была втянута и сестра Пастернака Жозефина, у которой гости из Москвы жили довольно долго.
«Может, тебе кажется, …что одна жизнь должна быть только входящей, а другая ее обнимающей, но не равной по величине, – пишет Евгения Владимировна. – Нет, только если они друг друга будут покрывать, потому что даже и тот случай, когда они могут быть равны и частично покрывать друг друга, оставаясь в остальных частях в одиночестве, возможен только тогда, если все это остальное будет только работа каждого, и опять тогда выйдет поровну» (ПП, 170). Она открыто предлагает мужу выбор между собой и Цветаевой и завершает так: «Это письмо береги. Это или мое брачное духовное свидетельство, или развод» (ПП, 171). «Я тебя люблю, но не живу и не буду жить с тобою», – ответил он (ПП, 179)…
Влюбчивый от природы, Борис Леонидович, особенно в молодости, был весьма консервативен в нравственном плане. Он привык сдерживать свои чувственные порывы, однако в жаркой летней Москве это оказалось трудноразрешимой задачей. Страстные размышления Цветаевой о любви ко многим сразу, живым и давно ушедшим (ведь среди любимых «больше всего» назван и Гете!), именно в этот момент были ему особенно созвучны. Поэтому 1 июля Пастернак решил поделиться с подругой своими проблемами. Он признается, что «никогда не мог бы любить ни жены, ни тебя, ни, значит, и себя, и жизни, если бы вы были единственными женщинами мира, т.е. если бы не было вашей сестры миллионов;… Потому что только за то я и люблю, когда люблю, что, правым плечом осязая холод правого бока мироздания, левым – левого, и значит, застилая все, во что глядеть мне и куда идти, она (любимая, – Е.З.) в то же время кружит и моется роем неисчислимой моли, бьющейся летом в городе на границе дозволенного обнаженья» (ЦП, 242). Иначе говоря, любовь для него была неразрывно связана с усилием самоограничения, мучительного выбора одной из множества возможностей.
Более того, сама жизнь оказывается не чем иным, как единственной реализованной возможностью на фоне остальных вариантов.
«Боже, до чего я люблю все, чем не был и не буду, – восклицает Пастернак, – и как мне грустно, что я это я. До чего мне упущенная, нулем или не мной вылетевшая возможность, кажется шелком против меня! Черным, загадочным, счастливым, отливающим обожаньем. <…> И смерти я страшусь только оттого, что умру я <подчеркнуто трижды>, не успев побывать всеми другими» (ЦП, 243).
Сознавая, что рассуждения выносят его за грань приличия, Борис Леонидович оправдывает себя тем, что «на всех этих истинах, открывающихся только в таком потрясеньи, держится, как на стонущих дугах, все последствующее благородство духа, разумеется до конца идиотское, ангельски трагическое» (ЦП, 242).
Но такое «благородство духа» Цветаевой было совершенно непонятно.
«Верность как самоборение, – признается она в ответ, тщательно шлифуя формулировки от черновика к чистовику, – мне не нужна (я – как трамплин, унизительно). Верность как постоянство страсти мне непонятна, чужда. (Верность, как неверность, – все разводит!) Одна, за всю жизнь, мне подошла (может быть, ее и не было, не знаю, я не наблюдательна, тогда подошла неверность, форма ее). Верность от восхищения. Восхищение заливало в человеке все остальное, он с трудом любил даже меня, до того я его от любви отводила. Не восхищённость – восхи́щенность. Это мне подошло» (ЦП, 252—253). (Интересно, что понимала Марина Ивановна под словом «восхи́щенность», соединяющем в себе восхищение – и похищение?)
Отталкиваясь от этого положения, Цветаева «дарует» Пастернаку полную свободу чувств:
«Не мучься. Живи. Не смущайся женой и сыном. Даю тебе полное отпущение от всех и вся. Бери все, что можешь, – пока еще хочется брать!» (ЦП, 255)
Однако выше предупреждает:
«Я тебя понимаю издалека, но если я увижу то, чем ты прельщаешься, я зальюсь презрением, как соловей песней. <…> Я излечусь от тебя мгновенно».
И объясняет причину кажущегося противоречия:
«Пойми меня: ненасытная исконная ненависть Психеи к Еве, от которой во мне ничего. А от Психеи – все. Психею – на Еву! Пойми водопадную высоту моего презрения. (Психею на Психею не меняют.) Душу – на тело. Отпадают и мою и ее. Ты сразу осужден, я не понимаю, я отступаю» (ЦП, 253).
Так, разуверившись в возможности воплотить свои мечты об идеальной любви в жизни, Цветаева создает очередной миф – миф о своей чисто духовной природе. От Евы (так она обозначает женское естество) у нее якобы нет ничего, от Психеи (воплощение души) – все. Опровергать подобные построения бессмысленно, хотя доказательства их ошибочности лежат буквально на поверхности. Важно другое: любой миф несет в себе частицу истины. Истина же – в том, что Марина Ивановна, несмотря на неутоленную жажду нормальной человеческой любви во всей ее полноте, никогда не смирялась с различием между образом возлюбленного и его реальным обликом, никогда не подчинялась в ущерб идеалу конкретным обстоятельствам (как физиологическим, так и душевно-духовным). Этим она резко отличалась от Пастернака, признавшегося в поэме «Высокая болезнь» (1923): «Всю жизнь я быть хотел, как все». Правда, в реальной жизни и у него это желание то и дело подавлялось более сильным стремлением – быть верным самому себе…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.