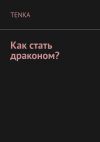Текст книги "Пастернак – Цветаева – Рильке"

Автор книги: Екатерина Зотова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
Цветаева «возвращает» другу его собственную строчку из стихотворения 1917 года «Я их мог позабыть?..» У Пастернака она несет не социальный, как кажется вне контекста, а антимещанский смысл: поэт бичует себя за минутную измену «чистым» страстям, за попытку вжиться в человеческий быт. («Пролетарий» здесь – человек нового времени, разрушитель мещанского мира.) Впервые Марина Ивановна обратила внимание на созвучие этой строки собственным ощущениям еще в 1923 году – «крик, вопиюще мой» (ЦП, 31). Тогда это сходство ее радовало, сейчас она бьет друга его же оружием. Впрочем, меняется и смысл: признавая, что перечисленные поэты «родом выше» ее самой, Цветаева отчасти возвращает «пролетарию» исконное – социальное – звучание. Он – уже не разрушитель враждебного мира, а человек, страдающий от произвола высших слоев общества и потому вынужденный «огрызаться» (ЦП, 559). Странно и горько: начав с чувства героического противостояния мещанской косности, к концу своих дней Марина Ивановна сама оказалось в положении «маленького человека». Впрочем, и эта нота появилась «не вчера» – еще летом 1925 года она увидела себя в нищей, но гордой Катерине Ивановне из «Преступления и наказания» (ЦП, 119).
Свое обоснование «нечеловечности» товарищей по перу Цветаева завершает пронзительным предчувствием «неправильности» своей смерти.
«Рильке умер, не позвав ни жены, ни дочери, ни матери. А все – любили. Это было печение о своей душе. Я, когда буду умирать, о ней (себе) подумать не успею, целиком занятая: накормлены ли мои будущие провожатые, не разорились ли близкие на мой консилиум, и м.б. в лучшем, эгоистическом случае: не растащили ли мои черновики» (ЦП, 558).
Вряд ли справедлива ее догадка в отношении Рильке, слишком своеобразны были его отношения с близкими. Достоверно известно другое – прежде чем свести счеты с жизнью, Марина Ивановна нажарила рыбы для сына…
Цветаева оправдывает «нечеловечность» поэтов одним – творчеством: «только такие создают такое» (ЦП, 559) и видит в них единственную человеческую черту – сексуальное влечение. «И будь я – не я, Рильке ко мне бы со смертного одра приехал – последний раз любить!» – запальчиво восклицает она, начисто забыв (или – так и не поняв?), чем завершился их роман. (Вспомним: как только она начала выдвигать условия, Райнер Мария прекратил переписку…)
Свой мини-трактат о нечеловечности поэтов Цветаева завершает категорическим:
«Только пол делает вас человеком, даже не отцовство.
Поэтому, Борис, держись своей красавицы» (ЦП, 559).
А затем, выплеснув горечь и боль, Цветаева, как ни в чем ни бывало, подытоживает: «Я сама выбрала мир нечеловеков, что же мне роптать???» (ЦП, 560). Обещает прислать летние фотографии и просит, чтобы Пастернак передал их сестре Анастасии. (После этого следует примечательная фраза: «Ты ведь все жжешь: не хочу, чтобы Мура сожгли» (ЦП, 560). Не в огне ли погибли последние письма самой Цветаевой?..) Предлагает: «Вообще, давай переписываться – спокойно» (ЦП, 560). Отзываясь на похвалу прозы, уточняет: «пишу для заработка: чтения вслух, т.е. усиленно членораздельно, пояснительно. <…> Моя вежливость не позволяет час стоять и читать моим „последним верным“ явно-непонятные вещи – за их же деньги» (ЦП, 560).
По ходу дела выясняется еще одна странная деталь – Марина Ивановна то ли сознательно не заглядывала в черновики собственных писем, то ли (что более вероятно) вела с адресатом некую, одну ей понятную игру. На вопрос Бориса Леонидовича про «абсолюты» признается: «Слова не помню (да и не личное) – и, не без иронии, продолжает: – очевидно: „рассчитывала на тебя, как на каменную гору, а гора оказалась горбом анаконды (помнишь, путешественники развели костер на острове, а остров, разогретый, перевернулся – и все потонули…“ Такое?» (ЦП, 559). Подмена смысла очевидна – в ее предыдущем письме речь шла вовсе не о поддержке, а о невозможности выстраивания равноправных человеческих отношений двух поэтов.
Заканчивая письмо, Цветаева пытается спокойно подвести черту под прошлым: «наша повесть – кончена» (ЦП, 561). И тут же, не сдержавшись, бросает последний упрек:
«Думаю и надеюсь, что мне никогда уже от тебя не будет больно. <…> Теперь – не бойся, после того, что ты сделал с отцом и матерью, ты уже мне никогда ничего не сможешь сделать. Это (нынче, в письме: проехал мимо…) был мой последний, сокрушительный удар от тебя, ибо я сразу подумала – и вовсе не косвенный, а самый прямой, ибо я сразу подумала: если так поступил Б.П., лирический поэт, то чего же мне ждать от Мура? Удара в лицо? (Хотя неизвестно – что легче…)» (ЦП, 561)
Чего она хотела от такого письма? Как ни парадоксально, скорее всего – ничего. Читая это странное, противоречивое, беспощадное не только к друзьям, но и к самой себе послание, как никогда остро чувствуешь главную примету цветаевского бытия: Марина Ивановна не проживала свою жизнь, она ее творила. Причем, в отличие от большинства поэтов «средней руки», творила не только в стихах, но и в дневниковых записях, и в отношениях с окружающими. Об этом различии она писала Пастернаку еще в начале 1923 года:
«Каторжного клейма поэта я ни на одном не видела: это жжет за версту. Ярлыков стихотворца видала много – и разных: это, впрочем, легко спадает при первом дуновении быта. Они жили и писали стихи (врозь) – вне наваждения, вне расточения, копя все в строчки – не только жили: наживались» (ЦП, 34).
А через четыре с половиной года Цветаева признается другу: «Стихи думают за меня и сразу. … Я из них узнаю, что́, о чем и как бы думала, если бы…» (ЦП, 369). А так как стихами в том же письме названо «все, что не отвратительно», нет ничего странного, что ту же роль порой играли не только письма, но и любой записанный текст.
Марина Ивановна цепко схватывала отдельные факты (к примеру, зацикленность Пастернака на собственной жене), но не видела, да и не искала нити, связывающие их с другими элементами реальности. Вместо этого она строила из отдельных фактов-кубиков свой мир, скрепляя их собственными представлениями о том, какими должны быть отношения между людьми, событиями, вещами… Даже когда выстроенная конструкция рушилась под натиском жизни, Цветаева искала причины в чем угодно – только не в собственных расчетах. Вот и на этот раз, столкнувшись с тем, что поведение друга явно не соответствует образу пламенного поклонника, который рисовался в его письмах, она, похоже, и не пыталась выяснять, что произошло. Реальная жизнь Бориса Леонидовича была ей попросту неинтересна. На обломках старого мифа тут же вырос новый – о трагической разобщенности поэтов, об их неспособности любить друг друга. Его контуры видны уже в июльском письме, в той самой фразе «про абсолюты», однако завершен он был только в октябре. Выплеснув его в тетрадь, Марина Ивановна тем самым заделала брешь в собственном понимании мира, еще более утвердившись в своем вселенском одиночестве…
Узнал ли Пастернак о переменах в ее отношении к нему? Ответа на этот вопрос не существует, так как нет никаких данных о том, что это письмо было послано адресату. Сам Борис Леонидович больше во Францию не писал. В записных книжках Цветаевой сохранился черновик еще одного письма ему, датированный мартом 1936 года, однако в нем нет никаких намеков на предыдущие письма.
В феврале 1936 года в Минске проходил III пленум Союза писателей СССР. Выступления его участников по горячим следам публиковались в «Литературной газете». 24 февраля под названием «О скромности и смелости» в ней появилось и выступление Пастернака. Название, по-видимому, было дано редактором, однако оно точно отражает основные идеи речи. В начале поэт ратует за отказ от «приподнятой, фанфарной пошлости, которая настолько вошла у нас в обычай, что кажется для всякого обязательной»7070
Пастернак Б. Л. Выступление на III пленуме правления Союза писателей СССР в Минске. // В кн.: Пастернак Б. Л. Собр. соч. – Т. 4. – С. 634.
[Закрыть]. Отвечая на упрек Н. Безыменского в том, что он «не ездит читать стихи», Борис Леонидович высказывает твердое стремление не опускаться до уровня массового любителя стихов, а поднимать его до себя:
«…Давно-давно, в году двадцать втором, я был пристыжен сибаритской доступностью победы эстрадной. Достаточно было появиться на трибуне, чтобы вызвать рукоплескания. <…> Я увидел свою роль в возрождении поэтической книги со страницами, говорящими силою своего оглушительного безмолвия…»7171
Пастернак Б. Л. Собр. соч. – Т. 4. – С. 635.
[Закрыть].
Откликаясь на прения о «хороших и плохих стихах», он поднимает вопрос о путях совершенствования в искусстве. «Искусство без риска и душевного самопожертвования немыслимо, – утверждает Пастернак, – свободы и смелости воображения надо добиться на практике, здесь именно уместны неожиданности, … не ждите на этот счет директив»7272
Пастернак Б. Л. Собр. соч. – Т. 4. – С. 637—638.
[Закрыть]. В связи с этим, появление слабых стихов поэт считал естественным этапом развития творческой личности, которая берется за решение новых творческих задач.
Как видим, оправившись от нервного срыва, Борис Леонидович остался самим собой. Более того: в отстаивании собственных взглядов на искусство он, кажется, стал еще резче и последовательнее. Почувствовала это и Цветаева, которая, возможно, с подачи мужа, прочла публикацию в «Литературке». (Известно, что обычно она газет не читала.) Марина Ивановна тут же «наложила» на его позицию свою – об исконном противостоянии поэта и толпы – и ясно увидела различия, вновь резанувшие болью за друга, изменяющего, как ей кажется, своему предназначению. «Ничего ты не понимаешь, Борис (о лиана, забывшая Африку!) – ты Орфей, пожираемый зверями: пожрут они тебя» (ЦП, 563), – восклицает она, имея в виду сообщество советских писателей. (И сожрали-таки, правда, через двадцать с лишним лет…)
«Тебя никакие массы любить не могут, так же как ты – никаких масс любить не можешь… – страстно внушает Цветаева. – <…> И, по чести: чем масса – судья? (твоим стихам и тебе). <…> Я тебе судья – и никто другой» (ЦП, 563).
И все же, думается, жар ее строк вызван не только расхождением во взглядах (а когда они совпадали?), но и… ревностью. Пастернак никогда не скрывал, что стремится, не изменяя себе, тем не менее, быть услышанным читателем. Середина 30-х годов – пик его популярности, и это подталкивало поэта к новым шагам навстречу современникам. Именно в это время завершается его поворот к «неслыханной простоте» стиля. Цветаевой тоже не была чужда мечта о прижизненной славе. Однако служение поэзии было для нее неизмеримо выше любых других соображений. В прозе она еще могла ради заработка писать «усиленно членораздельно» (ЦП, 560), в стихах – никогда. Непонимание ее произведений эмигрантской публикой только усиливало стремление отстоять творческую независимость. Неудивительно, что, не вникая в причины успеха Пастернака, Цветаева ревниво защищает поэзию от любых намеков на возможную популярность. Она признается, что готова за скромное вознаграждение (фактически – за «прожиточный минимум») отказаться от возможности публиковаться. «Но, милый Борис, если бы мне всю родину с ее Алтаем, Уралом, Кавказом и Б.П. – как на ладони подали – за согласие никогда больше не увидеть своих черновиков – еще всю Канаду и всю … … прибавь – нет» (ЦП, 564).
Эта последняя попытка Марины Ивановны преодолеть последствия «невстречи» свидетельствует о том, что, несмотря на все разногласия, разочарования и обиды, Пастернак был ей необходим. В отличие от большинства возлюбленных, он высоко ценил и понимал ее поэзию, и эта творческая отзывчивость, в конечном счете, оказалась гораздо важнее любовных грез. Но ответа не было…
Эпилог
18 июня 1939 года Марина Ивановна вернулась в Москву. Оставаться дальше за границей не было смысла – дочь Ариадна уехала в СССР еще в марте 1937-го, а в ноябре того же года был тайно переправлен в Москву замешанный в убийстве шпиона-перебежчика Сергей Яковлевич. После этого скандала Цветаева с сыном, который под влиянием отца тоже рвался в СССР, оказались во Франции в полной изоляции.
Впрочем, и на родине было немногим лучше. Багаж, в том числе рукописи и рабочие тетради, задержали на таможне (его удастся получить только через год), а самой Цветаевой власти, по-видимому, посоветовали «не высовываться». Впрочем, на другое Марина Ивановна и не рассчитывала. В письме А. А. Тесковой, написанном за 5 дней до отъезда, в суматохе сборов, она признается:
«Боже, до чего – тоска! Сейчас, сгоряча, в сплошной горячке рук – и головы – и погоды – еще не дочувствываю, но знаю чтó меня ждет: себя – знаю! Шею себе сверну – глядя назад: на Вас, на Ваш мир, на наш мир…»7373
Цветаева М. И. Собр. соч. – Т. 6. Письма. – С. 479.
[Закрыть]
Но – не могла иначе, не могла отречься от Сергея Яковлевича, не могла представить, что ее Мур станет французом…
Все лето и большую часть осени Цветаева прожила в поселке Болшево под Москвой, на казенной даче, половину которой НКВД предоставил мужу в качестве постоянного жилья. (Вторую половину тоже занимала семья «возвращенцев». ) Угнетал полудеревенский быт, скученность, общая кухня – от всего этого она во Франции отвыкла. Но и такая относительно спокойная семейная жизнь продолжалась всего два месяца. 27 августа прямо на даче была арестована Ариадна, 10 октября – Сергей Яковлевич, 7 ноября забрали соседей… После этого Марина Ивановна с сыном буквально бежит в Москву – к старшей сестре мужа Елизавете Яковлевне Эфрон, которая живет вдвоем с подругой в перегороженной комнате коммуналки (там же и работает – преподает художественное чтение ведущим актерам Москвы).

Б. Л. Пастернак и М. И. Цветаева (конец 30-х годов)
Надо было срочно думать о том, где и на что жить. Судя по записи в дневнике литературоведа Анатолия Тарасенкова, фанатичного любителя и собирателя современной поэзии, Пастернак рассказал ему о приезде Цветаевой 2 ноября 1939 года. Говорил, что она приходила к нему домой и оставила «книгу» (точнее, рукопись) последних стихов7474
См.: Белкина М. И. Скрещение судеб. – М., 1988. – С. 32—33.
[Закрыть]… Когда состоялась эта встреча, неизвестно. Вдова Тарасенкова Мария Белкина полагала, что еще летом, потому-то, дескать, Борис Леонидович и не знал об арестах. Произойти это могло лишь в конце июня, так как, по свидетельству Е. Б. Пастернака, в первых числах июля отец уехал на дачу в Переделкино и до середины осени усиленно работал там над переводом «Гамлета». Он же сообщает, что в первых числах ноября (может быть, как раз первого – второго?) Борис Леонидович ездил к подруге в Болшево7575
См.: Пастернак Е. Б. Борис Пастернак. Материалы для биографии. – С. 540—542.
[Закрыть]. Поэтому не исключено, что об участи Ариадны и Сергея Яковлевича во время разговора с Тарасенковым он уже знал, но не захотел распространяться, чтобы не отпугнуть. Целью же сообщения, несомненно, было стремление создать вокруг Цветаевой кружок почитателей.
Пока мать и сын ютились у Е. Я. Эфрон, Борис Леонидович помог Марине Ивановне найти переводческую работу, познакомил со своими друзьями. М. Белкина полагает, что в ноябре 1939 года Пастернак разговаривал с первым секретарем Союза писателей Александром Фадеевым о возможности принятия Цветаевой в эту организацию или хотя бы в Литфонд, но получил резкий отказ7676
Белкина М. И.. Указ. соч., с. 71.
[Закрыть]. (Впрочем, Е. Б. Пастернак утверждает, что подобный разговор состоялся почти через год, летом 1940 года, во время визита Цветаевой в Переделкино7777
Пастернак Е. Б.. Указ. соч., с. 545.
[Закрыть].) Так или иначе, в ноябре она сама обращается к Фадееву с письменной просьбой о помощи.
Ответ Фадеева датирован 17 января 1940 года. Марина Ивановна получает разрешение снять комнату в деревенском доме подмосковного поселка Голицыно и питаться в находящемся рядом Доме творчества писателей. Все это – за свой счет, причем за полгода цена «благодеяния» дважды повышалась. Но и это был выход… В своем исследовании Белкина утверждает, что Цветаева с сыном поселились в Голицыно намного раньше, в начале декабря. В дневнике Мура есть другие данные. Сначала – в марте 1940 года – он пишет, что переезд состоялся через два с лишним месяца после бегства из Болшева, т.е. после письма Фадеева, позже сдвигает его на середину декабря7878
Эфрон Г. Дневники. – М., 2005. – Т. 1. – С. 13, 31.
[Закрыть].
Редкие свидания с Пастернаком продолжались и во время жизни в Голицыно, и позднее, когда Цветаевой удалось перебраться в Москву. Отношения складывались непросто. По немногим воспоминаниям известно, что Марина Ивановна отзывалась о Борисе Леонидовиче с неизменной благодарностью за помощь и поддержку. Но и удара «невстречи» ни забыть, ни простить не могла. Однажды, в 1941 году, во время встречи с Анной Ахматовой она при нескольких свидетелях «очень зло изобразила Пастернака в Париже, как беспомощно он искал платье „для Зины“»7979
Герштейн Э. Из воспоминаний «О Пастернаке и об Ахматовой». // В кн.: Марина Цветаева в воспоминаниях современников. Возвращение на родину. – М, 2002. – С. 154.
[Закрыть]. Были и другие обиды. Семен Липкин вспоминал, как в конце 1940 года Цветаева рассказала ему, едва знакомому молодому поэту и переводчику, что недавно по приглашению Пастернака была у него на даче и застала «шумное грузинское застолье, Лукуллов пир, изобилье вина и яств, великий хозяин был навеселе». Липкин пытался объяснить, что таковы «обычаи литературного быта», и такое приглашение – проявление заботы. В ответ прозвучало: «Конечно, заботится, он ко мне добр, но я ждала большего, чем забота богатого, я ждала дружбы равного»8080
Липкин С. Вечер и день с Цветаевой. // В кн.: Марина Цветаева в воспоминаниях современников. Возвращение на родину. – С. 135.
[Закрыть]. В начале войны она надеялась, что Пастернак пригласит ее пожить в Переделкино (за городом казалось безопаснее) – не пригласил8181
Кульманова З. Что я помню. // В кн.: Марина Цветаева в воспоминаниях современников. Возвращение на родину. – С. 124.
[Закрыть]…
Тем ценнее свидетельство М. Белкиной. Как-то в начале 1940 года Тарасенков и Белкина столкнулись с Пастернаком на улице. Разговор зашел о Цветаевой. Дома Мария Иосифовна записала его рассказ: «Она избегает бывать у него дома, она почему-то недолюбливает З.Н. … Она позвонила по телефону. Он зашел за ней, и они до полуночи пробродили по тихим московским переулочкам. (По-видимому, это было, когда Цветаева жила у Е. Я. Эфрон, – Е.З.) <…> Был сильный мороз, и он чуть не отморозил себе уши, и потом он зверски устал. Он всегда устает от Марины… И тут же, как бы спохватившись, с виноватой улыбкой добавил: впрочем, конечно, как и она от него. Они оба устают друг от друга, они, как два медведя в одной берлоге, наступают друг другу на лапы. Им нужно пространство… В письмах у них как-то лучше получалось!..
Она удивительный поэт, необычайной силы поэт, но она и в жизни живет преувеличениями: у нее и керосинка пылает Зигфридовым пламенем, так нельзя! <…> И потом еще, что касается духовной области – она приверженица абсолютной монархии и монархом признает исключительно себя!»8282
Белкина М. И.. Указ. соч., с. 23—24.
[Закрыть]
Для студентки литинститута Марии Белкиной, как, впрочем, и для более опытного Анатолия Тарасенкова, многое в его монологе было тогда загадкой. Они не могли знать ни перипетий отношений двух поэтов, ни причин неприязни Цветаевой к Зинаиде Николаевне. Нам же этот фрагмент позволит понять, чем завершился уникальный роман.
Налицо – обоюдное разочарование. Сбылось давнее предчувствие Марины Ивановны: «Во многом я тебе не собеседник, и тебе будет скучно и мне, ты найдешь меня глухой, а я тебя – ограниченным» (ЦП, 379). Переписка позволяла им, пусть на миг, вырваться из собственных тел и бытовых обстоятельств, позволяла, хотя бы на бумаге, дышать пьянящим воздухом чистого чувства – тем самым, который наполняет их стихи и прозу. Оба хотели большего, но, увидевшись, не узнали адресатов собственных чувств. Бесплотные образы возлюбленных, возникшие когда-то в ходе переписки, растаяли окончательно.
Они по-прежнему высоко ценили творчество друг друга. Однако сама поэзия отошла в их отношениях на задний план. Марина Ивановна неожиданно для себя открыла, что Пастернаку отнюдь не чужды простые радости жизни, которые сама она презирала с ранней юности и до последнего часа. Он не скрывал от подруги, что ради заработка мог «гнать» по 100—150 строчек перевода в день (разумеется, если речь шла о второсортных стихах). Благодаря этому Борис Леонидович не только кормил две семьи и помогал множеству знакомых (в том числе родственникам «врагов народа»), но и выкраивал время для собственного творчества.
А Цветаева не могла осилить больше 20 строчек в день. За полгода до смерти, наевшись досыта подневольного хлеба переводчика, она записала в тетради:
«…Для чего же я так стараюсь нынче над… вчера над… завтра над… и вообще над слабыми, несуществующими поэтами – так же, как над существующими, над Кнапгейсом? – как над Бодлером?
Первое: невозможность. Невозможность иначе. Привычка – всей жизни. Не только моей: отца и матери. В крови. Второе: мое доброе имя. Ведь я же буду – подписывать. … «Как Цветаева могла сделать такую гадость?» – невозможность обмануть – доверие»8383
Цветаева М. И. Записные книжки. – М., 2002. – С. 255.
[Закрыть].
В этих строках за отчаянием загнанной в угол женщины явственно слышится звонкий и гордый максимализм юной бунтарки Марины.
Да, несмотря на нескончаемые испытания, она осталась верной идеалам юности, что не могло не смущать Пастернака. Именно это имел он в виду, иронизируя по поводу «Зигфридова пламени» керосинки. Сам-то он уже научился, уступая в мелочах, в главном сохранять духовную независимость от властей. Вдобавок ко всему, мягкого и доброжелательного Бориса Леонидовича не могла не раздражать воинствующая прямолинейность Цветаевой в отношениях с близкими – она смягчала свой нрав лишь в разговорах с чужими людьми. (В письмах это свойство ее характера сглаживало время, отделявшее реплику от отклика.) «Дружить» с ней, получая удовольствие от общения, оказалось практически невозможно…
Поэтому, убедившись, что Цветаева «на очень высоком счету в интеллигентном обществе и среди понимающих», Борис Леонидович постепенно «отошел от нее и не навязывался ей»8484
Пастернак Б. Л. Второе рождение: Письма к З. Н. Пастернак. – М., 1992. – С. 180
[Закрыть]. Случилось это, по-видимому, осенью 1940 года. Недостатка в доброхотах и почитателях у нее действительно не было. Но, думается, как раз в эти месяцы Пастернак с его природным оптимизмом был нужен Цветаевой, как никогда. Нужен как человек, к мнению которого она все-таки прислушивалась, как лекарство от отчаяния, которое постепенно, но неумолимо овладевало ею, исподволь готовя елабужскую трагедию.
Впрочем, началось это еще до возвращения в Россию. Осенью 1938 года аполитичную Цветаеву потрясло отторжение Германией от Чехии – родины ее сына, которую она называла и своей второй родиной, – Судетской области. В марте следующего года Чехия была полностью оккупирована фашистами. В ответ на это Марина Ивановна пишет свой последний цикл – «Стихи к Чехии», полный горя и ненависти. Она возненавидела Германию, которую страстно любила, культурным наследием которой питалась с раннего детства. Какое-то время надеется на Россию, помогавшую республиканцам Испании, но вскоре убеждается, что она не может (или не хочет?) противостоять беззаконию. В стихах, посвященных мартовским событиям, впервые в поэзии Цветаевой появляются такие строки:
Отказываюсь – быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь – жить.
С волками площадей
Отказываюсь – выть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть —
Вниз, по теченью спин.
Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один – отказ.
«О, слезы на глазах!..»
Да, в письмах Цветаева и раньше не раз говорила о желании «не быть», но никогда оно не звучало так настойчиво. Не исключено, что именно оккупация Чехии стала последней каплей, заставившей ее покинуть Францию. Впрочем, тогда еще был рядом любимый сын, а где-то в России – муж и дочь, еще был долг, державший Марину Ивановну на поверхности. Но тот же тридцать девятый год отнимет у нее и мужа, и дочь…
Стремясь устроить жизнь подруги, Борис Леонидович, естественно, исходил из своих представлений о поддержке. Ему самому было жизненно необходимо общество людей, любящих и понимающих его творчество, – и уже к середине 1940-го года, во многом благодаря его стараниям, вокруг Цветаевой образовался довольно широкий круг интеллигентных, высокообразованных почитателей поэзии. Они с удовольствием слушали ее чтение, устраивали вечера, созывая гостей «на Цветаеву»… Ничего похожего в Париже у нее не было. Но Марина Ивановна злилась и обижалась, прекрасно понимая, что собравшимся нужны ее стихи десяти – двадцатилетней давности, а не она сама. Ей казалось, что большинству восхищенных слушателей нет дела до ее проблем, что им и в голову не придет помочь ей совладать с ненавистным бытом. К тому же, она мечтала о «дружбе равного», а равного – не было. Мимолетные влюбленности рушились при первой же попытке сближения – избранники, как всегда, не могли «вместить» в осторожный московский быт кипучую требовательность ее натуры. Не смог и Пастернак, чувства которого давно остыли.
…А между тем фашисты быстро овладевали Европой. Одни страны были легко завоеваны, другие добровольно подчинялись силе. Нападение на Советский Союз Марина Ивановна восприняла как начало конца. Мария Белкина вспоминает, как Цветаева говорила ей, беременной, в самом конце июля или начале августа: «Вы должны бежать из этого ада! Он идет, идет, и нет силы, которая могла бы его остановить, он все сметает на своем пути, все рушит… Надо бежать…» «Она была на пределе, это был живой комок нервов, сгусток отчаяния и боли», – прибавляет мемуаристка8585
Белкина М. И.. Указ. соч., с. 258.
[Закрыть].
Из воспоминаний известно, что близкие не хотели отпускать Цветаеву в эвакуацию одну. Вечером накануне отъезда друзьям казалось, что они уговорили ее повременить. А она, выслушав все доводы, той же ночью сообщает об отъезде Пастернаку. Почему? Вопрос открыт. Возможно, Марина Ивановна была уверена, что он не станет противиться ее воле (сам незадолго до этого отправил в Чистополь жену с детьми). Или хотела выслушать его мнение. А может, просто рассчитывала на материальную помощь…
Как бы то ни было, именно Борис Леонидович, да еще молодой поэт Виктор Боков, которого Пастернак позвал с собой, оказались последними, кто видел Марину Ивановну в Москве 8 августа 1941 года, за три недели до гибели. Ничего примечательного не произошло: провожатые попытались снабдить Цветаеву и Мура едой на дорогу, Боков метил ее тюки химическим карандашом… То, что она едет в Елабугу, было известно уже тогда.

Георгий Эфрон (Мур)
…10 сентября, узнав о самоубийстве, Пастернак напишет жене:
«Вчера ночью Федин сказал мне, будто с собой покончила Марина. Я не хочу верить этому. Она где-то поблизости от вас, в Чистополе или Елабуге. Узнай, пожалуйста, и напиши мне… Если это правда, то какой же это ужас! Позаботься тогда о ее мальчике, узнай, где он и что с ним. Какая вина на мне, если это так! … Это никогда не простится мне»8686
Пастернак Б. Л. Второе рождение: Письма к З. Н. Пастернак.– С. 180.
[Закрыть].
Известно, что в начале октября 1941 года он встречался с Муром в Москве, но вскоре их пути разошлись: Пастернак уехал к семье в Чистополь, а Мур – в эвакуацию в Ташкент.
В конце октября Борис Леонидович оказался в относительной близости от Елабуги, где на городском кладбище уже почти 2 месяца покоилась Цветаева. Однако добраться до города было практически невозможно – навигация на Каме закончилась, а других путей не было. В феврале 1942 года Пастернак признавался молодому драматургу А. К. Гладкову, что вмерзшие в лед барки напоминают ему о Марине. (Кто-то передал ему ее слова: лучше вмерзнуть в Чистополе в лед Камы, чем уезжать в Елабугу.) В трагедии подруги он винил себя и близких знакомых – руководителей Союза писателей.
«Полные благих намерений, мы ничего не сделали, утешая себя тем, что были беспомощны. <…> В который раз мы согласились, что беспомощны, и пошли обедать. Большинству из нас это не испортило даже аппетита. Это наше общее преступление, следствие душевной глухоты, бессовестности, преступного эгоизма…»8787
Воспоминания о Борисе Пастернаке. – С. 337.
[Закрыть]
Но в Елабугу Пастернак так и не выбрался, хотя пробыл в Чистополе почти два года, до середины июня 1943 года. В том же разговоре с Гладковым он упомянул о стремлении написать о подруге – так, как она того заслуживает. Стихотворение «Памяти Марины Цветаевой» было закончено в конце 1943 года, уже в Москве, однако все оно пропитано чистопольскими впечатлениями – в первых его строках отразился реальный вид из окна пастернаковской комнаты.
Хмуро тянется день непогожий.
Безутешно струятся ручьи
По крыльцу перед дверью прихожей
И в открытые окна мои.
За оградою вдоль по дороге
Затопляет общественный сад.
Развалившись, как звери в берлоге,
Облака в беспорядке лежат.
Мне в ненастьи мерещится книга
О земле и ее красоте.
Я рисую лесную шишигу
Для тебя на заглавном листе.
Ах, Марина, давно уже время,
Да и труд не такой уж ахти,
Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести.
Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году
Над снегами пустынного плеса,
Где зимуют баркасы во льду.
Мне так же трудно до сих пор
Вообразить тебя умершей,
Как скопидомкой мильонершей
Средь голодающих сестер.
Что сделать мне тебе в угоду?
Дай как-нибудь об этом весть.
В молчаньи твоего ухода
Упрек невысказанный есть.
Всегда загадочны утраты.
В бесплодных розысках в ответ
Я мучаюсь без результата:
У смерти очертаний нет.
Тут все – полуслова и тени,
Обмолвки и самообман,
И только верой в воскресенье
Какой-то указатель дан.
Зима – как пышные поминки:
Наружу выйти из жилья,
Прибавить к сумеркам коринки,
Облить вином – вот и кутья.
Пред домом яблоня в сугробе.
И город в снежной пелене —
Твое огромное надгробье,
Как целый год казалось мне.
Лицом повернутая к Богу,
Ты тянешься к нему с земли,
Как в дни, когда тебе итога
Еще на ней не подвели.
Это стихотворение – пожалуй, единственное достоверное свидетельство того, как именно Борис Леонидович относился к подруге в начале 40-х годов. Собственно, и стихотворение-то это не о Цветаевой (как, впрочем, и цветаевское «Новогоднее» – не о Рильке), а о проблемах, поставленных перед поэтом фактом внезапной смерти. Отношение к нему с беспощадной ясностью выявило принципиальное различие их натур.
Кончина Райнера, как мы помним, принесла Марине Ивановне освобождение от нестыковок земного бытия, стала толчком к переосмыслению собственных представлений о «том свете». Пастернак же, напротив, оказывается в плену прошлого. Ему кажется, что он, как и прежде, должен как-то позаботиться о подруге – неясно только, как именно. В отличие от Цветаевой, он, обеими ногами стоящий на земле, не доверял «обмолвкам и самообману» толкований о смерти, не чувствовал связи с инобытием. Стремление что-то «сделать ей в угоду», чтобы смягчить угрызения совести, – вот, пожалуй, основная тема этого послания в никуда. Даже последнее четверостишие, рисующее портрет героини, лишний раз подчеркивает непонимание: всю жизнь Марина Ивановна «тянулась» куда угодно, только не к Богу…
Пройдет еще двадцать с лишним лет, и в последней своей автобиографии «Люди и положения» Пастернак посвятит Цветаевой около четырех страниц – больше займет только повествование о Маяковском. Он напишет много добрых и справедливых слов о ее творчестве, тепло упомянет о ее «замечательном семействе», подробно расскажет о том, как были утрачены письма Цветаевой8888
Пастернак Б. Л. Собр. соч. – Т. 4. – С. 338—342.
[Закрыть]. Однако несколькими страницами выше, пытаясь осмыслить чуждый ему феномен самоубийства, он же даст подруге беспощадную характеристику:
«Марина Цветаева всю жизнь заслонялась от повседневности работой, и когда ей показалось, что это непозволительная роскошь и ради сына она должна временно пожертвовать увлекательною страстью и взглянуть кругом трезво, она увидела хаос, не пропущенный сквозь творчество, неподвижный, непривычный, косный, и в испуге отшатнулась, и, не зная, куда деться от ужаса, впопыхах спряталась в смерть, сунула голову в петлю, как под подушку»8989
Пастернак Б. Л. Собр. соч. – Т. 4.– С. 332.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.