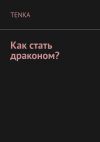Текст книги "Пастернак – Цветаева – Рильке"

Автор книги: Екатерина Зотова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
«Мы ничего не ждем…» (1928 – весна 1929)
Начало зимы 1927/28 годов выдалось нелегким для обеих семей. В конце ноября Пастернак разорвал плечевые связки, затем заболели сын и жена. Через месяц, едва вылечив руку, он подхватил грипп. Цветаеву же с середины декабря мучили нарывы на голове, которые под Новый год пришлось вскрывать… Впрочем, в начале января Борис Леонидович вновь бодр и пишет подруге большое письмо, в котором, словно подводя итоги, определяет роль, которую в его жизни сыграли «Поэма Конца» и письмо Рильке отцу. Поводом к размышлениям стала публикация в немецком журнале «Die Neue Rundschau» пяти писем поэта, в которых Пастернак неожиданно узнал собственные настроения 12-летней давности.
Именно к 1914, а не к 1918 году, как в своем письме Рильке, он относит теперь начало своего мертвящего конфликта с миром. Именно тогда, когда в России, в угоду политике, «Бетховен оказывался бельгийским композитором» (ЦП, 451), у Бориса началась «эмиграция душевная и саботаж совести и сердца». Распад единого европейского культурного пространства больно ударил по мироощущению начинающего поэта, привыкшего жить в атмосфере свободного культурного обмена. Он не хотел подыгрывать сначала националистическому, а затем – революционному угару, захлестнувшему Россию, но не мог тогда понять, нужно ли кому-нибудь его противостояние. И когда одновременно, «случайными путями», до Пастернака дошли цветаевская поэма и «весть о моей прикосновенности к R <ilke>», которые «двумя столбами били где-то в свою высоту, головокружительно родные и любимые», он «понял – элементарно, по-мужски, – что можно и стоит и надо бороться. Что надо напрячься, и хотя бы на голову встать, но взять свое и быть с вами» (ЦП, 451).
Борис Леонидович убеждает подругу в неизменности своих чувств: когда «кликнутая и призванная вновь через 12 лет к существованью воля падала в себя, она себя узнавала и себе радовалась в постоянном и прямящем обожаньи тебя, как в своей отныне постоянной, незаслуженно счастливой участи» (ЦП, 452). В следующем письме, написанном спустя 4—5 дней и посвященном только что полученному с оказией третьему номеру журнала «Версты», он вновь полон восхищения.
«Ты – удивительна, ты – непередаваема. Я никогда не смогу тебе дать понятье о том – что́ ты в действии и выраженьи» (ЦП, 460).
Возможно, Пастернак чувствовал, что с подругой творится неладное, и потому всеми силами пытался убедить ее в неизменности своих чувств. Но Цветаевой меньше всего были нужны рассуждения на культурологические темы. Выздоравливая, она вновь погружается в пучину тоски. Еще в середине ноября Марина Ивановна записала в тетрадь:
«…я во всем русском Париже совершенно никому не нужна. Ко мне никто не ходит, никогда. Ходят к С <ергею> и в дом, вообще посидеть… О стихах никто никогда, в последний раз читала стихи Асе, а до этого?? честное слово, не помню. Меня никто не любит и никто не знает, знают стихи… и знают веселую и резкую хозяйку дома» (ЦП, 431).
Наверняка подобные высказывания были и в письмах.
А в декабре она узнала, что встреча с Пастернаком снова откладывается на неопределенное время… В начале февраля она просит Бориса Леонидовича дать ей хоть иллюзию надежды:
«С 1924 г., Борис, – четыре года – ни одного рассвета, ни одного ожидания, ни одних проводов. Да, был Рильке, был – твой приезд, но все это было еще или уже в Царствии Небесном, все под черепом. Не принимай меня за то, что я не есть, мне мало нужно, знать, например, что через столько-то месяцев я тебя увижу. Но знать. Ждать. А сейчас я никого не жду. Это – основное. Второе – отсутствие собеседников, мое вечное в чужом кругу и в своем соку» (ЦП, 467).
Видимо, Пастернаку казалось, что подруге будет легче, если она узнает, что и он находится в сходном положении.
«Я не знаю, достаточно ли ты знаешь и умеешь ли живо это вообразить, что я тут существую совершенно dépaysé4242
Выбитым из колеи (фр.).
[Закрыть], – пишет он в ответ, – что сердцем и будущим я абсолютно вне всего того, что могло бы быть моим кругом, моими радостями и пр. … Я бы не хотел, чтобы ты себе это представляла романтически, как только чувство разлуки, как чувство, которое может усиливаться и ослабевать, п.ч. то, о чем я говорю, гораздо шире, грубее и постояннее такого представленья…» (ЦП, 468—469)
Так намеками Борис Леонидович пытается объяснить, насколько советский строй противоречит его собственному мировоззрению. Он стремится на время вырваться за границу, но в то же время открыто и твердо предупреждает Марину Ивановну: «Ты знаешь, что я один не поеду, и представляешь, вероятно, себе, как это трудно втроем» (ЦП, 469).
Вообще в письмах Пастернака начала 1928 года все чаще появляются нотки старшего (так взрослые разговаривают с подростками, пытаясь щадить их достоинство). Но в процитированном письме Цветаеву, по-видимому (ответ не сохранился), прежде всего возмутило упоминание о семье, и она в очередной раз поставила под сомнение силу его чувства. И вновь Борис Леонидович терпеливо объясняет ей особенности своего отношения с близкими.
«Моя родная! <…> Ведь ты знаешь, как ты любима? Но для меня и С <ергей> и Женя – и дети – и друзья – в нем, в этом чувстве, а не вне его. <…> И как раз от того, что это не частность и не перегретый аффект, его иногда можно и не узнать за теми формами, которые оно принимает, когда вмешивается в жизнь» (ЦП, 472).
Это объяснение вызвало лишь новый всплеск эмоций.
«Дорогой Борис, я всегда буду тебя уступать, – отвечает Марина Ивановна, – не п.ч. я добра или не вправе, а п.ч. мне всего мало, чем больше – тем меньше, и на этот свет я все равно давно плюнула – или махнула рукой. <…> Ннно, Борис, уступив заранее все здесь, ничего не уступаю внутри, ничего не включаю и не совмещаю. Женю твою любить не смогу, как твой не мною согретый сердечный левый бок» (ЦП, 473—474).
И тут же вновь жалуется – теперь уже во весь голос – на собственную бесчувственность.
«Борис, я всегда жила любовью. Только это и двигало мною. Все вещи наперечет, ни одной безымянной, хотя чаще: псы, а не отцы. Сейчас – до-олгое сейчас – полных четыре года я никого не любила, ни одного поцелуя никому – 4 года. <…> Прорыв – Письмо к Рильке4343
Имеется в виду стихотворение «Новогоднее».
[Закрыть], единственная после Крысолова моя необходимость за эти годы. Был бы жив Рильке, приехал бы ты. —
С 1925 г. ни одной строки стихов. Борис, я иссякаю: не как поэт, а как человек, любви – источник. Поэт мне будет служить до последнего вздоха, живой на службе мертвого, о, поэт не выдаст, а накричит и наплачет, но я-то буду знать.
<…>
А – с чего мне сейчас писать? Я никого не люблю, мне ни от кого не больно, я никого не жду, я влезаю в новое пальто и стою перед зеркалом с серьезной мыслью о том, что опять широко» (ЦП, 475).
В этих строках много эпатажа, предельного обострения собственных чувств в надежде потрясти «счастливого» Пастернака, у которого, по ее убеждению, есть и друзья, и любимая жена. Цветаева всегда была мастерицей подобных исповедей. Однако после Родзевича у нее действительно не было возлюбленных, хотя жажда земной любви, вопреки самообольщению, так ярко выраженному в письмах Рильке, — была. Что касается отсутствия стихов «с 1925 года», то это – преувеличение, хотя и не слишком явное. В конце мая 1925 года поток стихов действительно иссяк; в 1926 было написано всего два стихотворения, которые тематически можно отнести к философской и гражданской лирике, а в 1927 – первой половине 1928 года и в самом деле не появилось ни одного. Зато были созданы лирические поэмы «С моря» и «Попытка комнаты» (обе – 1926 год), «Новогоднее» и «Поэма Воздуха» (1927). И это – не считая драматических и прозаических произведений. Так что бесплодными эти два с половиной года назвать никак нельзя.
Первым после обозначенного Цветаевой перерыва появится «Разговор с Гением» – стихотворение, в котором устами Гения она опровергает собственные построения:
Глыбами – лбу
Лавры похвал.
«Петь не могу!»
– «Будешь!» – «Пропал,
(На толокно
Переводи!)
Как молоко —
Звук из груди.
Пусто. Суха.
В полную веснь —
Чувство сука».
– «Старая песнь!
Брось, не морочь!»
«Лучше мне впредь —
Камень толочь!»
– «Тут-то и петь!»
«Что я, снегирь,
Чтоб день-деньской
Петь?»
– «Не моги,
Пташка, а пой!
На зло врагу!»
«Коли двух строк
Свесть не могу?»
– «Кто когда – мог?!»
«Пытка!» – «Терпи!»
«Скошенный луг —
Глотка!“ – „Хрипи:
Тоже ведь – звук!»
«Львов, а не жен
Дело“. – „Детей:
Распотрошен —
Пел же – Орфей!»
«Так и в гробу?»
– «И под доской».
«Петь не могу!»
– «Это воспой!»
Мёдон, 4 июня 1928
Впрочем, до его появления еще три с лишним месяца кризиса, которые надо пережить…
Нелегко в это время было и Пастернаку. В очередной раз – теперь уже по финансовым соображениям – приходилось отказываться от поездки за границу. В начале марта он «в состоянии очередного упадка», вызванного просмотром официозного фильма С. Эйзенштейна «Октябрь» (ЦП, 478), пишет письмо Сергею Яковлевичу Эфрону, которое сам тут же называет «странным». (Почему ему? Уже не надеялся на понимание Марины Ивановны? Или – не хотел ее тревожить?) Главное действующее лицо этого письма, по силе лирического напора напоминающего стихотворение в прозе, – «ревнивая работа», не прощающая ни малейшего шага в сторону и бросающая поэта в самый неподходящий момент (ЦП, 477). Заканчивается письмо уже знакомым упованием на то, что члены обеих семей в конце концов поймут, что счастье одного невозможно без счастья всех близких: «Дай Бог, чтобы все мы созрели в один час и никто не запоздал» (ЦП, 478). Ответил ли Эфрон, неизвестно. По крайней мере, месяц спустя встревоженный отсутствием писем Пастернак беспокоится, «…как бы с письмом моим Сереже не произошло недоразумений» (ЦП, 483). Однако причиной долгого молчания Цветаевой был, скорее всего, посланный позднее ответ Пастернака на ее февральское послание.
Он, как бывало уже не раз, запоздал. Борис Леонидович написал его 31 марта, через две с лишним недели после получения письма. Он сам понимал, что «надо было ответить… тотчас, в особенности насчет того, что ты назвала „физиологией творчества“» (ЦП, 480). Но к таким задержкам Цветаева давно привыкла. А вот то, что ничего страшного в ее состоянии Пастернак не увидел, не могло ее не задеть.
«Марина, вытерпи, провремени, как хочешь и знаешь, и не стыдись сердечной унизительности этого состоянья, – уговаривает он. – <…> …Оно кажется тебе лично твоим и окончательным, потому что ты – у его начала и не видишь ни смысла его, ни происхожденья. <…> Ты (хронологически) пришла к этому поздно, и проходить придется недолго. Что это не окончательное состоянье, видно из того, что оно тебе поперек встало. Иначе ты бы не заметила его» (ЦП, 480, 482).
Эти строки яснее других показывают, насколько Пастернак не понимал характера подруги. Ведь она ждала от него нового взрыва страсти, а вовсе не колыбельной. В следующих письмах она, по-видимому, вновь пытается пробудить его чувства, посылает фотокарточки сына. Эти письма, как и большинство других, до нас не дошли. С весны 1928 по весну 1931 года не сохранились и черновые тетради. В них были наброски «Поэмы о Царской Семье» и «Перекопа», поэтому, уезжая в Россию, Марина Ивановна оставила тетради в Париже, где они погибли во время войны. Сохранились лишь немногочисленные выписки, сделанные энтузиастами с оригиналов в Москве до их пропажи. Согласно им, 16 апреля она снова пишет о жажде любви – простой, человеческой любви к Пастернаку – как источника стихов.
А на Бориса Леонидовича опять навалились болезни. 22 апреля он благодарит подругу «за письма и карточки» (ЦП, 485) и одновременно предупреждает, что серьезно болен и в переписке возможен перерыв. Следующее письмо, написанное через месяц с лишним, тоже не могло порадовать Цветаеву яркостью чувств. В нем – уже знакомые ей сетования на безденежье, связанное с необходимостью отправить семью на отдых. (Пока оно писалось, Евгения Владимировна с Женей успели уехать на Кавказ.) Пастернак буднично-подробно рассказывает подруге о знакомстве с Мейерхольдом и своей работе над послесловием к сборнику стихов недавно умершей Лили Харазовой, а в конце письма просит Марину Ивановну купить для него 2 и 3 том «Утраченных иллюзий» Бальзака. И, вдобавок ко всему, передает ей просьбу сестры Анастасии не писать «о лицах, которые ее не интересуют и упоминанье о которых, например Врангеля, может доставить ей огорченье. К этой просьбе присоединяюсь даже и я», – отмечает Борис Леонидович, подчеркивая сложность их положения в России (ЦП, 487). (Впрочем, это не помешало ему в апреле свободно рассуждать о дневнике Вырубовой4444
Анна Вырубова – фрейлина императрицы Александры Федоровны, горячая поклонница Григория Распутина.
[Закрыть], а в январе следующего, 1929, года помогать в сборе исторического материала о взятии красной армией Перекопа.)
Для Цветаевой это письмо, по-видимому, прозвучало, как приговор. Того, чего она так ждала, на что еще надеялась, там не было. Возможно, к решительному шагу Марину Ивановну подтолкнула и новая привязанность – в феврале 1928 года завязалась дружба с 19-летним поэтом Николаем Гронским, которого в большинстве записок она уважительно называла по имени-отчеству. (В творчестве он был совершенно свободен от влияния Цветаевой, в быту же охотно и точно исполнял ее поручения и желания.)
Так или иначе, в июне она записывает в черновой тетради, а позже переписывает в другую, куда заносила лишь самое важное, такие строки:
«Борис, наши нынешние письма – письма людей отчаявшихся: примирившихся. Сначала были сроки, имена городов – хотя бы – в 1922 г. – 1925 г.! Из нашей переписки исчезли сроки, нам стало стыдно – что́? – просто – врать. Ты ведь отлично знаешь – то, что я отлично знаю. Со сроками исчезла срочность (не наоборот!), дозарез-ность друг в друге. Мы ничего не ждем. О, Борис, Борис, это так. Мы просто живем, а то (мы!) – сбоку. Нет, быв впереди, стало – вокруг, растворилось.
Ты мне (я – тебе) постепенно стал просто другом, которому я жалуюсь: больно – залижи. (Раньше: – больно – выжги!)» (ЦП, 490—491)
Вряд ли стало просто совпадением и то, что вскоре, 4 июля, Марина Ивановна впервые впустила Пастернака в круг своих близких. В этот день она вместе с К. Родзевичем провожала Сергея Яковлевича на Атлантическое побережье Франции, где ему предстояло снять дачу для летнего отдыха семьи. Компания коротала время до поезда в знаменитом парижском кафе «Ротонда», которое в начале века было приютом богемы. Именно там Пастернаку было написано послание на двух открытках, вложенных в один конверт. Текст – шутливое описание ситуации – по очереди сочиняли все трое, выстроившись по степени близости к адресату: Цветаева, Эфрон, Родзевич… В любой другой переписке такое коллективное послание выглядело бы вполне органично. Однако для Марины Ивановны, крайне ревностно относящейся к своему внутреннему миру (вспомним ее отказ от публикации писем Рильке!), этот случай беспрецедентен. И значить он мог только одно: кардинальное изменение отношений.
Но Пастернак этого, похоже, не заметил. В конце июня он в очередной раз пишет ей, как скучает без семьи, – и, кажется, впервые не получает от Цветаевой резкой отповеди. Одновременно он посылает ей только что написанное стихотворение «Рослый стрелок, осторожный охотник…», вызванное ее «Знаю, умру на заре…». (Реакция Марины Ивановны на него неизвестна.) А 20 июля, уезжая к семье в Геленджик, Борис Леонидович извещает открыткой Сергея Яковлевича (думая, что он еще дома), что посланный с оказией сборник Цветаевой «После России» им получен. И… замолкает до начала октября, так что Марине Ивановне пришлось запрашивать в письме, дошла ли книга.
Это письмо Цветаевой было, по-видимому, настолько дружелюбным, что превзошло чаяния Бориса Леонидовича. «Никогда так благодарно не удивлялся тебе, как на этих днях. <…> Как удивительно, что ты меня не прокляла!» (ЦП, 497, 498) – подчеркивает он и …, сославшись на «незаконченные вещи в разноотдаленных от окончанья долях» (ЦП, 497), отделывается коротким письмом. Работы и в самом деле было много: писалась «Охранная грамота», близился к завершению «Спекторский», возможно, уже зрел замысел примыкающей к «Спекторскому» «Повести» (работа над ней началась в январе 1929 года).
Однако не только загруженность стала причиной молчания. Осенью 1928 года тяжело болела и в ноябре скончалась мать Евгении Владимировны. В следующем письме, написанном 3 января, поэт признается: «Третий месяц я со дня на день собираюсь взяться за работу после тяжелого полугодового перерыва» (ЦП, 498—499). Написать это письмо его побудил рассказ Марины Ивановны о ее попытке возобновить отношения с Маяковским во время его приезда в Париж в 1928 году.
Канва событий такова. Маяковский приехал в Париж 15 октября, и в этом же месяце Цветаева подарила ему свой сборник «После России» с дарственной надписью. (То, что встреча состоялась, подтверждается наличием цветаевского адреса в записной книжке Маяковского.) 7 ноября состоялся его творческий вечер, а 23 ноября в первом номере газеты «Евразия» – очередном проекте Сергея Яковлевича и его друзей – было опубликовано ее лаконичное приветствие:
«Маяковскому
28 апреля 1922 г., накануне моего отъезда из России, рано утром, на совершенно пустом Кузнецком я встретила Маяковского.
– Ну-с, Маяковский, что же передать от вас Европе?
– Что правда – здесь.
7 ноября 1928 г. поздно вечером, выходя из Café Voltaire, я на вопрос:
– Что же скажете о России после чтения Маяковского? – не задумываясь, ответила:
– Что сила – там».
Примечательна виртуозность этой лаконичной антитезы. Цветаева отнюдь не капитулирует перед посланцем Советской России, не отрекается от своих симпатий к белому движению. Она лишь признает силу противника, в том числе – и силу слова.
Однако и такая демонстрация приязни вызвала негодование в эмигрантских кругах. 3 декабря, в день отъезда Маяковского из Парижа, Марина Ивановна пишет ему коротенькое письмо, в котором едва ли не с гордостью сообщает об «изъятии» себя «из „Последних Новостей“, единственной газеты, где меня печатали» и просит «сообщить означенный эпизод Пастернаку и еще кому сочтете нужным»4545
Цит. по кн.: Саакянц А. А. Марина Цветаева: жизнь и творчество. – М., 1997. – С. 514.
[Закрыть]. (Тут она поторопилась – после перерыва сотрудничество с газетой продолжилось.)
Между тем, менее чем за полтора года до описываемых событий в письме Пастернаку Марина Ивановна давала Маяковскому очень резкую характеристику:
«Взгляд – бычий и угнетенный. Такие взгляды могут все. Маяковский – один сплошной грех перед Богом, вина такая огромная, что надо молчать. Огромность вины. Падший Ангел. Архангел» (ЦП, 329).
Что же заставило ее искать его дружбы? Разочарование в возможностях Пастернака? Стремление помочь мужу вернуться в Россию? Отчаяние от бесплодного существования на чужбине, от узости и раздробленности русской эмиграции?.. Ответа нет. Единственный намек на ее чаяния содержится в письме Пастернака от 3 января 1929 года: «…Твои фантазии о Маяковском, обо мне, о его роли в Москве и главное, о твоей судьбе волнуют меня не меньше твоего, а м.б. и больше» (ЦП, 499). Однако никаких деталей «фантазий» он не упоминает…
К недвусмысленным знакам ее внимания Маяковский остался глух. Поддерживать отношения с Цветаевой он явно не спешил, книгу оставил у знакомых в Париже, а письмо действительно обнародовал, но – только в феврале 1930 года, включив его в свою выставку «20 лет работы».
Пастернак же заявил подруге, что ее представления о возможностях Маяковского «превратны» (ЦП, 499) и одновременно сообщает, что слухи о возвращении Цветаевой ходят по Москве «с самой весны» (ЦП, 499). Узнав о том, что Сергей Яковлевич героизирует советскую действительность, он поддерживает его, стремясь одновременно определить свою позицию:
«Сейчас я верю только в дух, который, страдая и деформируясь, подымает на моих глазах матерьяльную тяжесть. … Взгляд, будто сейчас существует несколько вольно и естественно живущих миров, чуждающихся и враждующих, но порознь и в отдельности естественных и не чудны́х (старый и новый, правый и левый, такой-то и такой-то) – недалек и наивен» (ЦП, 500).
Основная идея понятна: состояние расколотого политической враждой мира ненормально, и титаническую духовную работу по сближению его частей следует вести с обеих сторон.
В следующий раз Борис Леонидович напишет подруге почти через полгода, в мае. По ее письмам он понял, что прошлогодняя буря улеглась.
«Итак, тебе уже больше не больно, мой друг, и ты не обижаешься на свою новую зрелость? – Ты мне ничего об этом не пишешь, Я это вычитываю из волнующего спокойствия твоих строк» (ЦП, 502).
(В первой половине 1929 года Цветаева с головой ушла в работу над поэмой «Перекоп», и это, несомненно, повлияло на ее настроение.) Здесь же Пастернак пишет о том, как могли бы развиваться их отношения:
«Мы бы расходились и ссорились друг с другом и потом друг к другу возвращались. В эти промежутки ты ненавидела бы меня больше, чем я тебя, и мы причиняли бы друг другу больше боли, чем ее заключено в нашей разлуке, – уверяет он Марину Ивановну. – Но наше созреванье (которому ведь нет конца) шло бы скорее, и мы бы только оттого и терзали друг друга, что разом бы терзались тем одним, чему сейчас подчинены порознь» (ЦП, 502).
Снова он пишет об их союзе как о здоровом творческом соперничестве, цель которого – «наше созреванье», а отнюдь не идиллически-безмятежное сожительство. Вместе с тем, он, похоже, принял точку зрения Цветаевой, не раз писавшей, что им лучше время от времени встречаться на нейтральной территории, а не жить вместе.
Пастернаку было необходимо творческое общение с Цветаевой. Однако в конце мая его ждал чувствительный удар. Одновременно с предыдущим письмом он отправил ей бандероль с рукописями «нескольких вещей, которыми был занят весь истекший год» (ЦП, 503). Неожиданно бандероль вернули, разъяснив, что на пересылку рукописей требуется специальное разрешение. (Несколькими годами раньше почта перестала доставлять адресатам русскоязычные издания, выпущенные за рубежом.) Фактически это означало установку контроля над перепиской. «Я не пойду его исхлопатывать не из лени, а из боязни, как бы не посеять в инстанции, которая меня м.б. не знает, подозренья относительно всей нашей переписки, и – будущей» (ЦП, 507), – сдержанно информирует он подругу.
Чтобы поехать за границу, Борис Леонидович теперь готов был взяться даже за обработку «существующих переводов Фауста» (ЦП, 505) – при условии, что ему дадут командировку в Веймар. (Вспомним: именно в этом немецком городе они планировали встретиться весной 1925 года.) Работу над новым вариантом перевода он мечтает разделить с подругой. Однако и из этой затеи ничего не вышло. И снова – странная параллель: в следующем письме Пастернак рассказывает Цветаевой о скандальной истории с Осипом Мандельштамом, который выполнил обработку переводов «Тиля Уленшпигеля» Ш. де Костера. По недосмотру издательства, на титульном листе книги он был назван переводчиком, что послужило поводом для обвинения в плагиате…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.