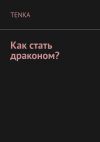Текст книги "Пастернак – Цветаева – Рильке"

Автор книги: Екатерина Зотова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
В июле 1926 года оформилось еще одно принципиальное расхождение Цветаевой и Пастернака – на этот раз по отношению к стихотворному эпосу. 20-е годы у обоих – время создания поэм. Однако вопрос о соотношении в них идеи и реальности поэты решали по-разному. В полной мере это различие проявилось в отзывах Марины Ивановны на первые главы «Лейтенанта Шмидта», которые Борис Леонидович, не утерпев, прислал ей в конце июня.
Упиваясь пастернаковской лирикой: «Прекрасна Стихия. … Прекрасна Марсельеза. Прекрасно все, где его (Шмидта, – Е.З.) нет» (ЦП, 239), – она категорически не приемлет образ главного героя. Ей претит «трагическая верность подлиннику» (ЦП, 240), которая была принципиально важной для Пастернака. «У меня Шмидт бы вышел не Шмидтом, или я бы его совсем не взяла, как не смогла (пока) взять Есенина, – отмечает Цветаева и признает. – Ты дал живого Шмидта, чеховски-блоковски-интеллигентского» (ЦП, 240). Таким образом, в поэмах она прежде всего хотела видеть воплощение идеального мира, идеального героя, а отнюдь не осмысление мира реального. (Ее собственное творчество полностью подчинено этой линии.)
Признавая несовершенство поэмы, Борис Леонидович, тем не менее, воспринял критику подруги болезненно – даже написал жене:
«Ей не нравится, что я дал его, а не себя. Ей не нравится, что я его сделал типическим, психологически правдоподобным. <…> Так она формулирует по крайней мере недовольство вещью. Может быть, у нее иные, более глубокие основанья, которых она не высказывает, боясь меня обидеть» (ПП, 181). Последняя фраза – явная попытка «мерить» Цветаеву собственной мерой.
Тема Шмидта окажется для Цветаевой столь болезненной, что критические замечания к этой поэме будут встречаться в черновиках ее писем к Пастернаку и в сентябре 1926 года (подлинники утеряны). А Евгения Владимировна, узнав о разногласиях, воспрянула духом.
«Меня радует, что ей не нравится Шмидт, как лишнее подтверждение враждебности ее облика всему моему существу, – пишет она мужу и дает очень точную оценку сути переворота, происшедшего в его сознании в ходе работы над поэмой. – Я наоборот была страшно рада, что ты перешагнул в нем от своей юности в зрелый возраст. Сделал самый трудный шаг от эгоистического субъективизма, когда во что бы то ни стало насаждаешь свою личность – к широкому, мягкому, где этот руководящий затаенный субъективизм смешивается с большой реальной правдой, со всей сложностью и тонкостью ощущений» (ПП, 194—195).
В этом же письме, написанном 20 августа, она наконец-то нашла слова для выражения своих чувств, и это разом разрешило основные противоречия. Примирение супругов состоялось.
А примерно за месяц до этого в очередной раз прервалась переписка Пастернака с Цветаевой. Причиной стало письмо Бориса Леонидовича от 11 июля. Перед этим Марина Ивановна попросила писать ей «обо всем» и уверяла: «Я, кроме всего, – нет, раньше и позже всего (до первого рассвета!) – твой друг» (ЦП, 255). Воодушевленный этим разрешением, он доверчиво раскрывает перед подругой тайны своего характера. С детства тянувшийся к христианству, он отклоняет цветаевскую проповедь свободной любви, замечая: «после такой раскатки я бы уже не считал возможным взглянуть в лицо своему сыну. Вот это-то и останавливает меня, ужас этой навсегда нависающей ночи» (ЦП, 257). Впрочем, Цветаеву возмутило не это, а слова Пастернака о тоске по жене.
«Я страшно по ней скучаю, – пишет он. – В основе я ее люблю больше всего на свете. В разлуке я ее постоянно вижу такой, какою она была, пока нас не оформило браком, т.е. пока я не узнал ее родни и она – моей» (ЦП, 258).
Но на принятие такого признания дружеских чувств Марины Ивановны не хватило. Около 20 июля она набросала в тетради ответ:
«Б <орис>, одна здесь, другая там – можно, обе там, два там – невозможно и не бывает. <…> Тоскуй, люби, угрызайся, живи с ней на расстоянии, как какой-то час жил со мной, но не втягивай меня. <…> Я привыкла к жизни – в мире совершенном: в душе. Оттого мне здесь не хочется, не можется, не сто́ится» (ЦП, 259, 260).
Кроме того, Цветаева утверждала (забыв о себе!), что невозможно одновременно писать письма двоим любимым.
Пастернак понял это как приглашение к разрыву.
«Нас поставило рядом, – писал он 30 июля, вновь подчеркивая творческую основу их отношений. – В том, чем мы проживем, в чем умрем и чем останемся. Это фатально, это провода судьбы, это вне воли.
Теперь о воле. В планы моей воли входит не писать тебе и ухватиться за твою невозможность писать мне, как за обещанье не писать. При этом я не считаюсь ни с тобой, ни с собой. Оба сильные, и мне их не жаль.
<…>
Когда твой адрес переменится, пришли мне новый. Это обязательно!
<…>
До полного свиданья. Прости мне все промахи и оплошности, допущенные в отношеньи тебя. Твоей клятвы в дружбе и обещанья, подчеркнутого карандашом (обещанья выехать ко мне), никогда тебе не возвращу назад. Расстаюсь на этом. Про себя не говорю, ты все знаешь» (ЦП, 260—261).
Впрочем, уже на следующий день Пастернак раскаялся в жесткости тона и послал еще одно письмо. «Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно, я вчера заболел, написав то письмо, – восклицает он в самом начале, однако от своего намерения не отказывается, – но я его и сегодня повторяю» (ЦП, 262). Как становится ясно из дальнейших слов, причиной резкой смены тона стало очередное послание Марины Ивановны: «Сегодня ты в таком испуге, что обидела меня!» (ЦП, 262) Мы не знаем, чем был вызван испуг (никаких следов этого письма в рабочих тетрадях Цветаевой нет). Но позиция Бориса Леонидовича ясна – поняв бессмысленность выяснения отношений по переписке, он твердо решил прекратить ее «до полного» (надо полагать, очного) свидания.
Однако такая решимость, похоже, не входила в планы Цветаевой, для которой разрыв с Пастернаком на фоне неопределенных отношений с Рильке был чувствительным ударом. Ее письмо Райнеру Мария от 14 июня осталось без ответа; 6 июля Марина Ивановна послала поэту большой разбор его новой книги «Vergers», однако и на этот раз ждать ответа ей пришлось больше трех недель – она получила его 30 июля, в день своих именин. Как знать, может быть, именно эти неудачи вынудили ее быть излишне жесткой к Пастернаку, который казался ей раз и навсегда завоеванным поклонником?
А Рильке тем временем становилось все хуже.
«Последнее из твоих писем лежит у меня уже с 9 июля: как часто мне хотелось написать! – признается он. – Но жизнь до странности отяжелела во мне, и часто я не могу ее сдвинуть с места; сила тяжести, кажется, создает новое отношение к ней – я с детства не знал такой неподвижности души…» (П26, 190)
Впрочем, он по-прежнему готов восхищаться точностью Марининого языка и сравнивать ее саму с «чистой и сильной» звездой (П26, 190). По-прежнему его притягивает все русское. Приехав на курорт Рагац «повидать… самых старинных и единственных друзей», он знакомится с их «русской приятельницей». «Русский человек, можешь себе представить, как это меня взволновало!» (П26, 191) – делится Рильке с Мариной Ивановной, и не подозревая, что ей будет неприятно его волнение.
«Ты все время в разъездах, ты не живешь нигде и встречаешься с русскими, которые – не я, – обидчиво выговаривает она и резко припечатывает. — Слушай и запомни: в твоей стране, Райнер, я одна представляю Россию» (П26, 193).
Однако меньше всего Цветаева хотела бы ссориться с Рильке. Именно в этом письме, написанном 2 августа, она фактически идет ва-банк, признаваясь в неодолимости своей тяги к нему.
«Райнер, я хочу к тебе, ради себя, той новой, которая может возникнуть лишь с тобою, в тебе. И еще, Райнер („Райнер“ – лейтмотив письма), – не сердись, это ж я, я хочу спать с тобою – засыпать и спать. Чу́дное народное слово, как глубоко, как верно, как недвусмысленно, как точно то, что оно говорит. Просто – спать. И ничего больше. Нет, еще: зарыться головой в твое левое плечо, а руку – на твое правое – и ничего больше. Нет, еще: даже в глубочайшем сне знать, что это ты. И еще: слушать, как звучит твое сердце. И – его целовать» (П26, 191).
И тут же, словно предвидя ошибочное толкование этих слов, Марина Ивановна сообщает Рильке о своих взаимоотношениях с «душами» и «телами». Начав с эпатирующего «…телам со мной скучно», она излагает – в несколько иной редакции, чем Пастернаку – уже знакомый нам миф о своей духовной природе:
«Я всегда переводила тело в душу (развоплощала его!), а «физическую» любовь – чтобы ее полюбить – возвеличила так, что вдруг от нее ничего не осталось. Погружаясь в нее, ее опустошила. Проникая в нее, ее вытеснила. Ничего от нее не осталось, кроме меня самой: души (так я зовусь…)» (П26, 192).
Впрочем, завершающая письмо фраза: «Можешь не отвечать мне – целуй еще» (П26, 193), – лишний раз подчеркивает зыбкость этих построений…
Неизвестно, знала ли Цветаева, доверяя свои признания бумаге, о решении Пастернака прекратить переписку. Посланное авиапочтой, его письмо от 30 июля, согласно штемпелю на конверте, пришло во Францию 31-го и, следовательно, уже на следующий день могло дойти до адресата. Если знала, значит, осознанно «ставила» на последнюю из оставшихся любовей, если нет – сама, вольно или невольно, вела ту же двойную игру, за которую только что осудила друга. Впрочем, себя она не признавала виновной ни при каких обстоятельствах…
В любом случае, прекращать переписку с Пастернаком Марина Ивановна не стала, хотя он умолял об этом: «Ты знаешь, какая мука будет для меня получить от тебя письмо и не ответить» (ЦП, 263). Едва отправив послание Рильке, она начинает ответ на первое письмо Бориса Леонидовича; пока он писался, подоспело и второе. В первых же строках Цветаева пишет о разрыве, как о тяжелой, но неизбежной операции:
«Дорогой Борис. Твое письмо звучит как тяжелый вздох облегчения – отсекли руку, и слава Богу: больше не будет болеть. Я у тебя наболела, наболевание шло возрастая, наконец – конец» (ЦП, 264).
Было ли это сравнение справедливым? Отчасти, видимо, да, но лишь отчасти. Не стоит забывать, что ни о каком облегчении Пастернак не упоминал. (Скорее, облегчение могла почувствовать она – его решение освобождало ее от двойной игры.)
Впрочем, Цветаева все мерила своей мерой. Воспринимая поэта как чистого лирика и опираясь на собственный опыт, она утверждала, что ничто внешнее ему просто не нужно. «Борюшка, как ты целен, как похож на себя в жизни, как точно переведен со стихов! Значимость исключительно внутреннего, отсечение внешнего, даже как повода». Чуть ниже идет пояснение: «лирика внешнее переводит на внутреннее (в себя! погружение), эпос – внутреннее на внешнее (из себя, чтоб жило вне). Ты лирик, Борис, каких свет не видывал и Бог не создавал. Ты сведение всех слоев внутреннего – на нижний, нижайший, начальный – бездны» (ЦП, 264). Что это, как не гениальный набросок автопортрета?..
Марина Ивановна упорно не считала разрыв неизбежным.
«Ты пишешь о воле, каком-то волевом шаге, добровольном и чистосердечном. Так пишут приговоренные, не желающие умирать от руки палача, сам захотел. Кто тебя приговорил Борис? – вопрошает она и решительно отрицает свою заинтересованность в «приговоре». – Думаю – этим волевым шагом… ты проводишь между нами единственную черту, которой мне здесь – к тебе – не перешагнуть.
Если это то, что я думаю, буду ждать Царства Небесного» (ЦП, 265).
Но свою вину в случившемся она, бесспорно, чувствовала – иначе бы не написала, как всегда, предельно обнаженно: «Прости и ты меня – за недостаток доброты, терпения, м.б. веры, за недостаток (мне стыдно, но это так) человечности» (ЦП, 266).
Однако больше всего в сложившейся ситуации Цветаеву мучил вопрос: к чему уходит Пастернак? Ей кажется, что он идет «из России – в буквы, в которые никогда не вернусь», то есть в СССР. То ли просто становится лояльным советской власти, то ли – «ледяной ужас» – берет «партийный билет». Впрочем, тут же наступает прозрение:
«Ты не можешь жить в состоянии постоянной продленной измены, на два фронта, в тех письмах я ведь была права? Борис, если мое горе называется твоя семья – благословляю его (ее)» (ЦП, 267).
По-видимому, даже после второго письма у нее оставалась надежда остановить Бориса Леонидовича. Иначе зачем было писать:
«Все, что бы я хотела своего в России, должно было идти через тебя. Я не хочу другого приемника (от приятие). Мне вообще ничего не нужно, кроме тебя. <…> Борис, я опять буду называть твоим именем: колодец, фонарь, самое бедное, одинокое» (ЦП, 268).
Формально эти слова – отклик на неуклюжие попытки Пастернака сблизить подругу со своими друзьями, поклонниками ее творчества Маяковским и Асеевым. Но сколько в них чувства! (И снова двойственность: а как же признание Рильке?..)
На это письмо Пастернак не ответил, как не ответил и на три следующих, написанных Мариной Ивановной в августе-сентябре (они до нас не дошли). Почему она не оставляла его в покое? А ведь обещала, как уже было когда-то, отправлять ему только свои новые произведения: «Буду присылать тебе, по возможности, все написанное, без одной строки <то есть без единой строки о себе, – Е.З.>, пока не позовешь» (ЦП, 268).
Не отвечал и Рильке. 14 августа, поборов гордость, Цветаева решила напомнить ему о себе. Письмо начинается с описания почтового ящика, в который второпях было опущено предыдущее послание. Он «выглядел весьма зловеще: пыль в три пальца и огромный тюремный замок» (П26, 194). (Интересно, существовал ли этот ящик на самом деле?..)
За двенадцать дней ожидания порыв, вызвавший предыдущее письмо, видимо, изрядно поутих. Марина Ивановна даже не пытается вновь воспроизвести на бумаге свои мечты. Кратко сообщая, что писала «нечто о том, чтобы спать вместе, тебе и мне», она поясняет свои намерения строчкой из французского стихотворения Рильке: «И постель – обеспамятевший стол». И тут же дает свое восприятие «постели» и «стола», переводящее бытовые предметы в разряд инструментов творчества (П26, 194):

Правда, в конце письма Цветаева вновь заговорит о встрече, заговорит нарочито спокойно и приземленно, как о чем-то давно решенном:
«Райнер, этой зимой мы должны встретиться. Где-нибудь во французской Савойе, совсем близко к Швейцарии, там, где ты никогда не был (найдется ль такое никогда? Сомневаюсь). В маленьком городке, Райнер. Захочешь – надолго. Захочешь – недолго. Пишу тебе об этом просто, потому что знаю, что ты не только очень полюбишь меня, но и будешь мне очень рад. (В радости – ты тоже нуждаешься.)» (П26, 195)
А между этими двумя отрывками Марина Ивановна жестко, почти цинично, рассказывает Райнеру о размолвке с Пастернаком:
«В последнем письме он писал: все во мне, кроме воли, называется Ты и принадлежит Тебе. Волей он называет свою жену и сына, которые сейчас за границей. Когда я узнала об этой его второй загранице, я написала: два письма из-за границы – хватит! Двух заграниц не бывает. Есть то, что в границах, и то, что за границей. Я – за границей! Есмь и не делюсь. <…> Спать с ней и писать мне – да, писать ей и писать мне, два конверта, два адреса (одна Франция!) – почерком породненные, словно сестры… Ему братом – да, ей сестрой – нет» (П26, 194).
Ситуация изложена почти точно, единственная ошибка – до Франции Евгения Владимировна так и не доехала, хотя Пастернак писал Цветаевой о возможности такой поездки. Но какой ревностью, каким оскорбленным самолюбием дышат эти строки! Как отличаются они от письма Марины Ивановны от 4 августа, написанного 10 дней назад! И вновь – вопрос без ответа: зачем она пишет об этом Рильке?..
Только в самом конце письма, буквально в одной фразе, прорывается отчаяние, которое нависло над Цветаевой в эти недели, когда все навалилось разом – безденежье, бесприютность (мечтала вернуться в Прагу, из которой полгода назад с трудом выбралась), разлад с друзьями и литературной братией… «Скажи: да (встрече, — Е.З.), чтобы с этого дня была и у меня радость – я могла бы куда-то всматриваться (оглядываться?)» (П26, 195).
Цветаева ошибалась: ее предыдущее письмо было получено адресатом. Но, возможно, именно это отчаяние, услышанное чутким ухом Рильке, побудило его взяться за перо и написать то, чего она так ждала. «Да, да и еще раз да, Марина, всему, что ты хочешь и что ты есть; и вместе они слагаются в большое Да, сказанное самой жизни…» (П26, 195). Он писал эти «да», прекрасно сознавая, что встреча, скорее всего, не состоится «из-за той необычной и неотступной тяжести, которую я испытываю и часто, мне кажется, уже не в силах преодолеть, так что я жду теперь не самих вещей, когда они ко мне просятся, а какой-то особой и верной помощи от них…» (П26, 195—196). (В это время Райнер Мария уже не мог жить один и подыскивал себе секретаря.)
И все же не только жалость водила его пером. Рильке действительно стремился к встрече с Цветаевой, торопил ее. «…Не откладывай до зимы!..» (П26, 196) – этот зов поставлен в письме на отдельную строчку. Он просит Марину Ивановну проявить инициативу, взять грядущую встречу «под защиту и власть той радости, которую ты несешь, в которой я нуждаюсь и которую я, наверно, тоже несу, когда ты первая делаешь шаг навстречу (он уже сделан)» (П26, 196).
Из ее последнего письма Рильке сделал вывод, что стал невольным соперником Пастернака, и именно этим объяснил себе отсутствие его ответа на майскую записку. (Истинное положение дел, как мы знаем, было совершенно иным.) Чувствуя себя виноватым, тем более что реальным соперником он не был ни минуты, в конце письма Райнер Мария пытается смягчить собственнический максимализм Марины Ивановны.
«Хотя я вполне понимаю, что ты имеешь в виду, говоря о двух „заграницах“ (исключающих друг друга), я все же считаю, что ты строга и почти жестока к нему (и строга ко мне, желая, чтобы никогда и нигде у меня не было иной России, кроме тебя!) Протестую против любой исключенности…»
Правда, тут же, словно испугавшись собственной решительности, он прибавляет: «…принимаешь ли меня и таким, еще и таким?» (П26, 196)
Впрочем, для Марины Ивановны, похоже, было уже все равно, какой Райнер Мария Рильке в действительности. Он сделал свое дело, показав ей, «куда всматриваться», придав направление ее мечтам. Поэтому, едва получив желанное согласие на встречу, она тут же отодвигает свидание на неопределенную перспективу. «Веришь ли, что я верю в Савойю? – пишет Цветаева в ответ. – Верю, как и ты, словно в Царство Небесное. Когда-нибудь…» (П26, 197) Собственно, этим все уже было сказано. Однако, словно развертывая его замечание о «десяти тысячах непредсказуемых Нет», которые таятся в его «Да» (П26, 195), она подробно излагает ему свои «Нет».
Начинает с философического.
«Чего я от тебя хочу? Того же, чего от всей поэзии и от каждой стихотворной строчки: истины любого / данного мгновения. Выше этого истины нет. <…> Хочу лишь слова – оно для меня – уже вещь. Поступков? Последствий?
Я знаю тебя, Райнер, как себя самое. Чем дальше от меня – тем глубже в меня. <…> Я не живу на своих устах, и тот, кто меня целует, минует меня» (П26, 197).
Этот отрывок – первый в переписке троих, где Цветаева открыто связывает свои чувства и творчество. Похоже, она так боялась «очной ставки» мечты с живым Рильке, что вслед за философскими воздвигла на пути к нему сначала психологические, а потом и откровенно житейские преграды. Ей не хочется, чтобы это походило на пошлую встречу любовников:
«Савойя. (Размышленье): Поезд. Билет. Гостиница. (Слава Богу, визы не надо!) И… легкая брезгливость. Нечто уготованное, завоеванное… вымоленное. Ты должен упасть с неба». Затем следует деловитое сообщение о полном безденежье с вопросом «Хватит ли у тебя денег для нас обоих?» и, наконец, итог:
«Итак, любимый, если когда-нибудь ты вправду захочешь, напиши мне (заранее, ведь мне нужно найти кого-то, кто останется с детьми) – и тогда я приеду» (П26, 197, 198).
Что можно сказать на такие слова, брошенные в ответ на просьбу о помощи? Он и не ответил, хотя до начала декабря писал не только письма, но и стихи.
Конец августа и сентябрь Марина Ивановна провела в домашних хлопотах – к непростому дачному быту прибавились болезни мужа и детей. Немало времени отнимала и переписка набело драмы «Тезей», впоследствии названной «Ариадна». (Денег на машинистку не было, и поэтому для типографии все произведения Цветаева переписывала печатными буквами.) В октябре захлестнули переезд на постоянную квартиру (на некоторое время семья обосновалась в парижском пригороде Беллевю) и работа над пьесой «Федра». Все это, возможно, притупляло, загоняло вглубь боль от молчания Пастернака и Рильке. Однако…
7 ноября Цветаева послала Пастернаку открытку со своим новым адресом. Из нее до нас дошел (в рукописной копии) один фрагмент, от которого веет холодным отчаянием загнанного в угол человека: «А живу я, Борис, как душа после смерти (о как я это состояние знаю) – чуть-чуть недоотрешившись, самую малость, эта малость – ты» (ЦП, 624).
В тот же день открытка с новым адресом была отослана и Рильке.
«Дорогой Райнер!
Здесь я живу.
– Ты меня еще любишь?
Марина» (П26, 199).
В ответ оба опять промолчали…
31 декабря 1926 года знакомый сообщил Марине Ивановне скорбную весть: в Швейцарии скончался Райнер Мария Рильке.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.