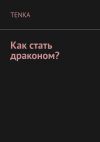Текст книги "Пастернак – Цветаева – Рильке"

Автор книги: Екатерина Зотова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Переписка из двух провинций (лето 1927)
В этом же письме, датированном концом мая 1927 года, впервые ясно зазвучала новая тема – необходимость возвращения Цветаевой на родину. Правда, и до этого Пастернак неоднократно сообщал ей об успехе, которым пользуются ее последние поэмы в московской поэтической элите. Однако он же 3 февраля так объясняет ей, с оглядкой на цензуру, невозможность свободного обсуждения ее творчества в советской России: «Ты – за границей, значит, твое имя тут – звуковой призрак» (ЦП, 284). Можно предположить, что в последнем письме Цветаевой его больше всего потрясли не рассуждения об откровениях любви, а фразы о том, что ее «все … (Бунин, Гиппиус, молодежь, критика) обвиняют в порнографии» (ЦП, 333), и о том, что она «достоверно теряет славу, свой час при жизни» (ЦП, 346). (По обыкновению, Марина Ивановна преувеличила: критика обвиняла ее «только» в непристойности.) Возмущенный таким отношением, он твердо решает помочь подруге вернуться в Россию, считая, что здесь ей будет лучше. Впрочем, свои намерения Борис Леонидович раскроет позже, пока он лишь осторожно прощупывает ее настроение на этот счет.
Верила в российского читателя и сама Марина Ивановна. «Мое глубокое убеждение, что печатайся я в России, меня бы все поняли… И меня бы эта любовь – несла» (ЦП, 347), – призналась она в ответном письме. Правда, в том же письме прозорливо заметила, что сам Пастернак выглядит в «их (советского руководства) глазах … – аристократом, да, мол, Шмидт и все так далее, а все-таки… Полуусмешка, полубоязнь. Сторонение» (ЦП, 350). Чего-чего, а такого – крайне избирательного! – ясновидения у Цветаевой не отнять.
Не идеализировал советскую действительность и Пастернак. В письме от 19 июня он не скрывает своего возмущения расстрелом 20 человек, обвиненных в шпионаже и подготовке терактов.
«С 14-го года, тринадцать лет, было, казалось бы, время привыкнуть к смертным казням, как к „бытовому явленью“ свободолюбивого века! И вот – не дано, – возмущает до основанья, застилает горизонт» (ЦП, 352).
Он даже не сомневается, что обвинение сфабриковано.
«…А послезавтра другой сукин сын (прости, Марина) по служебным обязанностям докажет, что я английский шпион, потому что на конверте, полученном мной, английские марки, и оно из Лондона, и потребность в связи с людьми и миром – блажь на взгляд обесчухломленной чухломы, которая лучше меня знает, что надо мне для моего спасенья» (ЦП, 353).
Заметим: уже тогда, в середине 20-х годов, поэт понимал, что главная угроза культуре исходит от «обесчухломленной чухломы», то есть от Иванов, не помнящих родства!
Однако Марину Ивановну не интересовала ни политика, ни быт советской России. «…В этом мире я ничему не дивлюсь, заранее раз навсегда удивившись факту его существования» (ЦП, 368), – напишет она в начале августа. Она действительно соскучилась «по русской природе, по лопухам, которых здесь нет, по не-плющо́вому лесу, по себе в той тоске» (ЦП, 364). Но, развивая эту тему в письме, Цветаева вдруг оказывается не в современной России, а в провинциальной помещичьей усадьбе «без перегрузки советских, эмигрантских новоизобретений, всех читанных и усвоенных тобою, читанных и не усвоенных мною книг, да, без Шмидта, Борис, и м.б. без всех моих стихов – только в альбом! – …во время оно, Борис…
С тобой, в первый раз в жизни, я хотела бы идиллии. Идиллия – предельная пустота сосуда» (ЦП, 364), – этим вздохом завершает она свою фантазию.
Да, единственной животрепещущей темой для Цветаевой оставались ее отношения с Пастернаком. Порыв прошел, но чувство не остывало.
«О Борис, Борис, как я вечно о тебе думаю, физически оборачиваюсь в твою сторону за помощью, – пишет она 15 июля. – <…> Борис, я обречена тебя любить, все меня на это толкает, прибивает к тебе, как доску к берегу, все бока обломаны о тебя» (ЦП, 357, 358).
Его подогревало ощущение полного одиночества, которое Марина Ивановна чувствовала среди людей, не понимающих или не принимающих ее творчества.
«Читаю одним, читаю другим, – пишет она о только что законченной „Поэме Воздуха“, – полное – ни слога! – молчание, по-моему – неприличное, и вовсе не от избытка чувств! от полного недохождения, от ничего-не-понятости, от ни-слога! А мне ясно, и я ничего не могу сделать. Недавно писала кому-то в Чехию: – Думаю о Б.П., как ему ни трудно, он счастливее меня, п.ч. у него есть двое-трое друзей-поэтов, знающих цену его труду, у меня же ни одного человека, который бы – на час – стихи предпочел бы всему. <…> Для чего же вся работа?» (ЦП, 358) — с горечью спрашивает она.
Пастернак пытается успокоить Цветаеву:
«Только самые ранние и сырые вещи, лет 15 назад (т.е. буквально первые и самые начальные) доходили (но и до 11/2-ра только человек) немедленно. Вскоре же я стал считать двухлетний промежуток между вещью и ее дохожденьем за мгновенье, за неделимую единицу, потому что только в редких случаях опаздывали на эти два года, чаще же на три и больше» (ЦП, 376).
Рассеивая иллюзии подруги, он подробно рассказывает о своем разрыве с Маяковским и Асеевым.
«…Деятельность А. и М., теперь имеющая значенье лишь поведенья, – так враждебна всему тому, что я люблю, так давно этому враждебна; допущенье же их, что их неумеренная преданность мне может примирить меня с этим, с таким расхожденьем, – так противно пониманью истинной жизни и живых перспектив, … что наконец я (совсем недавно) с ними порвал документально» (ЦП, 377).
В эти же дни, словно подслушав его мысли, Марина Ивановна записывает в тетрадь лаконичную формулу их общего одиночества:
«Дорогой Борис, мы точно пишем друг другу из двух провинций, ты мне в столицу, а я тебе – в столицу, а в конце концов две Чухломы: Москва и Париж. Борис, не везде ли на свете провинция» (ЦП, 368).
Похоже, именно в этих строках нашлась разгадка их неодолимой тяги друг к другу. Оба поэта в своих поисках ушли далеко в стороны от творческих интересов современников. Глядя на мир поверх их голов, они чувствовали себя даровитыми провинциалами, оторванными от «настоящей» жизни. Год назад в переписке с Рильке перед ними приоткрылась дверь в иную жизнь – приоткрылась, чтобы вскоре захлопнуться…
Оставалось одно – всеми силами держаться друг за друга.
«Вот для чего ты мне – главное – нужен, – признается Цветаева, – вот на что, говоря: на тебя! – надеюсь, – вхождение ногами в другой мир, рука об руку. Так: выйти из дому, по лестнице, мимо швейцара, все честь-честью, и вдруг, не сговариваясь, совместно единовременно оттолкнуться – о, на пядь! – мечтает она об отрыве от опостылевшей земли и тут же одергивает себя. – Борис, еще одно: моя пустота. Беспредметность моего полета. Странно, что здесь, якобы за порогом чувств, мои только и начинаются. В жизни я уже почти никогда не чувствую, и это растет» (ЦП, 358).
Летом 1927 года Пастернак уже чувствует себя в этой связке скорее старшим, ведущим, чем ведомым. «Мой собственный опыт отвечал твоему… в том же одиноком своем пребываньи, той же невознаградимой мучительностью» (ЦП, 367—368), вторит он, легко разбирая скоропись цветаевских ощущений. И – предлагает свое объяснение ее страхов: «ты сама пока еще моложе своей поэтической зрелости. Этот факт – единственная причина кажущейся тебе беспредметности полета» (ЦП, 368). Этим он, видимо, хотел сказать, что к «полету» в высшие сферы подруга еще не готова духовно.
Однако Марина Ивановна, как всегда, не терпит чужой правоты. Она толкует слова Пастернака в каком-то чудовищно-приземленном смысле.
«Борис, но на чем мне, в жизни, учиться? – вопрошает она. – На кастрюлях? Но – кастрюлям же. И выучилась. Как и шитью, и многому, всему, в чем проходит мой день. <…> В стихи не входит только то, что меня от них отрывает: весь мой день, вся моя жизнь. Но, чтобы ответить тебе в упор: мне просто нет времени свои стихи осмысливать… Стихи думают за меня и сразу. Беспредметность полета – об этом ведь? Я из них узнаю, что́, о чем и как бы думала, если бы…» (ЦП, 369).
Невольно хочется спросить: что же, если не жизнь, заполнило ее зрелые стихи сотнями точнейших образов? Чем, если не осмыслением стихов, было «исписывание столбцов, и столбцов, и столбцов – в поисках одного слова, часто не рифмы даже, слова посреди строки…» (ЦП, 358)? Но у Цветаевой – своя правда: в упорном стремлении уйти от ненавистного быта она «забывает» и собственный – отнюдь не бедный! – жизненный опыт, и старших друзей, учивших (и научивших!) ее вовсе не «кастрюлям»…
Назад, в Россию? (август – декабрь 1927)
Тем временем жизнь снова делает неожиданный поворот. В мае 1927 года младшая сестра Марины Ивановны Анастасия, живущая в Москве, открыла для себя произведения Максима Горького и отправила автору восторженное письмо. Вскоре после начала переписки писатель приглашает ее вместе с ее другом, литератором Б. М. Зубакиным, в Италию и, по словам Пастернака, «вызывается помочь им не только денежно, но в смысле влиянья по исхлопотанью виз» (ЦП, 353). В августе – октябре того же года поездка, которую Борис Леонидович окрестил «сбывшейся несбыточностью» (ЦП, 377), состоялась.
А для Марины Ивановны август выдался тяжелым. Работа над пьесой «Федра» перемежалась с корректурой сборника «После России». Но главное – назревал очередной кризис в отношениях с миром вообще и Пастернаком в частности. (По-видимому, свою роль в этом сыграли и его рассуждения о разногласиях с кругом Маяковского, и его попытки по-своему объяснить страхи и мысли Цветаевой.) «У тебя, Борис, есть идеи и идеалы. В этом краю я не князь», – записывает она в рабочей тетради в середине месяца. И чуть ниже: «Во многом я тебе не собеседник, и тебе будет скучно и мне, ты найдешь меня глухой, а я тебя – ограниченным» (ЦП, 379). Весть о приезде в Европу сестры была на этом фоне несомненной радостью. Дважды – в августе и конце сентября – Цветаева пишет письма Горькому, в которых благодарит его за эту поездку.
В конце августа в тетрадь снова заносится болезненная реакция на переживания Пастернака из-за разрыва с Маяковским и Асеевым:
«Борис, у меня нет ни друзей, ни денег, ни свободы, ничего, только тетрадь. И ее у меня нет.
За что? —» (ЦП, 380)
И еще одна запись, словно предупреждение другу:
«Дорогой Борис. Как это может быть, что после такого чудного чувства люди могут выносить друг друга не-чудных, вне этого чуда – без.
Как это может быть, чтобы такое чудное чувство не распространялось потом на все, как оно может оставаться в пределах <предложение оборвано>
<…>
Как после него не понимать стихов, смерти всего, куда он девал это знание» (ЦП, 380, 381). (Эти слова относятся к К. Б. Родзевичу, который в 1926 году с молодой женой тоже перебрался во Францию и поселился недалеко от Цветаевой.)
Трудно сказать, что из приведенных отрывков дошло до Бориса Леонидовича. 8 сентября он жалуется ей на отсутствие писем и гадает о причинах молчания. В этом же письме Пастернак обещает в скором времени написать о своих планах и впервые проговаривается о возможности ее возвращения в Россию:
«…будь ты здесь, я был бы вполне счастлив родиной и либо совершенно не думал о „загранице“, либо в той только части, которая приходится на родителей и сестер. <…> И не потому, что я тут так очарован, а потому что мне должно быть особо по-русски темно и трудно, чтобы жить, подыматься и опускаться и за что-то перевешиваться, когда кажется, что тянет завтрашним днем или будущим годом» (ЦП, 381—382).
Однако вскоре письма пришли, и через 10 дней Пастернак отмечает резкую перемену тона Цветаевой. «В предпоследнем <письме> меня огорчил играющий тон в отношении героя „Поэмы Конца“. <…> Мне было бы по-настоящему хорошо, если бы ты о нем не написала так бессердечно, – признается он и припоминает ее прошлогодний „взрыв“. – Однажды это было и с какими-то твоими словами о Рильке» (ЦП, 383). Следовательно, в том или ином виде запись о Родзевиче перекочевала из тетради в письмо…
Однако полностью развиться этому кризису помешала очередная напасть, свалившаяся на семью Цветаевой. 2 сентября, буквально через день после приезда Анастасии Ивановны в Париж, Мур заболел скарлатиной. От него, несмотря на предосторожности, заразилась Аля, а чуть позже – и сама Марина Ивановна. Болезнь Цветаевой протекала тяжело, и Анастасия Ивановна, по ее словам, из гостьи на некоторое время превратилась в сиделку, чем буквально спасла разрывавшегося между семьей и работой Сергея Яковлевича. (Впрочем, по другим данным, она уехала еще до болезни сестры.)
Легко передающаяся и очень опасная скарлатина наложила печать и на переписку Цветаевой с Пастернаком. Месяц – с конца сентября по конец октября – из-за карантина Марина Ивановна «отвечала» на письма друга только в черновой тетради. (По-видимому, многое из этих текстов так и не было послано адресату.) Сам же Борис Леонидович старался писать ей как можно чаще, ободряя и успокаивая подругу, не привычную к предписанному покою. В октябрьских письмах он подробно рассказывает ей о поездке к родным в Петроград, о 40-минутном – впервые в жизни! – полете над Москвой, о том, как юный рабфаковец, пришедший в гости к его прислуге, со «светлой, осмысленной улыбкой» (ЦП, 418) попросил почитать «905 год»… Его отзывчивость и впрямь примирила Цветаеву с болезнью: «Борюшка, благословляю болезнь, три дня подряд письма» (ЦП, 397). Как, в сущности, мало было ей нужно, чтобы почувствовать себя счастливой…
Лишь дважды за это время – в середине октября – Пастернак получал известия о ее здоровье. Первым вестником стала вернувшаяся 12 октября из поездки А. И. Цветаева, вторым, чуть позже, К. Б. Родзевич, написавший ему письмо под диктовку Цветаевой.
О том, какое впечатление произвела на А. И. Цветаеву встреча с сестрой, можно судить по ее воспоминаниям, написанным в 60-е годы.
«Вечером Марина лежала на своем диванчике, где спала (в ее комнате я помню только диван, ее стол и книги), и пуская папиросный дым – а на глазах ее были слезы:
– Ты пойми: к а к писать, когда с утра я должна идти на рынок, покупать еду, выбирать, рассчитывать, чтобы хватило… <…>
Темно-золотые короткие Маринины волосы разбросаны на подушке, голос борется с слезной судорогой. Я стою у стены, с жаждой уйти в нее – бессильная помочь. Пять лет назад, в хаосе Борисоглебской квартиры, давя быт своим отлетающим шагом, в дикости послеголодных лет – насколько она была крепче и бодрее, чем в этих чистеньких комнатках, в фартуке, у газовой плиты»3131
Цветаева А. И. Воспоминания. – М., 1983. – С. 690.
[Закрыть].
Рассказ Анастасии Ивановны потряс Пастернака.
«Скоро весь этот выверт, в который попала твоя судьба, как и многих из нас, выправится и станет воспоминаньем, – пишет он сразу после разговора с А. И. Цветаевой. – Все, что в моих силах, я сделаю, чтобы приблизить это время. … Умоляю, верь мне, что тебе заживется легче!» (ЦП, 400)
Получив это письмо, Цветаева записывает в тетрадь: «Мне стыдно, Бог весть чего насказала, мне совсем не плохо живется, моя беда… в ложном или нет, но чувстве незаменимости, незаместимости. Не могу не сама…» (ЦП, 410).
В этом же письме он проговаривается о своих планах: «Может быть разлетятся другие жизни и я увезу тебя сюда» (ЦП, 401).
Повод для оптимизма давала завязавшаяся в те же дни (очередное совпадение!) переписка с А. М. Горьким. Писатель был одним из тех, кому Пастернак послал только что вышедший сборник поэм «905 год». Горький давно следил за творчеством поэта – еще в 1915 году в журнале «Современник» вышел отредактированный им пастернаковский перевод драмы Г. Клейста «Разбитый кувшин». Кроме того, в это время он был увлечен пастернаковской повестью «Детство Люверс». Поэтому ответ был быстрым и доброжелательным. «Сердечно благодаря» за «книжку стихов», Горький извещал Бориса Леонидовича, что «Детство Люверс» переведено на английский «и, вероятно, в ближайшие недели выйдет из печати в Америке»3232
Литературное наследство: Т. 70. Горький и советские писатели: неизданная переписка. – М., 1963. – С. 296. (Издание «Детства Люверс» осуществлено не было, – Е.З.)
[Закрыть]. (Перевод сделала близкая подруга писателя М. И. Будберг.)
Обрадованный откликом и особенно перспективами «Детства…», мнительный Пастернак, тем не менее, заметил, что о поэмах в записке нет ни слова. Он тут же истолковал это умолчание в невыгодном для себя плане:
«…Революционную тему надо было взять исторически, как главу меж глав¸ как событие меж событий, и возвести в какую-то пластическую, несектантскую, общерусскую степень. Эту цель я преследовал посланной Вам книгой. Если бы я ее достиг, Вы скорее и лучше всякого другого на это откликнулись. Вы о ней не обмолвились ни словом – очевидно, попытка мне не удалась»3333
Пастернак Б. Л. Собр. соч. – Т. 5. – С. 216.
[Закрыть].
Однако ситуация оказалась прямо противоположной. В следующем письме Алексей Максимович дал развернутую – и во многом справедливую – оценку всего его творчества:
«Книга – отличная; книга из тех, которые не сразу оценивают по достоинству, но которым суждена долгая жизнь. Не скрою от вас: до этой книги я всегда читал стихи ваши с некоторым напряжением, ибо – слишком чрезмерна их насыщенность образностью и не всегда образы эти ясны для меня; мое воображение затруднялось вместить капризную сложность и часто – недоочерченность ваших образов. Вы знаете сами, что вы – оригинальнейший творец образов, вы знаете, вероятно, и то, что богатство их часто заставляет вас говорить – рисовать – чересчур эскизно. В „905 г.“ вы скупее и проще, вы классичнее в этой книге, насыщенной пафосом, который меня, читателя, быстро, легко и мощно заражает. Нет, это, разумеется, отличная книга, это – голос настоящего поэта, и – социального поэта, социального в лучшем и глубочайшем смысле понятия»3434
Литературное наследство: Т. 70. – С. 300.
[Закрыть].
Казалось бы, переписка развивается по тому же закону взаимопритяжения творческих личностей, что и общение с Рильке полтора года назад. Но буквально через день после того, как Борис Леонидович отправил первое письмо, произошло событие, в корне изменившее их отношения.
Приехавшая от Горького А. И. Цветаева подтвердила его опасения относительно оценки «905 года». Боясь, что письмо может быть истолковано как выпрашивание комплиментов, Пастернак спешит извиниться за оплошности, «допущенные во вчерашнем письме по незнанию»3535
Пастернак Б. Л. Собр. соч. – Т. 5. – С. 216.
[Закрыть]. Кроме того, Анастасия Ивановна, видимо, рассказала о своем плане материальной помощи сестре, согласно которому деньги за предполагавшееся издание «Детства Люверс» должны были переводиться от имени Пастернака на счет С. Я. Эфрона. Возможно, подтверждая согласие на эту роль, Борис Леонидович вдруг заговорил в письме об «огромном даровании Марины Цветаевой и ее несчастной, непосильно запутанной судьбе» «…Если бы Вы спросили, – горячо уверяет он Горького, – что я собираюсь писать или делать, я бы ответил: все, что угодно, что может помочь ей и поднять и вернуть России этого большого человека, м.б., не сумевшего выровнять свой дар по судьбе или, вернее, обратно»3636
Пастернак Б. Л. Собр. соч. – Т. 5. – С. 217.
[Закрыть].
Однако к такому повороту событий Алексей Максимович явно не был готов. Оказалось, что при очном знакомстве пара Цветаева – Зубакин произвела на него далеко не самое благоприятное впечатление. Еще в конце предыдущего письма Горький отозвался о спутнике А. И. Цветаевой как о «человеке с хорошими задатками, но совершенно ни на что не способном и – аморальном человеке»3737
Литературное наследство: Т. 70. – С. 301.
[Закрыть]. То, что Анастасия Ивановна неверно истолковала его взгляд на «905 год», только усилило недовольство. В результате вслед за первым письмом Горький пишет Пастернаку возмущенную отповедь. Он отмечает, что Зубакин и Анастасия Цветаева «кроме самих себя, иной действительности не чувствуют, и к рассказам их о ней следует относиться с большой осторожностью»3838
Литературное наследство: Т. 70. – С. 301.
[Закрыть]. Талант Марины Цветаевой показался ему «крикливым, даже – истерическим, словом она владеет плохо, и ею, как и А. Белым, владеет слово»3939
Литературное наследство: Т. 70. – С. 301.
[Закрыть]. В числе фрагментов из «Поэмы Конца», которые особенно не понравились писателю, он выписал и:
Я – не более, чем животное,
Кем-то раненное в живот.
Интересно, знал ли Алексей Максимович, что в этом пункте он полностью совпадает с …белоэмигрантской критикой, вдохновляемой З. Гиппиус? Достается и самому Пастернаку: «вы всю жизнь будете „начинающим“ поэтом, как мне кажется по уверенности вашей в силе вашего таланта и по чувству острой неудовлетворенности самим собой, чувству, которое весьма часто звучит у вас, – раздраженно заявляет Горький и неожиданно добавляет: — Это – хорошо». Впрочем, в заключение письма он признает правоту поэта: «Марине Цветаевой, конечно, следовало бы возвратиться в Россию, но – это едва ли возможно»4040
Литературное наследство: Т. 70. – С. 302.
[Закрыть]
Не вступиться за сестер Цветаевых, при всем уважении к выдающемуся писателю, Пастернак не мог. Чувствуя, что его доводы вряд ли будут услышаны, он умоляет Горького отказаться от планов материальной помощи Марине Ивановне, поскольку «неизбежной тягостности в результате этого ни Вам, ни М. Цв. не избежать!» Вслед за этим, словно успокаивая собеседника, он прибавляет: «Мне удалось уже кое-что сделать, м. б., удастся и еще когда-нибудь»4141
Пастернак Б. Л. Собр. соч. – Т. 5. – С. 222.
[Закрыть]. В ответ Горький прямо требует прекратить переписку…
Итоги этого трехнедельного выяснения отношений Борис Леонидович подвел в письме Цветаевой, написанном в конце октября. Со слов Анастасии Ивановны, он полагал, что Горький может написать ей лично. Опасаясь повторения собственной ошибки, он вводит ее в курс размолвки, а в конце примирительно замечает:
«…оттого, что <мы> не нравимся Г., он не становится меньше: главное же, надо помнить, что помимо нас ищут и друг друга находят наши романы и поэмы и наши пути в литературе, и не всегда мы даже знаем о том.
Обнимаю тебя и еще раз предостерегаю: не суйся в эту путаницу даже и через Асины двери: я ей ничего не скажу, это больше ее огорчит, нежели что-нибудь исправит» (ЦП, 421—422).
В этих словах – весь Пастернак: великодушный и твердый в своем решении.
Впрочем, и после этого имя Горького не исчезло из их переписки. Пастернак полагал, что план помощи все-таки может быть запущен. 14 декабря он через Цветаеву просит посвященного в проект С. Я. Эфрона «сообщить…, произошло ли что-нибудь во исполненье Асина плана» (ЦП, 444). Вскоре Марина Ивановна передает: «все повисло в воздухе» (ЦП, 448). В ответ на это 5 января Борис Леонидович подробно рассказывает подруге (а заодно – и Сергею Яковлевичу, который в это время вместе с товарищами по изданию журнала «Версты» тоже пытался установить контакт с пролетарским писателем) о своей переписке с Горьким. Главное, что можно выяснить из этого рассказа, – полную неосведомленность поэта относительно причин явно нелогичного развития «клубка» событий. Единственная новая деталь: оказывается, начало всей эпопее положила А. И. Цветаева. Пастернак утверждает, что именно она писала ему из-за границы, «как хорошо он <Горький> относится к моей прозе, в частности к Детству Люверс» (ЦП, 453), что и стало поводом для отправки поэм.
Что касается денег, то Борис Леонидович и в самом деле нашел простую и действенную схему материальной помощи подруге. После выхода книги его собственное финансовое положение значительно улучшилось, но посылать деньги напрямую за границу было крайне сложно. Поэтому 3 октября он попросил своего кузена Ф. К. Пастернака, живущего в Мюнхене, перевести на ее адрес деньги, подчеркивая, что «в любое время немедленно… целиком или по частям готов их (то есть такую же сумму, – Е.З.) перевести, куда ты мне укажешь» (ПРС, 357). (Имеется в виду помощь родственникам в России.) С апреля 1928 года по той же схеме деньги Цветаевой пойдут и через живущую в Лондоне жену советского инженера Р. Н. Ломоносову.
С получением первой порции денег от Пастернака связано забавное, характерное для Цветаевой недоразумение. Сраженная изысканностью французского обращения Chère Madame, Марина Ивановна тут же решает, что деньги переслал отец Пастернака, Леонид Осипович, и незамедлительно пишет ему восторженный ответ. Только отослав его, она обнаружила, что подпись на расписке «явно F»… Однако все кончилось благополучно. Две недели спустя она получила письмо от Леонида Осиповича «чудесное, молодое, доброе, без обращения Chère, но столь звучащее им, … письмо – эра во мне к тебе. Ведь за отцом – мать, Борис, … та молодая женщина, когда-то поднимавшая тебя впервые над всей землею: – жест посвящения небу всех матерей» (ЦП, 426). В трепетном отношении Цветаевой к его родителям, возможно, неожиданно для нее самой, пробудилась тоска ее раннего сиротства.
«Борис, я этой себя боюсь, прости мне Бог мое малодушие! – признается она, – кажется – боли боюсь, ведь мне сразу захочется к твоей маме и – навсегда. „Когда Боря был маленький“… Прости, Борис, но в этом она мне ближе, чем ты, та́к себя не любят, так любят другого, и этот другой и у нее и у меня – ты. Борис, если бы я жила в Берлине, она бы меня очень любила, и я была бы наполовину счастливее – есть ведь такая глупость, счастье» (ЦП, 427).
Между тем, в конце октября ее мечты о свидании с Пастернаком обрели новое направление. «Виновником» этого стал Константин Родзевич, обронивший в разговоре: «Вам надо бы в Россию, <…> не навсегда, съездить, вернуться, летом» (ЦП, 423).
«И – в ответ – покой, – продолжает рассказ Цветаева, – твердая вера, что это будет, «а ларчик просто открывался», и с ним разверзшийся тупик. Первое: не ты ко мне в мою – европейскую и квартирную – – неволю, а я к тебе в мою русскую тех лет свободу. Борис, на месяц или полтора, этим летом, ездить вместе – У-у-ра-ал <под строкой: (почти что у-р-ра-а!)>» (ЦП, 424).
Пастернака такой поворот событий обрадовал и озадачил одновременно. С одной стороны, он сам мечтал об этом. С другой – прекрасно понимал, насколько опасно ее внезапное появление из-за границы в условиях уже разгорающейся борьбы с инакомыслием.
«Я бы не поручился, – пишет Борис Леонидович 12 ноября, – что в случае какого-нибудь процесса, ни волоском не имеющего к тебе отношенья, тебя бы не припутали по периферии каких-то третьих лиц и десятых гаданий, как это тут бывает с целым рядом ни в чем не повинных людей. Для меня, в таком случае, оставалось бы облегчающая возможность сесть вместе с тобой (так или иначе я бы неизбежно пришел к этому), но во всяком случае я не могу звать тебя к таким перспективам» (ЦП, 433).
Он предлагает подруге повременить, пока не будет подготовлена благоприятная почва. (Работать в этом направлении, в числе других, брался и Николай Асеев, который собирался к Горькому в Италию и хотел «так ему прочитать твои поэмы, что потом его и убеждать-то особенно не придется» (ЦП, 433). Даже после размолвки с Горьким и трезвой оценки натуры Асеева поэту хотелось верить в осуществимость этого плана. Разумеется, ничего не вышло…
Впрочем, особо остужать решимость Цветаевой ему не пришлось. 19 ноября она уже совершенно спокойно пишет:
«Пока нет сроков, нет и навеса, груза, страха. „Когда-нибудь“… Пойми меня правильно, напиши мне ты выезжать в следующее воскресенье – я бы поехала. Выезжать к 1-му мая – я бы уже места себе не находила».
И тут же переводит разговор из личной плоскости в историческую:
«Но, Борис, одно я знаю: что-то началось: мое желание и встречные желания хотя бы 5—6 человек, приезд Аси, и теперь приезд Асеева, и перекличка с Горьким, слово Россия – только знак. Вещь начала делаться, это – пузыри ее подводного ворочанья. Остальное предоставим времени» (ЦП, 438).
О чем это? Только ли о личном возвращении? Или о постепенном срастании расколотого эмиграцией общества? На это в конце 20-х годов надеялись многие и в России, и на Западе… Впрочем, после этого письма серьезный разговор о возвращении Цветаевой в Россию больше не возникал.
Вслед за этим Марина Ивановна, как бы мимоходом, обронила одну из наиболее точных автохарактеристик:
«Я не о возвращении говорила, о гощении. … Не хочу терять своей прекрасной, моей во всем исконной, позиции гостя, т.е. одного против (хотя бы полупротив!) всех, очеса и ушеса разверзающей – чужести!» (ЦП, 438).
В этом признании, как и в августовской записи о Родзевиче, – разгадка ее отношений со всеми возлюбленными, в том числе и с Пастернаком. Цветаева принимала в любви только праздник влюбленности, вырывающий из повседневной серости, чудо взаимного очаровывания, из которого рождаются стихи, – и властно отстраняла от себя прозу жизни, налагающую на любящих обязанность приспособления друг к другу, самоограничения. По большому счету, везде, кроме семьи, она всю жизнь оставалась «гостьей» – своенравной, не всегда вежливой, твердо уверенной в своем праве на внимание. Такая позиция, казалось бы, делала невозможным длительное, «на всю жизнь» чувство.
Однако Цветаева не была бы сама собой, если бы в черновике того же письма, страницей выше, не подчеркнула, наперекор всему, прочность их с Пастернаком связи: «Мы с тобой сращены, сплетены так густо и так кровно, та́к глубоко – всеми корнями и верхами, что только какая-нибудь низость, исхитренность, уловка жизни может развести» (ЦП, 437).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.