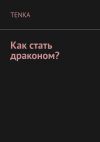Текст книги "Пастернак – Цветаева – Рильке"

Автор книги: Екатерина Зотова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Без Рильке (1927 – 1928)
В тот же день Цветаева открыткой спешит сообщить о случившемся Пастернаку. А 1 января пишет ему большое письмо, в котором, едва ли не с облегчением, растолковывает другу, почему их встреча втроем была невозможна.
«Видишь, Борис: втроем, в живых, все равно бы ничего не вышло. Я знаю себя: я бы не могла не целовать его рук, не могла бы целовать их – даже при тебе, почти что при себе даже. Я бы рвалась и разрывалась, распиналась, Борис, п.ч. все-таки еще этот свет».
И затем – отлитое в формулу противопоставление «этого» и «того» света:
«Борис! Борис! Как я знаю тот! По снам, по воздуху снов, по разгроможденности, по насущности снов. Как я не знаю этого, как я не люблю этого, как обижена в этом! Тот свет, ты только пойми: свет, освещение, вещи, инако освещенные, – светом твоим, моим» (ЦП, 277).
Пожалуй, именно этот фрагмент, родившийся в минуты сильнейшего душевного потрясения, лучше других помогает понять чувства, которые с юности питала Цветаева к «этому свету», к жизни. Главное, основополагающее ощущение – обида. Бессознательная, почти детская обида на то, что в реальности далеко не все происходит так, как хотелось бы, что возлюбленные не похожи на героев снов и видят в ней, в лучшем случае, «желанное женское» тело (ЦП, 336), что свободу действий сковывают опостылевшие правила поведения, за исполнением которых зорко следит всевидящее око соседей. В мае 1926 года в черновике одного из писем Пастернаку Марина Ивановна признавалась:
«Я не могу, чтобы Аля не мылась: Аля, мойся! по 10 раз. Я не могу, чтобы газ горел даром, я не могу, чтобы Мур2828
Домашнее прозвище сына Цветаевой, Г. С. Эфрона (1925—1944).
[Закрыть] ходил в грязной куртке… У меня гордость нищего – не по карману, не по собственным силам» (ЦП, 203).
Дело, однако, не только в гордости – для скольких женщин забота о детях и доме стала смыслом всей жизни! Но Цветаева не мыслит себя без творчества, а на него при такой требовательности к быту времени практически не оставалось.
Не все было гладко и с продвижением готовых произведений к читателю. Последний стихотворный сборник вышел в 1923 году; следующий, «После России», появится только в 1928. А между – только публикации в эмигрантской периодике, причем, по воле редакторов, в печать попадает далеко не все. Марина Ивановна знает цену своему таланту, но ее литературный труд оплачивается скудно и с задержками, а новые произведения собратья по перу все чаще встречают критически. Слишком необычными были они на вкус старших литераторов, в молодости примкнувших кто к символизму, кто к позднему реализму. Некоторые критики называли ее стиль «просоветским», что для эмигрантской среды было страшней любой брани. Впрочем, рядом с ней всегда были и преданные почитатели, и добрые знакомые, и люди, готовые помочь материально. Однако для Цветаевой все это было не в счет без главного – признания и понимания силы ее таланта.
От такого мира хотелось уйти. Точнее, выход из него был главным условием жизни поэта Марины Цветаевой. Потому-то трагичное для любого событие – потеря друга – стало для нее мощным генератором творческой активности. Смерть парадоксальным образом освободила Марину Ивановну от страха разочароваться в возлюбленном, потерять его. И она устремляется «к нему»…
Первым следствием этой свободы (прежде всего – от сковывающего не-ответа Рильке на письмо и открытку) стало так называемое «посмертное письмо», написанное сразу же, 31 декабря. Кажется, сам процесс воспроизведения своих ощущений на бумаге помогал Цветаевой уйти от смятения, вызванного потерей, к обретению спасительной опоры. Летом 1927 года она признается Пастернаку: «Пишу не потому, что знаю, а для того, чтобы знать. Пока о вещи не пишу (не гляжу на нее), ее нет» (ЦП, 338). Марине Ивановне кажется, что Райнер Мария рядом, быть может, даже ближе, чем при жизни. «Любимый, я знаю, ты меня читаешь раньше, чем я пишу» (ЦП, 279), – выводит она в тетради. И еще раз – в конце: «Не высоко, не далеко, еще нет, еще совсем близко, твой лоб на моем плече» (ЦП, 280). В этом письме Цветаева делает то, чего не осмелилась сделать живому – поздравляет с Новым Годом – и, словно забывшись, просит: «Райнер, пиши мне!» – чтобы тут же спохватиться: «Довольно-таки глупая просьба?» (ЦП, 280) Не такая уж, впрочем, глупая, если учесть, что смерть Рильке побудила ее пересмотреть взгляд и на соотношение жизни и смерти. В стихотворении «Новогоднее», она так сформулирует свое чувство:
Если ты, такое око, смерклось,
Значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть.
Значит – тмится! Допойму при встрече! —
Нет ни жизни, нет ни смерти, – третье,
Новое…
Впрочем, осмысление придет чуть позже. Пока же – главная проблема: куда послать написанное? Рильке – некуда, да и незачем (уже прочитал) … 1 января оно было вложено в письмо Пастернаку – единственному, кто, хоть отчасти, был в курсе их отношений. Кажется, этим шагом Марина Ивановна пытается (может быть, даже не осознавая этого) убедить адресата, что ничего «земного» в ее отношении к Райнеру не было. Недаром в письме Борису Леонидовичу она, ссылаясь на очередной сон, почти требует его приезда: «Я тебя никогда не звала, теперь время» (ЦП, 277). В следующем письме, не дождавшись согласия, она прямо связывает возможность встречи со смертью Рильке: «Его смерть – право на существование мое с тобой, мало – право, собственноручный его приказ такового» (ЦП, 289).
Однако, настойчиво призывая Пастернака в Европу, сама Цветаева не расстается с образом умершего. Весь январь и начало февраля она работает над стихотворением «Новогоднее», которое сама называет «письмом Рильке». Едва закончив его, принимается за прозаическое эссе «Твоя смерть», которое будет опубликовано первым, в мае 1927 года. В мае – июне появляется «Поэма Воздуха», в которой Рильке опять становится главным (впрочем, не названным по имени) героем, проводником героини на тот свет. А в 1928 году, видимо, воодушевленная публикацией «Новогоднего», Марина Ивановна переведет на русский несколько опубликованных писем Рильке к разным лицам и, не довольствуясь ролью переводчика, напишет небольшое вступление «Несколько писем Райнер-Мариа Рильке» (так у Цветаевой, – Е.З.). Они увидят свет в конце зимы 1929 года. Помимо этого, она ищет – и находит – людей, связанных с Рильке, переписывается с ними, живо интересуется новыми публикациями о нем…
«Новогоднее» действительно похоже на предыдущие письма Цветаевой Рильке. И дело не только в форме, не только в том, что многие его темы и образы выросли из «посмертного» письма. Как и в остальных посланиях, здесь ясно просматривается стержневая тема. Райнер вновь оказывается поверенным, чутким слушателем, помогающим выговориться и тем самым – найти решение проблемы. На этот раз ею стало стремление нащупать ответ на ребром поставленный вопрос:
Что мне делать в новогоднем шуме
С этой внутреннею рифмой: Райнер – умер.
Скажем сразу: готового решения не будет. Цветаева мечется между страстной верой в то, что для любимого продолжается некое инобытие, – и леденящим сознанием непоправимости утраты. Как и раньше, задавая множество вопросов, она пытается уточнить свое представление о том свете:
Не ошиблась, Райнер, рай – гористый,
Грозовой? Не – притязаний вдовьих —
Не один ведь рай, над ним – другой ведь
Рай? Террасами?
………………………………………………
– Как пишется на новом месте?
Впрочем, есть ты – есть стих, сам и есть ты —
Стих! Как пишется в хорошей жисти
Без стола для локтя, лба для кисти
(Горсти)?
Кажется, к концу стихотворения вера в инобытие обретена, но – последние строки, имитирующие адрес, с жестокой прямотой отбрасывают автора (и читателя) в исходную точку:
…Поверх явной и сплошной разлуки —
Райнеру – Мариа – Рильке – в руки.
Впрочем, относительно быстро боль уступила место твердой уверенности в том, что любимый не исчез. Свидетельство тому – эссе «Твоя смерть». Формально его тема – сближение кончины Рильке с двумя другими потерями, пережитыми Мариной Ивановной в конце 1926 – начале 1927 года: за несколько дней до него скончалась мадемуазель Жанна Робер, пожилая учительница дочери, а в середине января – 13-летний Ваня, сын одной из знакомых. Оба они показаны исключительно чистыми людьми, достойными стоять рядом с Рильке. Однако в тексте выясняется, что, вопреки заголовку, его смерть и личность не столько сопоставляются с двумя другими, сколько противопоставляются им. Именно здесь Цветаева провозглашает основы своего мифа о духовной природе ушедшего поэта.
«…Тебя не только в моей жизни, тебя вообще в жизни не было, – неожиданно заявляет Цветаева и развивает свою мысль. — Было – и это в моих устах величайший titre de noblesse2929
Дворянский титул, свидетельство благородства (фр.).
[Закрыть] (не тебе говорю, всем) – призрак, то есть величайшее снисхождение души к глазам (нашей жажде яви). Длительный, непрерывный, терпеливый призрак, дававший нам, живым, жизнь и кровь. Мы хотели тебя видеть – и видели. Мы хотели твоих книг – ты писал их» (НА, 155—156).
Цветаева вплела в свой миф даже диагноз Рильке (рак крови), утверждая, что поэт «истек хорошей кровью для спасения нашей, дурной. Просто – перелил в нас свою кровь» (НА, 157). Образ, что и говорить, впечатляющий – полнокровный (!) призрак, некая духовная антитеза вампирам и оборотням, сосущим кровь и силу из живых. (Марина Ивановна знала толк в нечисти: в конце 1922 – начале 1923 года написала поэму-сказку «Молодец», главный герой которой – совестливый оборотень. Кстати, главную героиню сказки, полюбившую героя Марусю, она неоднократно отождествляла с собой.)
Еще дальше уводит Цветаеву «Поэма Воздуха» – вдохновенный гимн посмертному бытию, где, ради воссоединения с героем, героиня полностью отказывается от всего земного.
Слава тебе, допустившему бреши:
Больше не вешу.
Слава тебе, обвалившему крышу:
Больше не слышу.
Солнцепричастная, больше не щурюсь.
Дух: не дышу уж!
Твердое тело есть мертвое тело:
Оттяготела.
Ей было уже совершенно не важно, насколько ее Райнер похож на оригинал. Напротив, каждую деталь своего образа Цветаева защищала от жизни с маниакальным упорством. Например, осенью 1932 года она была возмущена книгой зятя Рильке Карла Зибера «Рене Рильке (Юность Райнера Мария Рильке)». 22 ноября она написала знакомой поэта Н. Вундерли-Фолькарт: «…Едва я вникла в это „Рене“ – он ведь никогда не был „Рене“, хотя и был так назван, он всегда был Райнер – словом, мое первое чувство: ложь!» (НА, 220—221) Результат – разрыв отношений с семьей Зибер-Рильке. (Впрочем, к жене и дочери поэта Марина Ивановна и раньше относилась весьма пристрастно.)
Между тем, Пастернак откликнулся на сообщение Цветаевой только в начале февраля. Причина на этот раз была более чем уважительной – под Рождество, после полугодового простоя, «зажила» вторая часть поэмы «Лейтенант Шмидт». Едва закончив эти главы, в середине февраля, Борис Леонидович вышлет написанное на суд Марины Ивановны.
Уход Рильке потряс его.
«Шел густой снег, черными лохмотьями по затуманенным окнам, когда я узнал о его смерти, – вспоминал Пастернак месяц спустя. – …Я заболел этой вестью. Я точно оборвался и повис где-то, жизнь поехала мимо, несколько дней мы друг друга не слышали и не понимали. Кстати, ударил жестокий, почти абстрактный, хаотический мороз».
И тут же Борис Леонидович тактично дает понять подруге, что не разделяет ее фантазий, очевидных уже в «посмертном» письме:
«По всей ли грубости представляешь ты себе, как мы с тобой осиротели? Нет, кажется нет, и не надо: полный залп беспомощности снижает человека. У меня же все как-то обесценилось. Теперь давай жить долго, оскорбленно-долго, – это мой и твой долг» (ЦП, 283).
Действительно, смерть великого современника не только наполовину обесценила намеченную поездку за рубеж, но и поставила крест на возможности прямого диалога с поэтом-мыслителем, в ходе которого Борис Леонидович хотел уяснить, может ли вообще человек взглянуть на перипетии мировых катаклизмов с высоты вечных, в основе своей неизменных ценностей. Именно ради этого он откладывал ответ на майское «благословенье». В то время до Пастернака еще не дошли «Дуинезские элегии» Рильке. Прочитав их в июле 1927 года, он с горечью напишет Цветаевой:
«…Если бы эта книга или хоть слабое представленье о ней было у меня прошедшею весной, она, а не мои планы и полаганья руководили бы мною. <…> Я не знал, что такие элегии и действительно написаны, и он сам, не нуждаясь в помощи чужих показательных потрясений, стал истории на плечи и так сверхчеловечески свободен. Я переживал его трагически, и эта трагедия требовала чрезвычайной осязательности сношенья. Мне следовало знать, что немыслима у такого человека трагедия, которой бы сам он, допустив, не разрешил, не успел разрешить» (ЦП, 378—379).
Но Цветаевой, по собственной воле «отрешающейся» от жизни, его ход мысли вновь оказался чужд. В письме от 9 февраля она оценивает явление Рильке в собственной судьбе как «первое совпадение лучшего для меня и лучшего на земле», то есть неслыханный в несовершенном мире случай, и вопрошает: «Разве не ЕСТЕСТВЕННО, что ушло? За что ты – принимаешь жизнь??
Для тебя его смерть не в порядке вещей, для меня его жизнь – не в порядке, в порядке ином, иной порядок» (ЦП, 292), – внушает она Пастернаку. И тут же, словно ставя под сомнение глубину его горя, восклицает: «Как случилось, что ты средоточием письма взял частность твоего со мной – на час, год, десятилетие – разминовения, а не наше с ним – на всю жизнь, на всю землю – расставание» (ЦП, 293). (Марина Ивановна имеет в виду первую фразу пастернаковского письма «Я пишу тебе случайно и опять замолкну» (ЦП, 283), которая отсылала к его июльскому зароку не писать.)
В том же письме Цветаева сообщает другу, что поэма «Попытка комнаты» обращена не к нему, а к Рильке.
«Произошла любопытная подмена, – отмечает она: – стих писался в дни моего крайнего сосредоточия на нем, а направлен был – сознанием и волей – к тебе. Оказался же – мало о нем! – о нем – сейчас (после 29го декабря), т.е. предвосхищением, т.е. прозрением. Я просто рассказывала ему, живому – к которому же собиралась! – как не встретились, как иначе встретились. Отсюда и странная, меня самое тогда огорчившая… нелюбовность, отрешенность, отказность каждой строки» (ЦП, 290).
Чуть позже она отослала Борису Леонидовичу и сам текст поэмы, так что уже в письме от 22 февраля Пастернак делится впечатлением от нее.
Начинает, как обычно, с похвал.
«Ты удивительно стройно растешь и последовательно. <…> Мысль, т.е. самый шум „думанья“, настолько порабощена в тебе поэтом, что кажется победительницей. <…> Твои поэтические формулировки до того по ней, до того ей подобны, что начинает казаться, будто она сама (мысль) и есть источник твоей бесподобной музыки. Точно, очищенная от всякой аритмии предполаганий, она не может не превратиться в пенье, как до звучности очищенный шум, – формулирует свое восприятие Борис Леонидович и тут же опасливо оглядывается на подругу. – <…> Все это, я знаю, не понравится тебе. Меня-то, конечно, очень трогает, нравится ли тебе что или нет» (ЦП, 313—314).
Похвала и в самом деле неоднозначная – в сущности, Пастернак пишет о том, что поэтическая логика в творении Цветаевой подменяет собой логику мысли. Если развить эту идею, окажется, что истина в поэме очень убедительно подменяется иллюзией, мифом. Тут, надо отметить, Борис Леонидович ухватил самую суть ее творчества – однако проявлять свою мысль до конца не стал.
Гораздо важнее для него было высказать свои соображения о совместном продолжении в творчестве линии ушедшего поэта и, в связи с этим, о посвящении «Попытки комнаты» Рильке.
«Следуя твоей воле, я мыслю „Попытку“ обращенною к Rilke. <…> Нам нужно в живом воздухе труся́щих дней, в топотне поколенья, иметь звучащую связь с ним, т.е. надо завязать материальный поэтический узел, который как-то бы звучал им или о нем, – отмечает он и тут же прибавляет: – Но „Попытка“ страшно связана со мною. <…> То есть я хочу сказать, что R ты дани еще не уплатила» (ЦП, 315).
Пастернак, несомненно, помнил свой прошлогодний «счастливый сон» и узнавал его черты в цветаевской поэме. Потому-то, не споря впрямую, он призывал Цветаеву направить усилия на осмысление личности Рильке и его творчества, а не сосредотачиваться на ситуации невстречи. (Прочти он уже написанное к этому времени «Новогоднее», реакция, возможно, была бы иной.)
С таким пониманием своей поэмы Марина Ивановна категорически не соглашалась – ведь согласие означало бы крушение надежд на их встречу.
«О Попытке комнаты.
Разве ты не понял, что это не наша? Что так и не возникла она, п.ч. в будущем ее не было, просто – ни досок, ни балок» (ЦП, 318).
И – опять звала его к себе: «Борис, у меня огромная мечта: книгу о Рильке, твою и мою. <…> Хотя бы ради этого – приезжай» (ЦП, 320).
А Пастернак снова решил отложить поездку. 29 апреля он, как и год назад, запрашивает согласие Марины Ивановны на отсрочку ради «настоящей работы» (ЦП, 322), а 3 мая, еще не получив ответа, решительно подтверждает и даже обосновывает свое решение. В этом письме Борис Леонидович подробно рассказывает подруге о своем принципиальном расхождении с кругом Маяковского, в котором «нравственное вырождение стало душевной нормой» (ЦП, 324).
«Нельзя, – пишет он, – чтобы нахожденье на чужой территории разом же совпало с возвращеньем к себе: т.е. с философией и с тоном, которые, конечно, должны будут пойти вразрез со всем здешним. Это надо попытаться начать здесь, открыто, в журналах, на месте, в столкновеньях с цензорами. <…> …Ты представляешь себе, насколько бы я облегчил задачу всем этим людям двух измерений, заговори я о трех не с Волхонки (т.е. не в России, – Е.З.)? Произвели бы все истины географически, от страны, откуда бы это посылалось друзьям и в журналы, и тем бы и отделались. Этого, легчайшего из штампов, мне не хочется давать им в руки» (ЦП, 326).
Несмотря на легкую конспирацию, смысл отрывка ясен. Пастернак говорит о своем стремлении освободиться от оглядки на советскую идеологию и создать произведение, отвечающее собственному мировоззрению. Неясно лишь, о каком именно замысле идет речь. В конце того же письма поэт проговаривается, что хочет писать «прозу, и свою, и м.б. стихи героя прозы» (ЦП, 327). В следующих письмах он неоднократно упоминает работу над завершением романа в стихах «Спекторский». В числе произведений, написанных поэтом в конце 20-х годов, действительно есть проза под названием «Повесть», сюжетно связанная со «Спекторским», однако работа над ней была начата лишь в январе 1929 года. Гораздо ближе по времени первое упоминание о работе над другим – краеугольным для Пастернака – произведением: автобиографической прозой «Охранная грамота». В феврале 1928 года, отвечая на очередной газетный опрос, он признался: после кончины Рильке «ближайшей моей заботой стало рассказать об этом удивительном лирике и об особом мире, который, как у всякого настоящего поэта, составляют его произведения. Между тем под руками, в последовательности исполнения, задуманная статья превратилась у меня в автобиографические отрывки о том, как складывались мои представления об искусстве и в чем они коренятся»3030
Пастернак Б. Л. Собр. соч. – Т. 4. – С. 623.
[Закрыть]. Скорее всего, именно этот замысел начал формироваться в апреле – мае 1927 года, после завершения вполне лояльного советской власти по теме, хотя и вольного по интерпретации, «Лейтенанта Шмидта». Правда, впервые Пастернак упомянул о желании «написать статью о Рильке» только 8 сентября (ЦП, 382).
Было бы, однако, неверно записывать Пастернака середины 1927 года в антисоветчики. На протяжение всей жизни поэт достаточно трезво и критично относился к любой власти и никогда не переоценивал «свобод» западного мира. (Пройдет всего несколько месяцев, и он вполне серьезно будет бороться за… возвращение Цветаевой в Россию.) Поэтому главное в настроении этих месяцев – недовольство собственной конформистской позицией, которая превращала его в молчаливого союзника «канонизированного бездушья и скудоумья» (ЦП, 324).
Поначалу Марина Ивановна восприняла это решение довольно спокойно: «Не удивляюсь и не огорчаюсь, что не рвешься ко мне, – писала она 7—8 мая, — я ведь тоже к тебе не рвусь. Пять лет рваться – не по мне» (ЦП, 330). Впрочем, доводы, приведенные Борисом Леонидовичем, тоже ее не убедили.
«Ты же поэт, т.е., в каком-то смысле (нахождение 2-ой строки четверостишия, например) все-таки акробат мыслительной связи. Причины глубже – или проще: начну с проще: невозможно в жару – лето – семья (берешь или не берешь – сложно) – беготня, и все с утра, и все бессрочно и т. д. А глубже – страх (всего).
Но твой довод (повод) правдив» (ЦП, 328), – примирительно завершала она свою мысль…
Размышления о доводах и поводах оказались провидческими. В конце мая Пастернак признается: «Я не учел, не додумал, а потому и не сказал тебе, в какой степени все это зависит от денег. Даже и Кавказ, представь (в семейной части, в комбинациях), пока недоступен» (ЦП, 344).
А Цветаева уже через 4 дня напишет совершенно иное письмо, полное «жгучей жалости» (ЦП, 337), рожденной сознанием несбыточности своей любви.
«Борис! Ты никогда не думал, что есть целый огромный чудный мир, – начинает она, – для стихов запретный и в котором открываются – открывались такие огромные законы <…> То, что узнаешь вдвоем – та́к бы я назвала, так это называется. Ничто, Борис, не познается вдвоем (забывается – все!) ни честь, ни Бог, не дерево. Только твое тело, к которому тебе ходу нет (входа нет). Подумай: странность: целая область души, в которую я (ты) не могу одна. Я НЕ МОГУ ОДНА. И не Бог нужен, а человек. Становление через второго» (ЦП, 336—337).
Чуть ниже она признается: «Это страшно сказать, но я телом никогда не была, ни в любви, ни в материнстве, все отсветом, через, в переводе с (или на!)». И тут же – отрезвляющая усмешка: «Смешно мне, тебе, незнакомому (разве ты-то в счет), да еще за тридевять земель писать такое» (ЦП, 337). В порыве откровенности Цветаева признается даже в том, что «за последний год» Пастернак стал для нее «младшим братом Рильке» (ЦП, 337). Можно подумать, что лишь уход старшего пробудил в ней былые чувства к «младшему»… (Как не вспомнить, что письмо появилось в начале работы над «Поэмой Воздуха», посвященной старшему!) В конце она поясняет:
«Ты мне, Борис, нужен как пропасть, как прорва, чтобы было куда бросить и не слышать дна. (Колодцы в старинных замках. <…>) Чтобы было куда любить. Я не могу (ТАК) любить не поэта. И ты не можешь», – убежденно прибавляет она (ЦП, 339).
Что это – озарение? Внезапное открытие? Вряд ли. Слишком похоже на обращенное к Рильке: «Райнер, я хочу к тебе, ради себя…» (П26, 191). Тогда Марина Ивановна быстро отрезвела и успокоилась – настолько быстро, что не откликнулась на ответный зов. Вот и теперь, раз выплеснувшись, после она будет писать спокойные, привычные письма. А на размышления Пастернака об освобождении Рильке вновь ответит недоумением, обнажающим их расхождения:
«„Вскочить истории на плечи“ (ты о Рильке), т.о. перебороть, превысить ее. Вскочить эпосу на плечи не скажешь: ВОЙТИ в эпос – как в поле ржи. Объясни же мне: когда есть эпос, – зачем и чем может быть в твоей жизни история. … Какое тебе, вечному, дело до века, в котором ты рожден (современности). „Историзм“ – что́ это значит?» (ЦП, 380).
Но и Пастернак не воспринял ее призыв как руководство к действию. Давая понять, что письмо прочитано и понято, он ответит ей странными, на первый взгляд, фразами: «О, Марина, все будет прекрасно, не надо только говорить. Все, все, все решительно. Самое главное: книга твоя будет бесподобна!» (ЦП, 346) (Последнее замечание относится к сборнику стихов «После России», который Марина Ивановна в это время составляла.) Кажется, Борис Леонидович мягко, но упрямо поворачивает назад – от мечты о совместной жизни к провозглашенному в самом начале переписки братскому творческому единению, от которого он, впрочем, никогда и не отказывался.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.