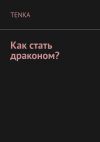Текст книги "Пастернак – Цветаева – Рильке"

Автор книги: Екатерина Зотова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
Отголоски (1931 – 1934)
Переписка прервалась, однако творческая перекличка не прекратилась. В декабре 1931 года, выступая на дискуссии «О политической лирике», Пастернак отстаивает свободу художника от внешнего давления. Стенограмма так передает его слова:
«Искусство отличается от ремесла тем, что оно само ставит себе задачу, оно присутствует в эпохе, как живой организм, оно отличается от ремесла, которое не знает, чего оно хочет, потому что ремесло делает все то, что хочет другой. …Мы все говорим: надо то-то и то-то, и неизвестно кому это надо. В искусстве это надо нужно самому художнику… Я, например, скажу, что совершенно ясно, что есть у меня преемственность, которая должна быть сохранена»5656
Цит. по: Пастернак Е. Б. Борис Пастернак. Материалы для биографии. – С. 500.
[Закрыть].
В это же время, осенью и зимой 1931 года, Цветаева работала над объемным эстетическим трактатом «Искусство при свете совести». Частью этой работы был доклад «Поэт и время», прочитанный в середине января 1932 года.
«Не современного (не являющего своего времени) искусства нет»5757
Цветаева М. И. Об искусстве. – С. 57.
[Закрыть], – утверждает она и, уточняя свою позицию, четко отделяет время от временщиков: «Тема Революции – заказ времени. Тема прославления Революции – заказ партии»5858
Цветаева М. И. Об искусстве. – С. 65.
[Закрыть].
Доказывая свою правоту, например, то, что современность часто отражается не на содержании, а на форме произведения, Марина Ивановна не раз ссылается на творчество Бориса Пастернака. Уже написав доклад, она читает в какой-то газете отчет о декабрьской дискуссии в Москве. Глаза выхватывают слова Пастернака (парафраз евангельской строки):
«Время существует для человека, а не человек для времени».
Так рождается «После-словие» к докладу. Процитировав друга, Цветаева заключает: «Борис Пастернак – там, я – здесь, через все пространства и запреты, внешние и внутренние (Борис Пастернак – с Революцией, я – ни с кем), Пастернак и я, не сговариваясь, думаем над одним и говорим одно.
Это и есть: современность»5959
Цветаева М. И. Об искусстве. – С. 71.
[Закрыть].
Сговора и в самом деле не было: перед нами – очередное совпадение, которыми так богата история их отношений. Однако было другое – явное влияние на Цветаеву пастернаковской философии. Отрешившись от личного общения, она словно впустила в себя его разбросанные по письмам «идеи», от которых раньше открещивалась, чтобы переплавить их в собственные эстетические воззрения. Разве не вытекает из пастернаковского понимания творчества такое определение современника?
«Быть современником – творить свое время, а не отражать его. Да, отражать его, но не как зеркало, а как щит. Быть современником – творить свое время, то есть с девятью десятыми в нем сражаться, как сражаешься с девятью десятыми первого черновика»6060
Цветаева М. И. Об искусстве. – С. 68—69.
[Закрыть].
Более того: эти слова поразительно точно отражают и общественную позицию Бориса Леонидовича, занятую им в первой половине 1930-х годов. Именно в это время он, втянутый в активную общественную деятельность, всеми силами пытается привить времени свое понимание истории, творчества, революции… Летом 1931 года, в самый счастливый период своей жизни, он наконец-то обретает единомышленников – группу грузинских поэтов во главе с Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе. Одновременно появляются знаменитые строки, полные трагических предчувствий:
О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью – убивают,
Нахлынут горлом и убьют!
От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.
Но старость – это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.
Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство
И дышат почва и судьба
Впрочем, иллюзии будут недолгими. Три года спустя, на Первом всероссийском съезде писателей, станет ясно, что прямое воздействие на власть невозможно. Пастернак покинет съезд, не дожидаясь его закрытия. После этого он, избранный членом правления Союза писателей СССР, еще какое-то время будет честно заниматься общественной работой, пока зимой 1935 года не заболеет от нервного перенапряжения.
Но до 1935 года он был счастлив. Его счастье не безоблачно, оно то и дело омрачалось бытовыми трудностями, непониманием со стороны близких и тяжелыми впечатлениями от реалий советской жизни. (Так, летом 1932 года на отдыхе в Свердловской области Бориса Леонидовича и Зинаиду Николаевну потряс контраст между благополучием обкомовского санатория и нищетой окрестных деревень, в которых не только сосланные из европейской части России раскулаченные, но и местные крестьяне буквально вымирали от голода. В конце концов Пастернаки попросту сбежали из этого «рая»…) Не все было гладко и с публикациями. К примеру, в Москве запретили переиздание «Охранной грамоты», которая вышла в Ленинграде в конце 1931 года тиражом всего 6500 экземпляров и была встречена партийной критикой в штыки.
Однако рядом с ним была любимая, любящая и вроде бы понимающая его женщина, друзья-единомышленники, а главное – вновь непрерывным потоком «пошли» стихи. Не мудрено, что на какое-то время образ Марины Цветаевой отошел на задний план. Но когда в начале 1933 года в Ленинграде вышел солидный том его «Стихотворений», Борис Леонидович послал в Париж книгу с покаянной надписью:
«Марине
Прости меня
Целую Сережу. Сергей Яковлевич, простите и Вы меня. Я бы хотел, чтобы главное вернулось.
Я это должен еще заслужить.
Простите, простите. Простите» (ЦП, 543).
Это «простите», конечно же, относилось к прерванным отношениям, однако Цветаева, как уже не раз бывало, поняла его по-своему. Прочитав стихи, посвященные З. Н. Нейгауз, —
И я б хотел, чтоб после смерти,
Как мы замкнемся и уйдем,
Тесней, чем сердце и предсердье,
Зарифмовали нас вдвоем —
она снова приревновала его к «другой»:
«Борис, простить ведь не за то, что не писал 2 года (3 года?), а за то, что стихи на 403 стр., явно-мои, – не мне? — вопрошает Марина Ивановна и, с мнимым хладнокровием взвешивая „за“ и „против“, продолжает. — И вот, задумываюсь, могу ли простить, и если даже смогу – прощу ли (внутри себя)? „Есть рифмы в мире сем, Разъединишь – и дрогнет“ – вот мой ответ тебе на эти твои стихи в 1925 г. Теперь, не устраивая напряжения: я, опережая твою 403 стр. на 7 (?) лет, это твое не-мне стихотворение, сорифму твою не со мной, свою сорифму с тобой и твою со мной навеки – по праву первенства – утвердила» (ЦП, 543).
В своих размышлениях она доходит до прямого обвинения в плагиате: «Без моего „Есть рифмы в мире сем“ ты бы этих стихов никогда не написал… Плагиат, Борис, если не плагиат образа, смысла и сути. <…> Ты мой единственный единоличный образ (срифмованность тебя и меня) обращаешь в ходячую монету, обращая его к другой» (ЦП, 543, 544).
Цветаева вспоминает первое стихотворение из цикла «Двое». Цикл был написан в конце июня – начале июля 1924 (а не 1925) года, сразу после получения одного из самых страстных писем Пастернака: «Марина, золотой мой друг, изумительное, сверхъестественно родное предназначенье, утренняя дымящаяся моя душа, Марина, моя мученица, моя жалость, Марина» (ЦП, 93) … В черновике имеется посвящение: «Моему брату в пятом времени года, шестом чувстве и четвертом измерении – Борису Пастернаку»6161
Цит. по кн.: Цветаева М. И. Стихотворения, поэмы. – М.: Правда, 1991. – С. 655.
[Закрыть]. Однако нет никаких данных о том, что Пастернак читал эти стихи раньше 1928 года – времени выхода сборника «После России». Между тем, метафора «духовная связь – рифма» впервые появилась в его творчестве за два с лишним года до получения книги, в апреле 1926 года в набросках стихотворения «Памяти Ларисы Рейснер», которые тут же были отосланы Цветаевой (ЦП, 176—177). Тогда этот оборот тоже вызвал негодование, но ни о каком плагиате речь не шла. (Марина Ивановна почему-то даже не отметила сходство со своим стихотворением.)
Впрочем, на этом перечень претензий не закончился. Цветаева отметила отсутствие в книге «своего» акростиха и посвящения на поэме «Высокая болезнь». Но «Высокая болезнь» никогда не была посвящена ей, а акростих исчез из поэмы «Лейтенант Шмидт» еще в сборнике «Девятьсот пятый год» 1927 года, который у Марины Ивановны был. Возмутили ее и стихи 1931 года, адресованные Евгении Владимировне.
«Какие жестокие стихи Жене „заведи разговор по-альпийски“6262
Имеется в виду стихотворение «Не волнуйся, не плачь, не труди…»
[Закрыть], это мне, до зубов вооруженному, можно так говорить, а не брошенной женщине, у которой ничего нет, кроме слез. Изуверски-мужские стихи. <…> …Я́ в этих стихах действительно – впервые – увидела тебя „по-другому“» (ЦП, 545).
Замечание справедливое, хотя уж кто-кто, а Цветаева при желании и по письмам давно могла заметить силу пастернаковского эгоцентризма, его искреннюю убежденность в том, что если решение проблемы подходит для него лично, то оно идеально и для других. В письмах весны и лета 1926 года эта особенность уже проявлялась в полную мощь.
Временами кажется, что Марина Ивановна буквально нарывается на разрыв. Однако, покончив с критикой, она как ни в чем не бывало рассказывает о жизни: о своих занятиях «прозой», о детях (подробно, с гордостью – о своенравном, «страстном» Муре) и о самом больном – надвигающемся возвращении в Россию. «С. целиком живет – чем знаешь, – пишет она, имея в виду просоветскую деятельность мужа, — и мне предстоит беда, пока что прячу голову под крыло быта, намеренно отвожу глаза от неминуемого, ибо я – нет, и главное – из-за Мура» (ЦП, 546). Страшное признание: каким же сильным должен быть ужас, если Цветаева начинает прятаться от него – в ненавистный быт! А в конце письма невольно «спотыкаешься» еще об одну красноречивую фразу: «Я, Борис, сильно поседела, чем очень смущаю моих (на 20 лет старших) „современниц“, сплошь – черных, рыжих, русых, без ни одной седой ниточки» (ЦП, 546). Как выдает это вроде бы мимолетное, такое женское признание боязнь лишиться еще одной опоры в этой жизни…
Сведение счетов не помешало Цветаевой еще раз оценить масштаб пастернаковской поэзии. В июне 1933 года она написала статью «Поэты с историей и поэты без истории», одним из толчком к появлению которой, скорее всего, стали «Стихотворения» Пастернака. Сам он оказался одним из главных «героев» повествования, воплощением «поэта без истории», «чистого лирика» и одновременно – идеальным олицетворением природы в мире людей. «О чем бы ни говорил Пастернак – о своем личном, притом сугубо человеческом, о женщине, о здании, о происшествии – это всегда – природа, возвращение вещей в ее лоно»6363
Цветаева М. И. Об искусстве. – С. 120.
[Закрыть]. Подметив (уже не в первый раз!) органичность, естественность воплощения природы в стихах друга, Марина Ивановна заявляет, что именно это является главным и неизменным свойством его творчества (отсюда и «поэт без истории»). Увлеченная своей теорией, она не то что не заметила, а, скорее, не придала значения переменам, происшедшим в творчестве Пастернака во второй половине двадцатых – начале тридцатых годов.
Между тем, ответа на письмо она, судя по всему, не получила. В начале 1934 года Пастернаку снова приходит какая-то весточка от Цветаевой, которую он напыщенно называет «страшно большой радостью» (ЦП, 547). На этот раз он откликается быстро, посылая друг за другом две открытки. «Закрытые письма заводят страшно далеко. Пишу и конца не вижу» (ЦП, 547) – так объясняет он в начале первой открытки избранную форму общения. То же, но другими словами, разъясняется и в начале второй, написанной буквально на следующий день, 13 февраля:
«Я начал тебе два письма, и они разрастаются в трактаты. Их не будет, п.ч. это та мера многословья, которая равносильна взаимному мучительству, – оправдывает Борис Леонидович свое решение и просит: – Пиши и ты мне открытки, чтобы не было неравенства» (ЦП, 548).
Однако такое «равенство» не устраивало Марину Ивановну. «Я совсем не согласен с твоим предложеньем не считаться письмами» (ЦП, 548), – упорствует он в третьей открытке, от 16 марта, однако не объясняет, почему. Причина этого упорства была ясно выражена лишь в октябрьском письме: «…Надо переписываться, хотя бы по два, по три раза в год, – утверждает Пастернак. – Чаще я не умею, а неотвеченными письмами твоими болею» (ЦП, 549). Очевидно, поэт хотел освободиться от чувства собственной ограниченности, неспособности оправдать надежды подруги, которое возникало при получении неизменно ярких и захватывающих писем Цветаевой.
Что же касается содержания февральских и мартовской открыток, то в целом они лишь скупо информируют о внешних событиях жизни. Пастернак сообщает подруге о противоречивости перемен: «жизнь моя хотя и облегчилась душевно и я не знаю нужды, но до совершенной непосильности расширился круг забот, непосредственно на мне лежащих. Близких людей и судеб стало так много, что просто не знаю, как будет дальше» (ЦП, 547). Действительно, с начала 30-х годов он содержит две семьи (первую и вторую) и, кроме того, активно помогает родственникам и друзьям. Во всех открытках упоминается о болезнях близких, а в третьей – еще и о внезапной жилищной проблеме: прямо под домом на Волхонке, где жили Пастернаки, прошла первая линия московского метро. «Меня удивляет, что эта развалина, всегда вздрагивавшая от пробега трамвайных вагонов, еще не расселась и не рухнула, – отмечает Борис Леонидович и уже всерьез продолжает: – Очевидно, надо переезжать, но пока некуда» (ЦП, 549). «Квартирный вопрос» решался долго и мучительно. Только через полтора года, осенью 1935-го, поэт получил право на получение кооперативной квартиры в писательском доме в Лаврушинском переулке. Дом обещали сдать в середине следующего года, однако отпраздновать новоселье семья смогла только в декабре 1937-го. Правда, летом 1936 года Пастернаку выделили дачу в подмосковном Переделкино, и следующую зиму он прожил там.
О своих творческих делах Борис Леонидович пишет весьма скупо. В первой открытке он упоминает о неудаче с «прозой», о новых грузинских друзьях и о своей работе над переводами грузинской поэзии. Основная тема второй – похороны Андрея Белого, прошедшие в Москве в середине января. Впрочем, говоря о них, Пастернак, как член похоронной комиссии, вспоминает только организационные моменты и иронично сообщает, что «все это переживал с кровной деловитостью старух в семьях, где покойник (кто был, кого не было, сколько было цветов и пр., и пр.)» (ЦП, 548).
Большинство этих тем, но гораздо подробнее, Пастернак затронул и в октябрьском письме 1934 года. Характерно его начало:
«Дорогая Марина! Первого октября я приехал в город. Мне грустно и хочется написать тебе. <…> Ах, если бы мы жили в одном городе! До чего мы были бы друг другу в помощь!» (ЦП, 549).
Отдохнувший после летнего марафона по подготовке и проведению 1-го Съезда советских писателей, но разочарованный его итогами, поэт снова почувствовал потребность в Цветаевой.
Главная тема этого письма – резкое расхождение между нормами поведения советской творческой элиты и его собственными представлениями о приличиях.
«Тут выработался стиль, необходимый для преуспеванья, – рассказывает Борис Леонидович, — немой язык удачи, при пользованьи им ее обеспечивающий, при отказе от него мстящий за отказ. Вот некоторые его признаки. Нельзя ограничиваться нужным, надо просить вдвое: тогда дают вчетверо. Надо любить радио, патефоны, пишущие машинки, американские шкапы, эстрадные выступленья. <…> Для полученья квартиры надо только бросить работу (заработок от этого бы вырос) и купить новый костюм (заработок от этого поднялся бы еще выше)» (ЦП, 550, 551).
Пастернак называет такой стиль жизни «американизмом» и сознательно от него отмежевывается.
В то же время, в советском строе, который утверждался на его глазах, поэт видел воплощение лучших чаяний интеллигенции начала века. Он пишет:
«А как его <время, – Е.З.> не любить, когда оно, пока ты жил, все против тебя росло, тебе в укор, и вдруг все из тебя выросло, из лучшего твоего, из ближайшего. Я ведь это не только в первом лице говорю, а к тебе обращаю: и из лучшего твоего, Марина, и из Сережина. <…> Нет, я человек страшно советский» (ЦП, 551, 552), – подытоживает Пастернак свои размышления.
Читать эти строки сегодня нам если не страшно, то странно. Но нельзя забывать, что они написаны до убийства Кирова и начала массовых репрессий лояльной интеллигенции. В стране была ликвидирована неграмотность, гигантскими темпами росла промышленность. (На чьих костях строились заводы, большинство еще не знало.) Более того: всего несколько месяцев назад хлопоты Ахматовой и Пастернака позволили, как он верил, смягчить участь Осипа Мандельштама, арестованного за антисталинские стихи «Мы живем, под собою не чуя страны…». (По этому поводу Сталин сам позвонил Пастернаку домой!) Словом, весомые поводы для оптимизма, при желании, найти было нетрудно.
Менее всего склонный к противоборству с властями, Борис Леонидович охотно верил в то, что укрепление страны неизбежно приведет к тому, что сегодня мы назвали бы «демократизацией общества». Он мечтает написать прозу, в которой «удастся записать хотя бы несколько слов нынешних: антипоэтических, повседневных, административно-советских и бытовых, – таких, которых до сих пор бумага не принимала. Мне хочется, чтобы она вдруг взяла их да и не как-нибудь, – а преданно и любовно» (ЦП, 551).
Легко представить, как отнеслась Марина Ивановна к признаниям друга. Ведь еще в 1932 году она со сдержанным отчаянием писала А. А. Тесковой о деятельности мужа: «Сергей Яковлевич совсем ушел в Советскую Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет»6464
Цветаева М. И. Собр. соч. – Т. 6. Письма. – С. 402.
[Закрыть]. На письмо Пастернака она, похоже, не ответила, хотя вскоре после его получения в письме той же Тесковой назвала Бориса Леонидовича одним из трех, кто «помогали жить». Но в это время ее саму постигла нежданная потеря: 21 ноября 1934 года под поездом парижского метро при невыясненных обстоятельствах погиб Николай Гронский. Они давно не встречались, однако перед лицом смерти Цветаева отбрасывает все обиды. Снова – в который раз! – она создает реквием ушедшему другу: пишет статью «Поэт-альпинист» и цикл стихотворений «Надгробия»…
Но вернемся к письму Пастернака. В конце он с воодушевлением рассказывает подруге о грузинском поэте Важе Пшавеле и его поэме «Змееед», обещая вскоре прислать ее в своем переводе. Ирония судьбы: через 5 лет, вскоре после возвращения в СССР, тот же Пшавела вместе с множеством других иноязычных поэтов станет «кормильцем» Марины Ивановны, которая после ареста мужа и дочери вынуждена была зарабатывать переводами на жизнь себе и сыну…
Октябрьское письмо писалось долго, но и отправлялось не быстрее. В последний момент Борис Леонидович узнал, что у Цветаевой изменился адрес, и никак не мог его получить. Наконец адрес был найден, и в начале ноября письмо ушло во Францию. Одновременно Пастернак написал и отправил открытку, разъясняющую все перипетии. В ней на фоне житейской информации выделяется тревожная фраза: «Мне бы надо куда-нибудь на год, на два скрыться, а то тут ни жить, ни работать не дают» (ЦП, 553—554).
Похожие высказывания встречаются в это время и в других письмах. Хотелось работать над прозой, а власть упрямо пыталась превратить поэта в функционера от литературы. Отказаться Борис Леонидович не мог, так как искренне считал общественную работу своим гражданским долгом. В январе 1935 года он подготовил вечер памяти Андрея Белого, в феврале участвовал в творческих встречах с грузинскими поэтами, проходивших в Москве и Ленинграде. Вскоре после этого на фоне сильного переутомления у Пастернака появились признаки нервного расстройства. Одной из навязчивых идей становится страх потерять расположение жены. (Возможно, он был вызван тем, что в Ленинграде чета Пастернаков жила в той самой гостинице, в которую когда-то 15-летняя Зина Еремеева ходила на тайные свидания к возлюбленному.) Встревоженная Зинаида Николаевна начинает лечение, обращается к врачам. Всю весну поэт проводит то на даче, то в санатории, однако его состояние не улучшается.
Невстреча (лето – осень 1935)
Между тем, в июне 1935 года в Париже созывается антифашистский конгресс писателей. Советский Союз послал на форум представительную делегацию, но западные деятели культуры хотели видеть Пастернака, которого считали одним из крупнейших поэтов Европы. За день до открытия конгресса Илья Эренбург передает это требование в Москву, и, несмотря на протесты близких, больного Бориса Леонидовича срочно отправляют в Париж.
Из-за пересадки у него оказывается свободный день в Берлине. В это время родители гостили в Мюнхене и потому не увидели сына. Встретиться с братом приехала только Жозефина с мужем. Свидание было странным. По ее воспоминаниям, Бориса Леонидовича «то и дело… одолевали слезы. И только одно желание было у него: спать! Ясно было, что он – в состоянии острой депрессии»6565
Жозефина Пастернак. Воспоминания. // В кн.: Воспоминания о Борисе Пастернаке. – М., 1993. – С. 26.
[Закрыть]. Большую часть времени Пастернак проспал в родительской квартире. Когда же до отъезда остались считанные часы, по дороге на вокзал, он вдруг разговорился и рассказал, что задумал написать роман о юной девушке, соблазненной своим кузеном, гвардейским офицером. «Это мой долг перед Зиной», – подчеркнул он6666
Воспоминания о Борисе Пастернаке. – С. 27.
[Закрыть]. (Таково первое упоминание о сюжете «Доктора Живаго». )
В Париж Пастернак приехал за день до закрытия конгресса. Его появление в зале и выступление было встречено бурной овацией. Но о том, что конкретно он говорил, известно очень мало. Текста выступления не сохранилось – его первоначальный вариант, набросанный в поезде, просмотрев, уничтожил И. Г. Эренбург. По собственному признанию поэта, сделанному 10 лет спустя, он призывал писателей не объединяться. «Организация, – это смерть искусства – реконструировал Борис Леонидович собственные слова. – Важна только личная независимость»6767
Исайя Берлин. Встречи с русскими писателями 1945 и 1956. // В кн.: Воспоминания о Борисе Пастернаке. – С. 521.
[Закрыть]. Возможно, к середине 1935 года поэт действительно пришел к такому выводу, однако никто из писавших о конгрессе ни о чем подобном не упоминал. В сборнике, изданном по итогам конгресса, был приведен следующий фрагмент его выступления:
«Поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли; она всегда будет проще того, чтобы ее можно было обсуждать в собраниях; она навсегда останется органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи, и, таким образом, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет быть художником»6868
Пастернак Б. Л. Собр. соч. – Т. 4. – С. 632.
[Закрыть].
Эта фраза удивительно точно описывает сущность поэзии самого Пастернака, однако по ней невозможно судить о смысле его выступления. (Ее выбрали для публикации из стенограммы заседания Марина Цветаева и приехавший в составе советской делегации друг Пастернака поэт Николай Тихонов.)
Да, Цветаева тоже была на конгрессе. Их встреча с Пастернаком все-таки состоялась. Но разве о таком свидании они мечтали?..
Борис Леонидович, по собственному признанию, был «в состоянии полубезумья» (ПРС, 640). (Странная деталь: во время последней встречи с подругой в кафе он отлучился «за папиросами» (ЦП, 559) – и исчез.) Немногим лучше было настроение и у Марины Ивановны. 14 июня Муру удалили аппендицит. Как раз перед приездом Пастернака его выписали из госпиталя, и мать разрывалась между сыном и желанием увидеть друга. Удивительно ли, что она не заметила его болезни? Правда, ревниво отметила другое – страстную (как ей казалось) увлеченность собственной женой. Она читала ему свои стихи – а он советовался насчет того, какое платье выбрать для Зинаиды Николаевны… Впрочем, Пастернак не побоялся представить подругу членам советской делегации (отсюда – и ее сотрудничество с Тихоновым).
28 июня, не дожидаясь отъезда Пастернака и препоручив его мужу и дочери, Марина Ивановна уезжает с сыном на отдых к морю. (Билеты на особый – дешевый – поезд были взяты заранее.) А в это время в Париже стремительно крепла дружба поэта и 22-летней Ариадны Эфрон. (Эта дружба, словно переданная матерью по наследству, продлится четверть века, до смерти Бориса Леонидовича.) 4 июля покинет Париж и он. В обратный путь советская делегация отправилась в объезд Германии, морем через Лондон на Ленинград, и повидать родителей Пастернаку так и не удалось.

Марина Цветаева с дочерью (1925)
В начале июля Цветаева подробно описала другу свое впечатление от парижских событий, назвав их емким словом «невстреча». Оригинал письма не сохранился (исследователи предполагают, что Пастернак либо вообще не хранил письма Цветаевой, написанные после 1931 года, либо они пропали еще до войны). Однако его содержание казалось Марине Ивановне настолько важным, что позднее она переписала его из черновой тетради в тетрадь выписок.
Главное в нем – страстное развенчание собственного чувства.
«Дорогой Борис, я теперь поняла: поэту нужна красавица, т.е. без конца воспеваемое и никогда не сказуемое, ибо – пустота et se prête à toutes les formes6969
готова принять любую форму (фр.).
[Закрыть]. Такой же абсолют – в мире зрительном, как поэт – в мире незримом. Остальное все у него уже есть, – утверждала она и безжалостно „припечатывала“: – <…> И я дура была, что любила тебя столько лет напролом» (ЦП, 554).
Единственный аргумент в свое оправдание – чисто женская ограниченность возможностей: «Женщине – да еще малокрасивой, с печатью особости, как я, и не совсем уже молодой – унизительно любить красавца, это слишком похоже на шалости старых американок» (ЦП, 554), – безапелляционно заявляет она. И не поймешь, чего тут больше – болезненной самокритики или гордого сознания собственной избранности. (Интересно, думала ли она об этом 5 лет назад, в разгар дружбы с юным Гронским?)
Цветаева пытается быть великодушной. «Ты был очень добр ко мне в нашу последнюю встречу (невстречу), – отмечает она, – а я – очень глупа» (ЦП, 554). Но вся объективность исчезает, как только речь заходит об СССР. Судя по письму, Пастернак, уговаривая подругу вернуться, пытался увлечь ее идеей коллективизма. (Это свидетельство Цветаевой совершенно не вяжется с «личной независимостью», которую поэт якобы провозгласил на конгрессе.) Но именно подчинение воле масс (неважно – каких!) было для Марины Ивановны неприемлемо.
«Я защищала право человека на уединение – не в комнате, для писательской работы, а – в мире, и с этого места не сойду, – растолковывает она. – <…> Если массы вправе самоутверждаться – то почему же не вправе – единица?
<…> Мне стыдно защищать перед тобой право человека на одиночество, п.ч. все сто́ющие были одиноки, а я – самый меньший из них» (ЦП, 554, 555).
И – чрезвычайно важное признание: «Странная вещь: что ты меня не любишь – мне все равно, а вот – только вспомню твои Колхозы – и слезы. (И сейчас пла́чу.)» (ЦП, 555) Оно может значить только одно: если любовь к Пастернаку уже давно была для Цветаевой бесплотным призраком, то Пастернак-единомышленник, собрат по творчеству был ей по-прежнему дорог. И вот сбывается самое страшное, то, о чем она с ужасом думала летом 1926 года: даже не формально (партбилет), а внутренне, что еще страшнее, он переходит на сторону идейных противников…
Ответить на эти упреки Борис Леонидович смог лишь в начале октября, когда более-менее оправился от болезни. «Ты не можешь себе представить, ка́к тогда, и долго еще потом, мне было плохо» (ЦП, 556), — признается он в самом начале письма и подробно рассказывает подруге о симптомах и следствиях своего заболевания, в том числе – и о том, что не удалось повидать «своих стариков» (ЦП, 556). Он не скрывает осложнений в отношениях с родителями: «они моим неприездом потрясены и перестали мне писать» (ЦП, 557). Пастернак сдержанно хвалит прозу Цветаевой (при встрече она передала ему типографские оттиски), причем особенно выделяет «Искусство при свете совести» и автобиографический очерк «У Старого Пимена». И, словно по контрасту, с горячей благодарностью вспоминает о Сергее Яковлевиче и Але: «…серьезно, не они б, я просто бы в Париже рехнулся» (ЦП, 557).
Пастернака сильно задело стремление подруги пересмотреть их отношения, и особенно ее «фраза про абсолюты» (ЦП, 557), то есть мысль о том, что духовная близость поэту не нужна.
«Но, допусти, – а вдруг я оправлюсь, и все вернется, – рассуждает он. – И мне опять захочется глядеть вперед и кого же я там, по силе и подлинности того, например, что было в Рильке, вместо тебя увижу? Причем тут твои абсолюты? Позволительная ли это романтика? —» (ЦП, 557)
Полубольной Пастернак пытается не обращать внимания на цветаевское разочарование, он хочет думать, что подруга просто в очередной раз ударилась в крайности. Ведь для него самого ничего не изменилось, Цветаева и после встречи осталась той, кем была всегда, – талантливым, ярким, предельно искренним поэтом. И все же в последней фразе письма Борис Леонидович задает мучающий его вопрос: «Скажи, а не навязываюсь ли я тебе, – после твоего летнего письма?» (ЦП, 557). Задает в той нарочито резкой форме, которая буквально просит опровержения…
Марина Ивановна отвечает сразу, «бросив все… Иначе начну думать, а это заводит далеко», – уточняет она (ЦП, 558). Возможно, именно быстротой отклика объясняется чудовищная резкость ее письма – ведь она снова получила не то, чего ждала. (Чего ждала? Если не уверений в любви, то, по крайней мере, внимания и поддержки.) Последнего вопроса Пастернака она словно не заметила, зато сразу определяет основное свойство его характера – сосредоточенность на себе.
«Тебя нельзя судить как человека, – безапелляционно заявляет она, – ибо тогда ты – преступник. Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери, на поезде – мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймет – не жди. <…> Я, в этом, обратное тебе: – продолжает она, — я на себе поезд повезу, чтобы повидаться (хотя м.б. так же этого боюсь и так же мало радуюсь)» (ЦП, 558).
Перед нами вновь – не реальная Марина Ивановна, а некий образ идеальной дочери. Эгоизму друга (во многом мнимому) она решительно противопоставляет свою жертвенность. (Цветаева догадывалась, сколь тягостными бывают ее жертвы для близких, но не позволяла себе думать об этом.) Между тем, в неумении учитывать интересы и возможности других людей она была едва ли не большим эгоцентриком, чем Пастернак. Вспомним хотя бы, как ловко, прячась за действительные трудности, она ускользнула от встречи с Рильке, на которую сама же напросилась.
Впрочем, буквально в следующих строках этого странного письма заодно с Пастернаком достается и Рильке с Прустом. (Чуть ниже к этой звездной компании Марина Ивановна присоединит еще одного своего любимца – Гёте). Чувствуя, что ее слова звучат слишком жестоко, она решительно оправдывает себя:
«Моя мнимая жестокость была только – форма, контур сути, необходимая граница самозащиты – от вашей мягкости, Рильке, Марсель Пруст и Б. Пастернак. Ибо вы в последнюю минуту – отводили руку и оставляли меня, давно выбывшую из семьи людей, один на один с моей человечностью. Между вами, нечеловеками, я была только человек. Я знаю, что ваш род – выше, и мой черед, Борис, руку на сердце, сказать: О, не вы! Это я – пролетарий» (ЦП, 558).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.