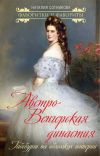Текст книги "Отравленные земли"

Автор книги: Екатерина Звонцова
Жанр: Триллеры, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
– Герр Рушкевич!
Снова движение, скрип, потом пронзительная тишина. Я стукнул по двери ещё раз, подумал, что со стороны это похоже на попытки безнадёжного пьяницы вломиться среди ночи в пивную, но это меня не остановило. Я опять ударил по доскам ногой. Наконец, заколебавшись или испугавшись, священник ответил мне:
– Доктор! Я не могу сейчас вас впустить. Простите. Я занят!..
Голос был глухой, а ответ, оборванный хриплым кашлем, ненадолго сбил меня с толку: как поступить? Что, если «занят» – это «убиваю кого-то» или «умираю»? И вместо того чтобы подчиниться правилам этикета и уйти, я забарабанил в дверь снова.
– Позвольте мне помочь! Вы больны?
После промедления прозвучало «да», за ним – спешное «нет». Я ударил в дверь опять.
– Уходите, герр ван Свитен!
Но я стучал, и стучал, и стучал, понимая, что ещё чуть-чуть – и кто-то либо выйдет из соседних домов, либо бросит в меня горшком, либо старенькая дверь слетит с петель. Впрочем, ничего произойти не успело. Я скорее ощутил спиной, чем заметил, как уползла за облако луна, а потом послышались приближающиеся нетвёрдые шаги.
Щелчок – и дверь открылась, но на пороге никого не было; на меня дохнула густая, вязкая, безмолвная пустота. Я всмотрелся в очертания предметов обстановки, казавшихся неузнаваемыми и нереалистичными, чудовищно искажёнными и изломанными, точно остовы древних зверей. Наконец мой взгляд упёрся в спасительно тёплое пятнышко свечи у окна. Огонёк дрожал, вместе с неровным светом отдавая миру весь свой страх.
– Можете зайти, но лучше не нужно, – прозвучало откуда-то из угла.
Я решительно шагнул в комнату, захлопнул дверь, лязгнул щеколдой. От неаккуратного движения в это же мгновение погасла и так-то чахлая свечка. В комнате, заполонённой не то мебелью, не то доисторическими скелетами, стало совсем темно.
Сердце моё теперь реагирует на темноту совсем не так, как всего-то неделю назад, и сразу зашлось неуёмным боем. Это было слышно в горле, слышно в висках, и… я точно знал, что слышу не только я, что тот, кто затаился поблизости, различает стук трепещущей жизни ещё явственнее. Красный стук.
Ко мне приближались медленными, осторожными шагами. Напрочь дезориентированный, я не мог определить, откуда идут. Половицы скрипели, казалось, со всех сторон сразу – тихонько, почти сонливо, но неумолимо. Ближе. Ближе.
– Герр Рушкевич? – позвал я.
Нарастающий скрип был ответом. Теперь я различал и дыхание – молодое, ровное, но с необъяснимыми сипами, как если бы его что-то затрудняло.
– Бесик…
Шаги ещё немного приблизились и замерли; опять повисло безмолвие. Откуда-то – видимо, из щели в окне – дуло; сквозняк шевелил волосы. Я глубоко вздохнул. Я никак не мог вернуть полного самообладания, но, поразительно, крохотная и глупая часть моего разума не переставала надеяться, что я делаю лишь оскорбительную глупость, над которой впоследствии посмеюсь, и священник посмеётся со мной. Пусть так, пусть даже он не посмеётся, а обидится… И вот, более-менее собравшись, я с расстановкой произнёс:
– Я всё о вас знаю, Бесик. И я хочу помочь.
Удар обрушился в мгновение, когда я начал разворачиваться, – и только поэтому пришёлся в плечо. Он был небывало сильным; уверен, что крепко сложенный Вудфолл не смог бы атаковать, как этот худощавый юноша, вдруг оказавшийся почти вплотную. А ещё на взметнувшейся бледной руке священника, кажется, были когти.
Всё это я осознал за секунду, отлетая к стене и ударяясь об неё затылком. Перед глазами поплыли рваные цветные круги, но я удержался в сознании, потому что, пропутешествовав довольно много и перевидав на своём веку уйму покалечившихся наездников, знал, как избегать наиболее критичных падений. Было больно, но я почти мгновенно выпрямился, подобрался. Я не достал кольев заранее; может, время полезть за ними пришло, но тут я наконец явственно рассмотрел знакомый силуэт и ужаснулся метаморфозе. Мои руки просто опустились.
Казалось, Бесик ещё больше похудел и вытянулся, но узкие плечи его, обычно гордо расправленные, сгорбились, а изящные запястья выглядели непропорциональными из-за когтей. Он не светился, как сожжённая девочка или двое у воды, но всё же я отчётливо различал его бледное лицо и белки лихорадочно блестящих, едва не горящих глаз. Он стоял на месте и тоже смотрел на меня. Узнавал ли?..
– Прочь! – глухо велел он. – Убирайтесь, я сказал! Пока можете!
Узнавал. И сопротивлялся. Дверь, повинуясь какой-то неосязаемой силе, затряслась, но не открылась: щеколда держала её крепко. Я сам отрезал себе все пути.
– Уходите! – всё так же, не двигаясь, потребовал священник. – Прошу!
Дыхание его становилось всё рванее; он трясся, как душевнобольной или, хуже, как бешеная собака, так сказал Вудфолл? Я потёр затылок – волосы слиплись от крови; она всё сочилась, натекала под ворот. Вытерев о плащ руку, я глянул на Бесика так твёрдо, как только мог. Труднее, чем смотреть в это застывшее несчастное лицо, труднее, чем терпеть недовольное нытьё в черепе, было одно – не обращать внимания на опасно заколовшее сердце. Собрался умереть вот так, ничего не сделав? Развалина… Облизнув губы, я произнёс:
– Я не уйду. Вы не останетесь с этим в одиночестве. Боже, да почему вы…
Издав страшное подобие воя, он снова кинулся вперёд, и хотя я был готов, это мало помогло. Холодная рука впилась в мою шею, сдавила её, и Бесик подался навстречу – теперь я видел острые, очень острые сахарно-белые клыки, с которых разве что не капала слюна. И… каким бы жутким ни было происходящее, я рад был не обнаружить на этих зубах, на губах, на руках Бесика алых следов.
Он зашипел, внимательно глядя уже не мне в глаза, а на моё горло. Сомневаюсь, что в ту минуту я для него существовал; остался только звук – ток крови, сходный с бегом ключа глубоко под землёй. Священник ощерился сильнее и навис надо мной. Казалось, больше он вовсе не принадлежит себе, но глаза… в глазах не было Бездны, как у Бвальса, лишь всё та же захлёбывающаяся, живая витражная синева. И она молила о помощи.
– Бесик, – хрипло позвал я снова. – Вы всё ещё здесь. Настоящий. Я знаю.
Мне не ответили, но левая рука Рушкевича, удерживавшая моё плечо, дрогнула и соскользнула. Она наткнулась на ворот рубашки, под которым прятался крест. Что-то сверкнуло белым, прожгло мрак, и прозвучал страшный вопль. Бесик отпрянул. Выпрямившись, я увидел, что он сжался у противоположной стены, на полу, и закрывает лицо ладонями. Священник не двигался; я мог бы подумать, что он без чувств, но его продолжало трясти. Пальцы, зарывшиеся в волосы, белели – так рожки лунного серпа пробиваются сквозь густые чёрные тучи. Эти тонкие, словно отмеченные некоей печатью благородства руки всегда приковывали мой взгляд, а уродливые когти показались вдруг не более чем проявлением какого-то пагубного недуга, с которым я должен, просто обязан справиться. Но чтобы справиться с болезнью, нужно хотя бы подойти к больному.
– Мой бедный друг…
Я двинулся навстречу. Вместе с болью в голове и уколами в груди я ощущал усиливающееся жжение креста. Шаг за шагом. Ближе. Вопреки всему. Я откуда-то знал: меня защищают, но не эта уверенность толкала меня вперёд; скорее наоборот: высшие силы, понимая, что, окровавленный и едва живой от горя и ужаса, я всё равно не отступлюсь, сдались и замерли у меня за плечами. Я не представлял, осознаёт ли их присутствие Бесик, но он вдруг сгорбился на полу сильнее.
– Не… не надо, я опасен…
– Нет. – Я замер над ним. – Не настолько.
– Настолько!.. – Слово было скорее стоном. – Если бы вы знали, если бы…
Я ещё раз назвал священника по имени, но он не откликнулся. Тогда я плавно присел рядом и отвёл его запястья от лица. Оно всё ещё напоминало маску, но выражало только неописуемое мучение, то, которое я уже видел.
– Простите… простите меня.
Он прохрипел это и покачнулся. Я поддержал его, обнял и притянул к себе. Я вдруг вспомнил, как в кладбищенской сторожке он поспешно вырвался от меня, и наконец понял, почему. Он боялся не прикосновений малознакомых людей, а явственного, слишком близкого стука моей крови; он осознавал, что может не сдержаться. Как говорил Вудфолл в нашу первую встречу? Старая кровь сродни креплёному вину…
Мне было жутко, но я не мог его отпустить. В памяти моей жила ночь, когда точно так же я не разжимал рук, удерживая в лихорадочном объятии сына. Ганс уже не дышал, и страшнее самого понимания непоправимой утраты было отвратительное осознание: мой ум – независимо от моей же пронзённой дюжиной ножей души – пытается отмечать, сколько же градусов с каждой минутой теряет остывающий труп. Видимо, так я спасался от сумасшествия. Теперь же я погружался в него глубже, различая то ли сипы, то ли всхлипы, но не пытаясь ни приглядываться, ни прислушиваться, – лишь легонько перебирая волосы у Бесика на затылке. Он, пусть искалеченный и изуродованный, был жив. И я почти проклинал себя за то, что этот простой факт примиряет меня с реальностью.
– Вы ненавидите меня? – раздалось у моей груди. Бесик не поднимал головы, говорил он так, точно окончательно сорвал горло.
– Нет, разумеется. – Я был вполне честен. – Но вам придётся объясниться…
– Вам лучше уехать, – прервал он.
– Этого не будет. – Я взял его за плечи, отстранил и заглянул наконец в лицо. Сухие глаза лихорадочно горели. Нет… вряд ли он плакал, поддавшись слабости, – скорее какая-то боль продолжала мучить его изнутри, мешая дышать. – Всё слишком запуталось.
– Сильнее, чем вы думаете. – Он вздохнул. – Молю, не берите на себя лишнего. Вы вообще не должны были подвергаться этому ужасу. Я молился за вас, я делал всё, чтобы не оступиться и не навредить вам, но я так жалок…
– Бесик, – оборвал я, стараясь изобразить хотя бы подобие улыбки. Мне не нравились его хрипы, не нравилось, как убыстряется речь. Если одержимость и жажда преследовали его приступами, то было не подгадать, сколько до следующего. – Это трогательно, и я это ценю, но мне сейчас не нужны от вас молитвы и сожаления. Мне нужна ваша логика. Ваш ясный ум. Пожалуйста… – Снова я провёл рукой по его волосам и помог подняться. – Постарайтесь сосредоточиться.
Его глаза расширились, и я едва не устыдился своей чёрствости. И вдруг он робко, но искренне, даже с восхищением, улыбнулся.
– Господи, вы во всём остаётесь собой. Даже в столкновениях с такими чудовищами, как я. Хорошо, я… я сделаю или расскажу всё, что вы велите.
Священник уже мог двигаться, и я довёл его до скамьи у стола. Признаюсь, мне по-прежнему жутко было находиться рядом и гадать, вцепятся ли в меня зубами, но я сел и, наконец выпустив Бесика, положил ладонь на его плечо.
– Вы не чудовище, перестаньте. Я… наконец начинаю что-то понимать.
Рука его дёрнулась, и я машинально отпрянул, но скрюченные когтистые пальцы потянулись не ко мне. Они схватили что-то со стола и судорожно стиснули. Это оказался нательный крестик, такой же, как Рушкевич повесил на меня. Стоило металлу соприкоснуться с кожей, как по комнате пошёл знакомый тошнотворный запах палёной плоти. Бесик всё сдавливал и сдавливал крест меж ладоней, и позже я увидел, как на этом месте пузырятся волдыри, свежие волдыри поверх старых ожогов. Тогда же я ощущал лишь смрад, которого не могло, просто не могло быть… как и многого здесь описанного.
Мной овладело дикое желание вырвать крест у Бесика, но он не позволил и попросил:
– Зажгите новую свечу. В шкафу ещё есть.
Вскоре комната осветилась золотом; предметы обрели узнаваемость, и я пристальнее рассмотрел Бесика. Да… его облик отличался от дневного. Белое лицо, необыкновенно яркие губы, глаза, сияющие ночной глубиной… Во всей фигуре, вроде бы хрупкой, читалась странная хищная статность. Священник, днём напоминавший ангела, теперь пугал, но помимо воли своей я вспоминал, глядя на него, и то, что наблюдал накануне у воды. В его обличье была непередаваемая мистическая красота; та, что, видимо, и должна влечь оба пола, как свет мотыльков. Влечь и губить.
– Это… всегда? – Всё, что я смог спросить, борясь с собственными мыслями. Рушкевич устало покачал головой.
– Около семи ночей в месяц. В остальные незаметно, я даже не снимаю креста, хотя всё равно стараюсь не выходить. Если есть возможность, оставляю всё на семинаристов и сбегаю в леса или пещеры. Нужно было сделать так и на этот раз…
Меловая или даже снежная белизна кожи Бесика вызывала ужас, но я переборол себя и вновь опустил руку ему на плечо.
– Вы совладали с собой. Это удивительно. Жаль, вчера не сумели…
Он взглянул на меня с недоумённым страхом, и я торопливо пояснил:
– Я видел вас в окно. В крови.
Он потупил голову.
– Ах, это… Я расскажу. Я готов рассказать всё, а позже вы можете наконец меня убить. Пусть лучше вы. Ведь ваш англичанин тоже обо всём догадывается.
Да. Очередные пассажи Вудфолла, звучавшие для меня полной чушью, оказались реальностью, но… лишь на какую-то часть, другая по-прежнему скрывалась в потёмках. Мои пальцы непроизвольно сжались.
– Не думайте ни об англичанине, ни о чём-либо другом. Я повторю ещё не раз, герр Рушкевич: я хочу помочь, но для этого должен узнать больше.
Губы Бесика приоткрылись. Клыкастая усмешка была скорбной и незнакомой, а насколько жуткой – не передать. Я терпеливо ожидал. И он решился.
– Тогда слушайте.
Рассказ я записываю по памяти, не сокращая и не искажая. Когда-нибудь, может, я перестану верить в него и назову себя изощрённым мастером готических сказок. Сейчас же каждое слово отпечаталось в рассудке; детали головоломки, соединившись с подкинутыми Вудфоллом, наконец показали невероятный рисунок. Одну уродливую картину, за рамки которой пока не выбрался никто.
* * *
«Да, мой друг. Теперь, когда волею судьбы вы вовлечены в то, от чего вас так старались огородить, я вынужден открыть вам ещё одну тайну; тайну, причиняющую мне страдания на протяжении почти всей жизни. Вы поймёте, почему с наступлением темноты я оставляю часовню открытой, а свои двери запираю наглухо; почему нередко отворачиваю лицо. Следы на моих ладонях тоже перестанут вас удивлять; вы, пожалуй, сочтёте, что это меньшее, чем я поплатился. Знаете, доктор, нет человека, чьего осуждения я боюсь сейчас сильнее, чем вашего. Но вы стали мне очень важны, и я не смею молчать, особенно если правда что-то вам подскажет. Не знаю, можете ли вы спасти город, но уверен: я не могу.
Я начну издалека и скажу, что мифы об этих созданиях, о вампирах, очень древние, намного древнее печально известного правителя Валахии. В разных частях мира, даже в разных частях одних земель, они отличаются. Но почти все, у народов наших краёв и соседних, сходны в одном: страшные порождения ночи, обрывающие десятки жизней, не плодятся. Сердца их не бьются, кровь застыла, а значит, они не могут зачать или родить ребёнка. Если бы так и было, как просто оказалось бы их истребить… Но вампиры многолики. Сильнейшие из них – вовсе не мертвецы, а живые, получившие долгую, слишком долгую жизнь, практически бессмертие. Как? Их отравила кровавая земля, и это страшнейшее из возможных обращений, намного хуже простого укуса. Вы слышали о подобном? От англичанина? Что ж, тогда я добавлю немногое.
Знаете… есть территории, пребывание на которых дурно сказывается на определённых людях. До сих пор они не знают, почему именно их Господь обрёк на подобный недуг – периодическую жажду крови и, что хуже, – жестокости. Битв более чудовищных, чем требует война. Страшных казней и пыток. Это необъяснимая одержимость, которая прорывается и исчезает неожиданно, в моменты которой заостряются зубы, а тело и ум обретают удивительную силу. Это сложно скрыть. Это страшно, но это несёт невероятную удачу и опьяняющее ощущение собственного совершенства и превосходства: именно оно подменяет человечность. Это… кара за грехи предков, мистическая болезнь и искушение одновременно, доктор, и, если не обуздывать это день за днём, то со временем оно захватит полностью, уподобит тем, от кого я прячу в часовне горожан; уподобит той, кого сожгли на ваших глазах. Ночные твари. Это более низкая ступень в их… простите, придётся говорить «в нашей»… иерархии. На эту ступень легко упасть, на ней же оказываются обращённые, если с обратившими их не связывают кровное родство или сердечные узы. С неё редко поднимаются. Если бессмертные живые вампиры сродни князьям, то эти – воины и чернь.
Отравленным был мой отец, граф А. H., – я знаю его по рассказам, слышал, что это крайне незаурядная личность, до сих пор блистающая и на войне, и в политике. Вы наверняка знакомы с ним хотя бы поверхностно, и вы никогда ни в чём его не заподозрите: он не нуждается в крови постоянно, не боится солнца и делает всё, чтобы не вредить лишний раз человеческому роду. Во время какой-то из ранних кампаний он оказался в Валахии, в одном из мест, где сама земля, вода, воздух – всё пропитано давней смертью. Да, это были земли Цепеша, те, по которым прошли османы и где он кроваво мстил им. Некоторые считают его одним из этих созданий, может, справедливо, а может, нет, но так или иначе смерть знатно пировала в тех краях. Смерть ходила там и заглядывала в лица. Эти земли постепенно отравили моего отца, наверняка отравили и кого-то ещё из его сослуживцев. В Моравию он прибыл уже не совсем человеком – и тогда встретил и полюбил мою мать. Её трудно было не полюбить: в Каменной Горке она слыла первой красавицей.
Она ответила взаимностью, но едва отец, только-только учившийся бороться со своим недугом, открыл правду, всё рухнуло. Она не выдала его, но принять не смогла. Это было трудное расставание: отец ведь мечтал, как увезёт её в столицу, как даст богатую жизнь, не похожую на всё, что я знаю. Он готов был даже обратить её в себе подобную, он мог это сделать, но она отвергла и прогнала его. От горя он серьёзно заболел – представьте, тьма не защищает вас даже от такой, казалось бы, простой вещи, как нервное истощение и несчастье. Ему пришлось уехать, а мать уже ждала меня. Не хочу думать, желала ли она, пыталась ли оборвать бремя, понимала ли, что вынашивает. Она дала мне появиться на свет. Я казался нормальным, мать возблагодарила Господа и всеми силами скрывала от меня моё происхождение, мою суть. До семи лет ей это удавалось. Я рос обычным, был крещён. Я жил в неведении и любви.
Как всё открылось, я помню очень хорошо. Ясный вечер; мать попросила меня загнать в птичник гусей и кур, которые разбрелись по двору. Я взял хворостину и пошёл к ним; то была одна из привычных моих обязанностей. Всё казалось обычным: птицы кудахтали и гоготали, теряя перья; я смеялся над их неловкой хлопотливостью, но вот… в какую-то минуту что-то внутри меня сжалось, а потом вспыхнуло. Ум помутился. Я не осознал, как бросился за одной из птиц, за самым старым нашим гусём. Я не осознал и когда поймал его, и когда впился зубами в шею, и когда он забился. Меня привёл в чувство только окрик матери; тут же я поднял голову и провёл языком по своим зубам. Они были странно острыми. Солнце только что зашло.
Я благодарен матери за то, что она не стала щадить меня и ждать, пока я подрасту: к такому всё равно не подготовишься. Она объяснила всё, так доступно, как могла, и я понял. Она плакала, я тоже… мы молились. В ту же ночь впервые я ощутил тяжесть и жжение крестика. Мать предложила снять его, когда увидела на моей груди след-клеймо – тогда едва наметившийся; сейчас он столь же отчётлив, сколь ожоги на руках. Я не посмел; мне казалось, Бог – единственный, кто у меня остался. Но Он смилостивился, и мать не прогнала меня, как когда-то отца. В юности она хотела, чтобы чудовища были как можно дальше. Оказалось, одно живёт в её доме. И она не смогла меня предать.
С того дня многое поменялось. Более я не мог пересечь порога часовни; что-то отбрасывало меня раз за разом, хотя я не нападал на людей и обходился кровью животных. Даже эти убийства причиняли мне боль, а мужества свести счёты с жизнью недоставало, хотя это был бы самый простой путь. Но у меня была надежда… крест обжигал лишь в самые страшные ночи, перед полнолунием. Он остался, помимо молитв, единственной нитью, связующей меня с Господом. И эта нить не порвалась, даже когда в четырнадцать лет я всё же попробовал человеческую кровь – кровь лесного разбойника. Прежде, до того как герр Мишкольц навёл порядок, они часто заявлялись в город; грабили, насиловали и крали детей; мы очень их боялись. На такого я и налетел в чаще – точнее, он, решив, что я заблудился и у меня есть деньги, напал и поплатился. Его кровь напоминала гниль, но я с собой не совладал. Я убил его. Меня ещё не научили пить так, чтобы жертва не умирала, а лишь на время слабела. К счастью, я не способен обращать людей в себе подобных и не несу хотя бы этой опасности. Так что, молю, верьте: то, что творится ныне, не смог бы сделать я.
Время шло; я продолжал жить и отчаянно мечтал уехать. В Каменной Горке все у всех на виду; я устал страшиться слухов, расправы или наихудшего – что опять убью невинного. Наконец мы накопили денег, и мать отпустила меня учиться в Прагу. Я выбрал стезёй богословие, я хотел снова найти путь к Богу, а с ним исцеление. Но в свободные часы я изучал и курс медицинских наук. Моя тяга к ним была даже сильнее, а ещё, как я уже признавался, мне казалось, эти знания помогут понять, откуда пришла скверна. Жаль, я так и не обрёл неметафизической подсказки. Я по-прежнему верю, что недуг этот – искушение или наказание. Печать ошибок со времён Каина.
В Праге оказалось проще скрываться; я затерялся среди студентов, проводивших вечера над книгами. Я не пытался посещать службы, не имел близких знакомств. В ночи, когда недуг рвался наружу, я запирался. Именно тогда я сумел уменьшить зависимость от человеческой крови; приучил себя почаще обходиться, например, свиной. Увы, это вылилось в приступы невероятных болей, от которых я ничего не соображал и становился опаснее. Пришлось смириться: хотя бы раз в пару месяцев человеческая кровь мне необходима.
Тогда же в небольшом кругу моих приятелей появился юноша из одного знатного рода – имя вам не нужно. Венгр по происхождению, он был таким же, как я, но по причине более чудовищной: собственная мать обратила его, когда он лежал при смерти с поздней оспой. В отличие от меня, он не тяготился своей участью и ждал каждой луны; его опьяняли сила, сладострастная красота и кровь. Он считал вампиров высшими существами, сродни тёмным ангелам, и не скрывал этого. Боюсь, сейчас, по прошествии лет, он уже пал до ночной твари, хотя мне ничего не известно о его судьбе. Приятель снисходительно отнёсся к тому, что я рвусь в церковники, но не переубеждал – жалел, считая юродивым. Именно он открыл мне тайны, что вы вынуждены выслушивать; он же научил пить кровь, не лишая жизни: наиболее безопасный и простой способ добиться этого – укус не в шею, а в ту точку на запястье, где явственнее всего пульс. И этот же человек своей гордыней, цинизмом и склонностью очаровывать и развращать всех, кто тянулся к нему, зародил во мне желание бороться ещё отчаяннее. Так что я многим обязан ему.
Окончив обучение, я вернулся в Каменную Горку. Мой предшественник был стар, завершал непростой труд по адаптации латинских текстов. Он угасал. Я знал, что, если стану его помощником и произведу хорошее впечатление, он подаст прошение о преемничестве. В городках вроде нашего назначения происходят обычно так, ведь из цивилизованных мест сюда едут неохотно. Два семинариста, как сейчас, невиданная редкость.
Часовня всё ещё не пускала меня под своды. Раз за разом ночью я являлся к ней – и отступал. Поначалу я не мог даже подняться по ступеням: меня отбрасывало, а стены особенно страшно кровоточили, не то оплакивая меня, не то страдая от причиняемой одним моим присутствием боли. Но через полмесяца я преодолел первую, затем – вторую ступень. К осени я смог взяться за ручку двери; я думал, всё позади. Но тут же мою ладонь обожгло, и вскоре она вся покрылась волдырями; то же произошло со второй рукой. Я продолжал приходить каждую ночь. В конце концов надо мной вновь сжалились. Я попал на утреннюю службу впервые за много лет.
Всё то время, искупая зло, которое совершил и, возможно, ещё совершу, я немного практиковал как врач. Теперь же я решился поговорить со священником. Отец Кржевиц проявил невероятную доброту; его даже не удивило моё желание принять сан – как раз умерла моя бедная мать, и он решил, что я горюю и отягощён страхом смерти. Я стал помогать ему, потом сменил – и остаюсь на посту, несмотря на скверну, что владеет мной. Если бы хоть кто-то узнал… вампир-священник в Кровоточащей часовне. Я никогда не поверил бы.
Вы спросите, кто становится моими несчастными жертвами в часы, когда я не владею собой? Я отвечу то, что вас испугает и заставит усомниться в моём чистосердечии. Но почти каждый месяц – да, именно так! – меня спасала Ружа Полакин, бедная молодая женщина, которую первой увидели пьющей кровь. Мы были знакомы с детства; я любил её как старшую сестру, потом – как большее. Я бежал в Прагу не только от своих страхов, но и от этих чувств. Когда я вернулся, её уже отдали замуж, но близость наших душ не исчезла. У меня не было друга преданнее. У меня вообще не было больше друзей.
Ружа раскрыла мою тайну в страшную ночь. Снова скверна рвалась из меня, исказила мой облик, как сейчас, и я, истерзанный пустой борьбой, шёл по безлюдной улице. Я очень хотел умереть и понимал, что брошусь на первого, кого увижу, – или, достигнув окраины города, наконец сигану в реку. Но я не успел. У рынка я увидел мальчика примерно того возраста, в котором мне открылась правда. Он потерялся, был испуган и сам ринулся ко мне с мольбой о помощи. То, что в ту минуту во мне кипело, не поддавалось молитвам и доводам. Я схватил его за руки; я был одержим как никогда, но тут посмотрел в его глаза. Они… были, наверное, как мои собственные в миг первого убийства, убийства всего-то птицы. И я поборол себя. Почти все вампиры, даже полукровки, обладают способностью к гипнотизму, хотя у меня она действует лишь на детей и животных. Я усыпил мальчика и хорошенько к нему присмотрелся. Это был Карлуш, Ружин младший брат.
Путь был страшен. Я держал на руках это маленькое тело и чувствовал всем существом биение сердца. «На что похожа кровь детей?», – думало чудовище, и я содрогался. Наконец я постучал в Ружину дверь, и она сама отворила мне – Константин, её супруг, ещё не вернулся с охоты; видимо, заночевал в лесу. Я объяснил, что Карлуш заблудился, а я случайно нашёл его. Я держался в тени, прятал лицо за воротником. Ружа видела только мои глаза, но, наверное, и в них что-то горело, я ведь уже едва стоял от боли. Вы не представляете, на что похожа жажда чужой крови, доктор. Это не голод. Это сродни тому, что ваша собственная кровь обращается в смешанную с песком землю; вы весь – ком сухой бесплодной земли, а каждый шаг или вздох – удар кирки, раскалывающий вас надвое.
«Ты бледный, – сказала Ружа. – Зайди, погрейся, я напою тебя молоком». Я не хотел, я боялся не совладать с собой, но она затащила меня в комнату и наконец увидела отчётливо. Она не закричала. Она была очень храброй, моя Ружа.
Я сдался её мольбам. Я рассказал ей самое важное в своей истории, уверил, что обычно не опасен, и пообещал более никогда не тревожить… но неожиданно она подняла рукав и протянула мне запястье. Она сказала: «Я верю». Сказала: «Ты меня не обидишь». Сказала: «Это меньшее из возможных зол». И воля изменила мне.
Так повторялось каждый месяц. После моих укусов Ружа спала дольше обычного и чувствовала себя вялой. Я внимательно за ней наблюдал, но она не собиралась болеть или умирать. Напротив, после такого сна она небывало хорошела, в шутку сравнивая его с чудодейственными зельями и молодильными яблоками. А ещё она хранила мой секрет, и мне тоже стало чуть легче с ним жить. Но тревожное раскаяние мучило меня.
В последний раз, этой зимой, я решился избавить её от «кровавой повинности» и всячески избегал. Благо и она реже бывала на службах; их с Константином наняли для предпраздничной работы: его в конюшнях, а её – в кладовых ратуши. Всё шло хорошо, но в ночь полнолуния я задержался в церкви, и луна застала меня на ступенях. Свет принёс привычную боль; я упал на колени, думая о том, что не могу, больше так не могу… Здесь Ружа нашла меня и, как обычно, дала руку. Я с собой не справился, но потом попросил, нет, велел отступиться. Я не мог истязать её вечно, я уже ненавидел сам себя. «Сколько же ещё тебе бороться с тьмой?» – грустно спросила она. Так мы и расстались, а потом… спустя полтора дня она умерла. Поначалу я винил себя, но моего укуса на запястье не было видно, а вот на шее… на шее остались следы, мне не принадлежавшие, такие глубокие, что казались чёрными. Кровь из них, к слову, сочилась жидкая, тоже едва ли не чёрная; это удивило и доктора Капиевского; он наверняка об этом упоминал. Я вообще не понимаю, что это.
Уже мёртвая, Ружа появилась в городе и совершила несколько убийств. На моих глазах её тело обезглавили и сожгли, но она вернулась, возвращается снова и снова. Я не знаю, что произошло с ней, но клянусь, доктор, я причинял ей не то зло, которое смогло бы её погубить. По крайней мере… я верю в это. Если я ошибаюсь, мне незачем жить».
Бесик закончил, и мы какое-то время молчали. Он смотрел перед собой; крест уже был на его шее. Я чувствовал: металл не перестаёт жечь. Трудно сказать, чем диктовалось это эмпатическое ощущение; ещё недавно оно показалось бы мне чушью. Но сейчас я знал, что прав; что священнику, пришедшему отчасти в себя, всё равно больно. Не так ли средневековые монахи, укрепляя дух и усмиряя плоть, стегали себя плетьми? Мне было невероятно жаль Бесика, но я не решался на утешения, вряд ли он желал их. Так что в ответ на горячую грустную исповедь я лишь вкратце пересказал то, что слышал от Вудфолла. Бесик утомлённо, без удивления кивнул.
– Это почти повторяет слова моего приятеля; он в красках рассказывал о рассветах мертвецов; многие считают, один из самых великих случился незадолго до Ночной атаки[53]53
В результате «Ночной атаки» 17 июня 1462 года, во главе всего 7000 воинов, Дракула заставил отступить вторгнувшуюся в Валахию 100-тысячную османскую армию султана Мехмеда II. В войне он применял «тактику выжженной земли». Чтобы нагнать страха на турецких солдат, всех пленных по его приказу казнили сажанием на кол.
[Закрыть] Цепеша. Тогда жертв были тысячи. Но боже, если бы я знал, что делать, если бы…
– Мы поймём, – мягко успокоил его я. – Поверьте, когда где-то собирается хотя бы три светлых головы, которые знают достаточно о каком-то явлении, явление уже не останется безнаказанным. Может быть, вы слышали…
И не знаю, зачем, я процитировал ему народную потешку, довольно популярную в Англии и добравшуюся уже дальше. Глупые строчки о трёх мудрецах в одном тазу, родом откуда-то из Готэма[54]54
Английская потешка, впоследствии увековеченная в сборнике «Стишки Матушки Гусыни». Перевод автора.
Три мудреца уселись в тазИ вышли в море как-то раз.Не будь посудина с дырой,Подольше длился бы сказ мой.
[Закрыть]. Бесик засмеялся, и я засмеялся в ответ, но тут же веселье моё омрачилось: я кое-что вспомнил. Набравшись решимости, я произнёс:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.