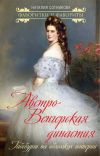Текст книги "Отравленные земли"

Автор книги: Екатерина Звонцова
Жанр: Триллеры, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
– Часто вы проделывали подобное?
– С десяток раз, – хрипло отозвался он после недолгой тишины. – Отравленные ведь всюду, хорошо маскируются, но часто не способны с собой совладать. Жаль их…
Я посмотрел на Бесика. Тот не поднимал глаз. Молитва звучала шёпотом.
– Но ведь он ещё борется.
Avvisatori нахмурился.
– Подобных, боюсь, всё-таки меньше, чем сорвавшихся. Исключение лишь подтверждает правило; жаль, я не скажу этого на латыни, как вы любите.
Что-то угнетало его; чем-то он не хотел делиться, но я всё же спросил, был ли это страх за свою жизнь или жалость к покойному командующему. Видимо, стоило промолчать: углы губ Вудфолла дрогнули в отталкивающей усмешке, и он с горечью уставился прямо мне в глаза. Заговорил он понизив голос и на английском.
– В какой-то мере я и вправду пекусь о себе, но не столько о жизни, сколько о памяти. В Южной Америке я так же пронзил колом, а затем распял маленького туземца, который спас меня от укуса змеи, следовал за мной два месяца в поисках затерянного города и которого я мнил уже почти сыном, мечтая отдать в Лондоне в школу. В землях же Святых, тех, что так жаждали крестоносцы, мне пришлось однажды убить прекраснейшую гадалку и оккультистку, о которой я так легкомысленно отозвался вам однажды. Вместе мы искали священную книгу в руинах монастыря, в той самой пустыне, где Иисус столкнулся с самим Дьяволом, – но в Иерусалим я вернулся один. И мальчик, и моя любимая подверглись действию сил, сходных со здешними, и сейчас, вспоминая это и многое другое, я заново сознаю, как дорого платят обычно мои спутники и как опрометчиво я втянул во всё вас. А ведь поначалу, когда я был молод, я… – Он прервал свою удивительно эмоциональную речь и отвернулся, кивнул на Бесика. – Если я и скажу это, то разве что ему. Он поймёт. А вам я не стану больше дурить голову. Простите.
– Вот как вы это зовёте, дурить голову?
Он усмехнулся знакомо, лихо и фальшиво. Надтреснутая броня снова окрепла, и, принимая такой выбор, я кивнул и крепко сжал его плечо. В ту дикую минуту я понял avvisatori чуть лучше, во всяком случае, ощутил некое подобие понимания, которое, впрочем, не стоило лишний раз выказывать. Вудфолл опять взъерошил свои волосы, мотнул головой и пробормотал, обращаясь скорее сам к себе:
– А впрочем, ему и без меня достаточно грехов. – Он возвысил голос. – Герр Рушкевич, довольно, поспешите! И возьмите собаку, она нам пригодится.
Но мы не сумели прихватить с собой Альберта: в короткие минуты, пока Бесик провожал душу командующего к небу, пёс умер. Голова его, массивная и тяжёлая, осталась покоиться у хозяина на окровавленной груди, совсем рядом с торчавшим оттуда колом. Испугал ли пса выстрел, последующее действо с пробиванием рёбер, или же звериное сердце, как нередко пишут об этом виде домашних друзей, действительно разорвалось от горя, мне неизвестно, и чем больше я вспоминаю ту картину – два мертвеца рядом, в холодной тишине подземелья, – тем меньше стараюсь гадать. Amor est dolor. Любовь – даже если это всего-то любовь верной собаки – вечное страдание.
Уже светало, когда мы покинули дом. Уходя из деревни, мы позакрывали двери и на всякий случай задали корма лошадям. Откровенно говоря, никто из нас представления не имел, что делать дальше, и, посоветовавшись, мы решили не раздумывать над этим самостоятельно. Вудфолл предложил поднять на ноги Фридриха Маркуса, что мы и попытались сделать, как только утро окончательно вступит в свои права.
Молодого главы Каменной Горки не оказалось ни в его доме в центре, ни в ратуше. Других мест для поиска мы не придумали; лакей предположил, что хозяин уехал форсировать разбор горного завала, по крайней мере, имелись такие планы. Я уже собрался оставить Маркусу записку, но Вудфолл неожиданно остановил меня, всё просчитав заново и решив, что такое стечение обстоятельств нам пока только на руку.
– Подумайте, – шепнул он мне, – а не заинтересует ли эту умную голову, откуда нам столько известно? Да и можем ли мы доказать, что весь гарнизон стал полчищем кровопийц? Мы не видели ни одного солдата ни живым, ни мёртвым. Выглядит всё так, будто мы просто пришли и убили командующего.
– А если недомолвки опять обернутся скверно? – возразил я. – Возможно, предупреди мы гарнизон насчёт обращения Бвальса…
– А под вечер он бы явился, живой и разве что потрёпанный? – Вудфолл мрачно посмотрел в светлое небо. – Доктор, мне тоже жаль солдат, но они всё равно бы с ним ушли, не вняв нашим предупреждениям. Слово чужака – ничто против слова товарища. А правда, особенно страшная, плохо переваривается без аргументов.
Слова отражали всю суть моей поездки в Каменную Горку: долго же я «переваривал» правду. Скорбно подумав об этом, я кивнул. Итак, в городе мы, судя по всему, остались без надёжных союзников, без кого-то, кто мог уполномочить нас на те или иные действия, а тем более что-то подсказать. Печать Габсбургов? Я уже не верил в её спасительную силу. А мой ум увяз в непрерывных потрясениях и, как мне казалось, здорово притупился.
Мы сговорились разойтись: Бесик – для утренней службы, мы – для недолгого сна. Встречу мы назначили после трёх часов в «Копыте». Ныне до этой встречи минут двадцать, и я жду её с нетерпением, мне неуютно одному. Вероятно, мы направимся на кладбище и ещё раз обыщем склепы. Если всё вправду произошло так, как внушают нам страшнейшие опасения, там не могли не появиться новые обитатели. И в таком количестве их не спрячешь.
Тяжело признаваться в подобном… но я снова думаю о том, сколь странно поступила со мной судьба, повергнув в обстоятельства, испытывающие на прочность всякий материализм, всякую добротно выстроенную картину мира и даже всякую веру. Я не из слепых фанатиков… не потому ли несчастный священник с клеймом-крестом на груди всё не даёт мне покоя? Мы ничего не знаем не то что о многих вещных составляющих нашего мира; мы ничего не знаем и о Том, Кому воздвигаем храмы и молимся. Иногда Он совершает страшные, необъяснимые, парадоксальные поступки, и, когда я пытаюсь решить, что скажу императрице – если вернусь, – в моей голове только зияющая пустота и маленькая лакуна, заполненная ужасом. Я сделаю всё, чтобы ужас не вышел за пределы лакуны, чего бы мне это ни стоило. Но, боже… Metus, dolor, mors ac formidines[58]58
Страх, боль, смерть и ужас.
[Закрыть] кишат вокруг подобно стервятникам. Скорее бы уехать.
12/13

Брно, «Злата Морава», 14 марта, три часа пополудни
Много же прошло со дня, когда я описал здесь гибель Брехта Вукасовича, в глубине души сомневаясь, что запись не последняя. Я почти прощался с жизнью, однако всё сложилось совсем не так, как я ожидал. Ныне ничто уже не мешает мне вернуться в Вену; можно даже сказать, вернуться триумфально, но я так этого и не сделал, сославшись на схватившую меня болезнь, а официальные хлопоты препоручив добравшимся до меня коллегам. Впрочем, сегодня я наконец отправляюсь в путь: слишком ласковыми и тревожными были последние письма из столицы. Медленно, но верно они возвращают меня к жизни. Хотя бы то немногое, что от меня осталось.
Nihil est difficilius, quam magnо dоlоrе pаriа vеrbа rеpеrirе[59]59
Ничего нет труднее, чем найти в большом горе подходящие слова.
[Закрыть]. Откровенно говоря, поначалу я малодушно собирался оставить произошедшее без освещения в каком-либо письменном виде, а может, вовсе испепелить последние десять записей дневника; вычеркнуть их, как наш изворотливый рассудок вычёркивает особенно тяжёлые воспоминания. Более того, один взгляд на истрёпанный переплёт до сих пор причиняет мне боль, и, может, правильным было бы просто написать, что «рассвет мёртвых» в конечном счёте так и не случился или даже, что всё мною ранее засвидетельствованное было засвидетельствовано в горячке, ведь все мы бываем безумны. Но я понимаю, каким кощунством и, главное, каким предательством это будет. Так что я набираюсь мужества и возвращаюсь в проклятый день 22 февраля.
Арнольд Вудфолл и Бесик Рушкевич постучали в мою дверь спустя минут десять после того, как я завершил предыдущую запись. Бесик не пробыл с нами долго, сказал, что встречи с ним настоятельно требует вернувшийся Маркус. Священник обещал при случае завуалированно намекнуть на произошедшее с солдатами, сославшись на отсутствие последних во время утренней и дневной служб. Я был категорически против, чтобы он брал это на себя; солидарный со мной Вудфолл уточнил: «Только при случае». Мы расстались, сговорившись снова встретиться вечером, в часовне.
Мы с avvisatori, наскоро перекусив, тоже покинули «Копыто», где было, как всегда, людно и, казалось, царило умиротворение. Сейчас я понимаю: оно было не более чем затишьем перед бурей, таким же, как на улице, где небо приобрело особенно красивый лазурный оттенок и где лишь изредка над головой проплывали тоненькие полоски облаков.
Вудфолл за время отдыха приободрился, но я ни о чём не спрашивал. Возможно, он успел перекинуться с Бесиком парой слов о своих грехах и облегчить душу, а возможно, выдумал какой-нибудь новый план кампании. В карете мы ехали, почти не разговаривая, думая каждый о своём. Avvisatori перебирал чёрную колоду, подолгу вглядываясь в лица дам и королей, а я смотрел в окно. Солнце начинало нещадно для февраля припекать, и такое тепло – безветренное, знойное, затхлое – не радовало, а наоборот, тревожило.
Мы быстро добрались до кладбища, где снова подолгу осматривали едва ли не каждый камень, спускались во все склепы. Вылезая на свет божий в очередной раз, я заметил, что скучающий могильщик, темноволосый детина лет двадцати, сидя у нагретой стены костёла с былинкой в зубах, следит за нами. Взгляд его не был злым, впрочем, и дружелюбным тоже; там читалось бесцветное любопытство, с каким он мог бы наблюдать за жуками.
– Он растрезвонит, что мы опять толклись здесь, – мрачно предсказал Вудфолл. – И тогда мы попляшем.
Мы добрели до сторожки и покрутились там, не обнаружив, впрочем, ничего, кроме хирургического ножа, забытого мной в прошлый раз. Когда мы вышли, могильщик грелся на солнце ближе, не на месте, где сидел раньше. Мы с Вудфоллом уставились на него уже вдвоём, в открытую, и avvisatori принялся засучивать рукава своей грязновато-бежевой рубашки. Малый лениво поднялся, а вскоре и ретировался, скрывшись за костёлом, сонно взиравшим на нас глазами упитанных скульптурных ангелов.
Мы пошли в противоположную сторону, продолжая пустые поиски. Стрижи беспокойно метались туда-сюда, тусклая прошлогодняя трава приминалась под ногами, густея и зеленея по мере продвижения вглубь кладбища. В конце концов мы оказались на самом его краю, на макушке холма, под которым плескалось озерцо. Казалось, с момента, как я видел его в прошлый раз, оно гуще заросло кувшинками; их сочные листья напоминали уже не кофейные блюдца, а самые настоящие сервировочные тарелки. Воду было видно лишь у дальнего берега, там, где умывались вампиры. Это казалось странным. Довод о тёплых ключах не выдерживал критики, учитывая, что озеро затеняли холм и кустарник, да к тому же оно пополнялось речной водой. Но делиться мыслью я не стал; мы с avvisatori сошли к берегу и какое-то время постояли, слушая сонный плеск, а потом вернулись наверх. Мы не перекинулись за это время и дюжиной фраз. Сейчас я сознаю, что оба мы находились в напряжённом оцепенении, предчувствовали… но ни один не ведал, что. Огибая костёл, я снова поискал могильщика. Он куда-то сгинул.
– Уродливое здание… – пробормотал Вудфолл, зыркнув на светлую башенку.
– Да, мне тоже ближе классицизм и готика. Барокко порой просто нелепо.
Этим наш угрюмый диалог ограничился. Увы – или к счастью – мы не подумали заглянуть в костёл. Впрочем, я спешу и, дабы не нарушать хронологию, ныне добавлю лишь, что Бог в выборе жилищ зачастую столь же странен, сколь в распоряжении судьбами. И ничего порой нет хуже и опаснее церкви, которую Он покинул.
С кладбища мы направились в Старую Деревню. Я сомневался, ехать ли туда, учитывая обстоятельства, но Вудфолл настоял. Ему хотелось проверить тело Вукасовича и напоить лошадей, которые наверняка уже рвались из стойл, если вовсе не разбежались. Avvisatori оказался недалёк от истины: лошадей мы не нашли, равно как не нашли ни ружей, ни формы, ни упряжи. Всё это, ещё вчера брошенное на своих местах, куда-то исчезло.
– Воры из города? – тихо спросил я. – Лесные разбойники?
Вудфолл сосредоточенно изучал землю под ногами. Один раз он уже опустился на четвереньки, но только досадливо цокнул языком: различить на высохшей почве какие-нибудь свежие следы оказалось трудно даже для этого опытного авантюриста. Не было ни навоза, ни предметов, которые хоть как-то указали бы направление движения солдат.
– Возможно, – наконец неопределённо ответил avvisatori и прибавил: – Надеюсь.
Единственным, что мы нашли на прежнем месте, было тело командующего; верный пёс лежал рядом. Вудфолл обошёл обоих по кругу, потрогал кол, принюхался. Выражение досады не сходило с его лица.
– Живой, точно… – наконец раздосадованно произнёс он.
– Что? – с недоверием переспросил я.
– Я изначально был прав. Если всё это не происки лесных бродяг, значит, замешан живой человек из города, а то и несколько. Ведь мы уходили на рассвете. Солдаты, если им не повезло, как Бвальсу, не смогли бы взять вещи сами. Да и зачем бы…
Мне в голову пришла – точнее, запоздало и робко вернулась – обнадёживающая, хоть и малорациональная мысль:
– А всё-таки что, если они просто обманули нас? Дезертировали, испугавшись происходящего? Сначала разведали путь, а потом вернулись, взяли лошадей и ушли через дальние перевалы, которые ведут не к Брно, а к границе региона?
Мы с Вудфоллом внимательно посмотрели друг на друга. Он не стал острить по поводу моей оптимистичной наивности и некомпетентности в следопытстве, а лишь слабо вздохнул.
– Это было бы лучшим раскладом. Но маловероятно.
Я понимал, что он прав: испуганные люди не уходят ночью, когда страх торжествует над всем и когда ночь и есть суть страха. Да и на что я надеялся, когда умирающий Вукасович упоминал Бвальса и женщину? То, что она действительно была здесь, выдавала и увядшая кувшинка на полу.
В понуром молчании мы вернулись в город. Было время службы. Казалось, темнеть начало слишком рано по сравнению с вечером накануне, но я не придал этому особого значения, списав на возможный скорый дождь.
Часовня выглядела особенно древней и высокой в лучах заходящего солнца, а стены её, к моему отвращению, были почти полностью багровыми. Кровь текла сегодня и по паперти, добиралась до верхней ступени лестницы; отдельные подтёки ползли ниже. По крови шли; казалось, горожане вовсе не замечают, чем пачкают обувь; босые ребятишки – и те ступали спокойно, пересмеиваясь и шушукаясь. Шуршали и шлёпали по крови длинные женские платья, роскошные и бедные; подолы промокали, окрашивались багрянцем, а уже на полу церкви оставляли полосы, напоминавшие следы огромных змей.
Я остановился на крыльце и опустил глаза. Мне стало вдруг интересно, куда же утекает большая часть этой полуинфернальной жидкости, если пространство вокруг часовни совершенно чистое. Я заметил между кладкой и плитами широкие щели. Ниже, под фундаментом, скорее всего, были когда-то катакомбы или просто склады. Так или иначе, я представил, как может выглядеть это промозглое обагрённое подземелье, но не испытал страха, а только…
Меня о чём-то резко спросили, но я едва услышал.
…Понимание. Да, я понимал, что лишь часовня удерживает город от того, чтобы он действительно не захлебнулся в крови. Удерживает или… в поисках ответа я по привычке возвёл очи горе. Верхнее башенное окно-розетка, как и прочие, было витражным; там сиял нежный венец из алых роз. Странно, подумалось мне: здешние витражи все хранят библейские сюжеты, а наверху кто-то поместил обычные цветы, горящие закатом в чьих-то бледных ладонях. Хотя о мистичности красной розы вряд ли говорят просто так.
Вопрос повторили, не на немецком, но я угадал что-то вроде «Вы проходите?», а Вудфолл подтвердил. Я кивнул старику, кинувшему на нас раздражённый взгляд из-под почти сросшихся бровей. Avvisatori потянул меня вперёд и, едва мы ступили под прохладные тёмные своды, тревожно спросил по-английски:
– Что с вами? О чём задумались?
– У меня есть догадка, где начался ваш рассвет. Это невозможно ни с теологической, ни с научной точки зрения, но всё же… – Я опять глянул под ноги. Цепочка детских следов, тянувшихся вперёд, была ослепительно красной. – Нет, подождём герра Рушкевича.
Вудфолл кивнул, ничего не уточняя. Мы встали в толпе, и я сразу поймал несколько взглядов – косых, опасливо-злых, тех, которых опасался в первые дни пребывания здесь и которых тогда не было. Как запоздало они появились…
Служба началась, но вёл её не Бесик, а Лукаш Ондраш, худой семинарист с сальными русыми кудрями. Гнусавый голос звучал слабее, монотоннее, не вознося усталую душу к ангелам, а действуя как пытка водой. Ондраш говорил, как и всегда здесь, не на немецком, однако по напряжённому тону, а также по узнанным словам и именам я вдруг осознал: проповедь юноша начинает с того, что упоминает Нечистого, слуг его и необходимость поостеречься, поберечь бессмертные души, всюду искать врагов Господа. Слова, полные слепой ненависти, усилили беспокойство, которое и так клубилось в моём сердце. Судя по лицу Вудфолла, понимавшего местный язык лучше, тревога настигла и его. Обоим нам хотелось уйти, но сомкнувшаяся толпа напоминала даже не густой лес, а терновые кущи из самых страшных кошмаров грешников: слишком много рук и глаз. Не стоило совершать демонстративных поступков, как и в принципе делать резких движений. Я лишь понадеялся, что, например, Барбара Дворжак не пришла: «невесте вампира» было бы здесь опасно.
Дальше служба пошла обыденно, но в этой обыденности звенела фальшь. Было ли дело в кровавых следах, острых взглядах или в том, что небо темнело с каждой минутой? Да, во всём этом, но, главное, – в отсутствии Бесика. Он не мог без причин оставить паству в такой тревожный день и не мог пренебречь назначенной нам встречей.
Когда все выходили – сегодня валом, к кафедре не пошёл почти никто, – я заметил Фридриха Маркуса. Молодой человек был в парике, одет совсем по-венски, подтянут, прям. На секунду я остолбенел: мне показалось, что он очень похож на Готфрида, похож неуловимо и необъяснимо, не чертами. Но наваждение исчезло, стоило моему собственному голосу приветливо прозвучать в заполненном гулким гомоном пространстве:
– Герр Маркус! Добрый вечер.
Помощник Мишкольца остановился и дождался нас. Глянув на Вудфолла, он сощурился, а тонкие ноздри дрогнули, точно уловив неприятный запах. Тем не менее тут же колючесть сменилась нейтральностью, а мне Маркус даже улыбнулся.
– Доктор, а я как раз думал о вас. Как ваши научные и инспекционные успехи?
– Собственно, как и вчера, когда мы имели беседу, – не преминул напомнить я. – Почти ничего не изменилось.
Я здорово кривил душой, и он будто это учуял; ноздри опять затрепетали. Впрочем, тут же губы сложились ещё в одну слабую, сочувственную улыбку.
– Жаль, я надеялся на подвижки. Хотя простора для открытий ещё достаточно.
Люди шли и шли мимо, многие посматривали на нас. Я сделал вдох и спросил:
– Не знаете, где герр Рушкевич? Он не собирался сегодня пропускать службу.
Тогда я не понял, почему ощутил при этих словах не просто новую волну тревоги, но беспросветный ужас, необоснованный в этих стенах. Ныне знаю: судьба пыталась смягчить удар, предупреждала, что в следующий раз я увижу священника в самых плачевных обстоятельствах… впрочем, всему свой час. Ожидаемо, мой ум всё ещё мне не верен, так хочет выдернуть поскорее все ядовитые иголки воспоминаний, но если бы это было возможно…
На мой вопрос Маркус только пожал плечами.
– Не знаю, герр ван Свитен. Может, его планы изменились? – Он досадливо оглянулся на семинариста. – Уверен, вы скоро увидитесь. Куда он отсюда денется?
– Такими темпами отсюда не денется никто и никуда, – пробормотал Вудфолл.
Маркус его услышал: бровь приподнялась, но комментариев не последовало. Вместо этого заместитель наместника, уверившись, что нам нечего ему сообщить, попрощался:
– Простите, дела не ждут. Слуги народа трудятся дольше народа.
– И не жалеют сил… – сказал avvisatori.
Его удостоили рассеянным кивком. Маркус пожал мне руку и пошёл прочь, но вдруг, вспомнив что-то, остановился и даже вернулся на несколько шагов.
– Доктор, кстати… то есть некстати, но всё же окажите честь.
– Да? – удивлённо отозвался я, всматриваясь в его до странности возбуждённое лицо. В глазах горел то ли энтузиазм, то ли лёгкий страх, то ли всё вместе; так или иначе, они перестали быть надменно-холодными. – Что с вами, нездоровится?
– О нет, благодарю. – Он сцепил пальцы, хрустнул ими, потом плавно заложил руки за спину. – Это у вас печальный вид, если честно. Могу я попробовать отвлечь вас от забот и настроить на более философский лад?
– Нам сейчас эта философия… – открыл было рот Вудфолл, но я его остановил.
Казалось, вопреки внешней уверенности Маркус, как и я, не в равновесии. Вероятно, Бесик сказал ему что-то не слишком аккуратно и взвинтил, а скорее всего, проницательный молодой политик просто не мог не заметить общегородской напряжённости. Возможно, в праздном разговоре со мной он найдёт успокоение, а чуть позже мы наконец сможем плодотворно всё обсудить на холодную, свежую голову? После того, конечно, как отыщется Бесик. Например, утром.
– Попробуйте, – согласился я добродушно. – Буду даже благодарен.
– Я работаю сейчас над сложным переводом Вийона, и у меня, кажется, получился вчера крайне удачный фрагмент. Послушаете?
Вудфолл заскрежетал зубами. Мне тоже такая трата времени не совсем нравилась, но, в конце концов, уйдёт минуты две. Тем более выбираемые Маркусом вещи обычно метки. Вдруг и мне станет чуть легче, прояснится разум? Поэзия бывает панацеей. Я кивнул.
Я Рок, и мне подвластны короли,
Герои, что смирили твердь земли.
Я лик свой отвернула – Троя пала;
Помпея, Ганнибала – всех не стало.
А помнишь ты великолепный Рим?
Так вспомни же и то, что стало с ним.
Был Цезарь; на него нашёлся Брут.
Ножи пронзили сердце – и текут
По мрамору кровавые потоки.
Я поражу семью и одиноких.
Сожгу, развею прахом, утоплю…
Так сдайся же – или пойдёшь ко дну.
Надежды на успокоение не оправдались: Маркус взял «Балладу судьбы», один из самых мрачных и символичных текстов французского висельника. И хотя перевод был великолепен, он дышал тайной угрозой, о чём я и сказал. Маркус буквально расцвёл:
– Я настолько воздействовал на вашу душу, о Цезарь? Польщён!
– Я никогда не мнил себя Цезарем, а вы зовёте меня так уже не впервые…
– Зато я всегда хотел быть Цезарем, – заявил Вудфолл с усмешкой и пару раз хлопнул в ладоши. – Aut Caesar, aut nihil![60]60
Или Цезарь, или ничто.
[Закрыть] А выходит у вас правда недурно.
– Да я обретаю поклонников, очаровательно… – Маркус не сводил с нас глаз. – Иронично складываются обстоятельства, раньше никого это не интересовало.
– Попробуйте почитать герру Рушкевичу; он очень образованный юноша, – рассеянно посоветовал я, всерьёз раненный услышанной от Вудфолла корявой латынью.
– И многогранный, насколько я понимаю… нужно бы присмотреться к нему.
– Думаю, да. – Я решил пока не упоминать о планах увезти Бесика в Вену как можно скорее: догадывался, что рвущуюся туда «породистую дворняжку» это скорее расстроит, чем обрадует. – И вообще, герр Маркус. – Язык опередил мысль. – Не сочтите за навязчивую старческую бестактность, но мне кажется, вам очень нужны друзья.
Я тут же устыдился: всё-таки вряд ли я имел на подобные заявления право. Мне ли не знать, что иным людям, погружённым, например, в заоблачные идеи и амбиции, друзья не только не нужны, но и помеха? Огонь сердец они подпитывают иначе, не видя потребности в чьём-то плече, разделённой по-братски бутылке вина и философско-лиричной беседе. Подобный выбор я никогда не осуждал и теперь удивился сам на себя. Возможно, душу мою размягчили все те незаурядные личности, что меня окружили; даже к Вудфоллу, сейчас едва ли не закатывающему глаза рядом, я проникался всё большей симпатией.
– Простите, – поспешил прибавить я, но на лице помощника наместника не было ни обиды, ни раздражения, ни насмешки. Я вообще не мог понять, что там читается; ближе всего это примыкало к любопытству.
– Вы продолжаете меня изумлять, – сказал он. – Но, наверное, вы в чём-то правы. Я не отказался бы от незаурядных друзей, жаль, здесь с ними негусто.
– Возможно, надо получше присмотреться? – развязно подмигнул avvisatori, и я поспешил сгладить эту фамильярность уточнением:
– Что значит «незаурядных»? В чём-то незауряден каждый человек.
– Правильно, – согласился Маркус и продемонстрировал нам свои перстни с тёмной яшмой, украшающие оба средних пальца. – Но самоцветы не стоит помещать в одну оправу со стеклом. Хотя не спорю, иные красивые стёклышки могут сойти и за алмазы.
При словах этих он стрельнул глазами в Вудфолла, уставшего изображать страдания и стоящего уже с невозмутимым видом. Я мысленно посмеялся: «Двадцать три, не больше, точно». В двадцать три не мнить себя самоцветом и не ошибаться порой в людях даже странно. Высокомерие – грех юности и старости; как же хорош период от третьего до шестого десятка, когда оно притихает, потерявшись в золотой середине жизненного опыта.
– Что ж, тогда удачи вам в ваших поисках… алмазов, – напутствовал я. Маркус, полирующий перстень отворотом камзола, отозвался с негромким смешком:
– О, верю, что однажды их будет в избытке. Благодарю!
Вудфолл легонько пихнул меня, и я поспешил всё же попрощаться с помощником наместника. Невзирая на шутливый финал беседы, сердце ныло. Интуиция продолжала тыкать меня в рёбра вилами, обойдя в своём рвении всех выдуманных человечеством чертей. Жаль, как и всякая тревожная особа, она нагнетала, но не давала подсказок.
– Мне он не нравится, этот поэт-чистюля, – прошипел Вудфолл брезгливо. – Я бы не повернулся к нему спиной.
Я уже не знал, нравится ли мне хоть кто-то в городе, и утомлённо отмахнулся. Голова гудела. Место в ней находилось только мыслям о нашем пропавшем друге.
Мы дошли до дома Бесика, некоторое время стучали в дверь – и снова я ловил взгляды прохожих, взгляды из окон, взгляды отовсюду: «Кто вы?», «Что вам?», «Убирайтесь!» Наконец avvisatori сдался и, сойдя с крыльца первым, покачал головой:
– Будем надеяться, что он найдёт нас сам, и облегчим задачу: идёмте-ка на постоялый двор. Туда, по крайней мере, первым делом залетают слухи.
Мы вернулись в «Копыто». К тому времени почти стемнело, но луна ещё не вышла. Я отказался ужинать, и Вудфолл, не желая скучать, громогласно принялся созывать тех, с кем вечерами привык выпивать и травить байки. На лестнице, обернувшись в последний раз, я отметил: вопреки обыкновению, откликаются неохотно, подсаживаются настороженно, а многие вовсе делают вид, что не слышат. Я заколебался, не остаться ли, но быстро передумал, решив, что avvisatori с его крепкими кулаками и подвешенным языком вряд ли даст себя в обиду. Мне же нужна была тишина, чтобы стряхнуть тревогу и подумать.
Когда я шёл по коридору жилого этажа, грянул гром, но, глянув в узенькое окошко, я не увидел дождя. Грохотало вдалеке, за чёрно-зелёной изломанной линией лесистых гор. Небо было сливово-сизым, а в самом-самом низу пока плясал багрянец. Это небо влипло в мою память, как многоножка в вязкую смолу; я вижу его до сих пор. Каждую ночь.
Дверь открылась без ключа, но я, решив, что комнату просто в моё отсутствие убирали, не насторожился, только чуть замедлил шаг. Впрочем, через мгновение я огорошенно замер, не веря глазам, заморгал, и в итоге у меня вырвалось всего одно слово:
– Вы?
В кресле подле стола, где я обычно писал, сидел Йохан Мишкольц. Даже без свечи я видел, что это именно он: узнавал и рыхлое лицо, и зелёный сюртук, и полноватые икры. Наместник, которого я занёс в списки сбежавших, а затем – в списки мёртвых, внезапно объявился, каким-то образом нашёл меня – и теперь с ходу, без приветствий, заявил:
– Едва узнал, что вы здесь – и пулей. Лично, так сказать, приветствовать правую, левую – или какую? – руку императрицы. Сбылось ведь моё предсказание: приехали, сами снизошли до нашей глуши!
Он произнёс это с нагло-любезной интонацией, скользкие шутки были привычны, а вот голос звучал сипловато. Я стоял на месте. Меня нетерпеливо подозвали:
– Ну же, доктор. Заходите, что вы как неродной? Это вроде бы я гость…
– Моё почтение, герр Мишкольц, – отмер я. – Сейчас, надо зажечь свечу…
Я старался говорить ровно и всё приглядывался к массивной фигуре, откинувшейся на спинку кресла. Что-то было не так, а вскоре я понял, что именно: Мишкольц промок насквозь, будто упал в речку или ещё что-нибудь в этом роде. Проходя к ящикам комода, я не преминул посочувствовать и поинтересоваться о причинах. Мне безмятежно ответили:
– За горами ливень. Скоро и здесь будет.
– За горами?..
Спиной я чувствовал: он смотрит на меня, неотрывно, и более всего мне хотелось обернуться, чтобы в этом удостовериться. Встреча казалась какой-то ирреальной и… неправильной, точно дилетантски написанная вставка в и без того посредственную постановку. Тем не менее стоило учесть фактор моих расшатанных нервов – прогрессирующую привычку дёргаться от каждого чиха из-за каждого куста. Только напоминание о ней помогло мне принять приветливый, естественный вид.
– За горами, – кивнул Мишкольц. Его «аканье» куда-то пропало.
– Так значит, перевал…
Мой вопрос угадали:
– Ребятки его почти разобрали. Вы ещё можете уехать.
Свеча выпала из моей руки обратно в ящик и раскололась надвое. Мишкольц сказал «ещё», а не «уже». Что он подразумевал? Я снова взял свечу, потянулся за огнивом и…
– Не зажигайте, доктор. Зачем она? Глаза что-то болят, устал.
Я стоял неподвижно. Меня начинало колотить, точно это я попал под дождь.
– Положите свечу, доктор, – настойчиво повторил наместник.
Пальцы опять разжались; я до конца не понял, по моей ли воле. Стараясь не надумывать и держась за единственную опору – свои полномочия, – я обернулся, пристально посмотрел на Мишкольца сверху вниз и спросил:
– Где вы были всё это время? Мы беспокоились.
Вязкая улыбочка пошла по грубому лицу, точно глупый ребёнок спросил, стоит ли Земля на китах или сразу на черепахе. Я расправил плечи и поджал губы, готовый высказать всё, что думаю о таких гримасах, но мне не пришлось.
– На водах, – мирно отозвался Мишкольц, зевая. – Срочно потребовалось подлечиться. Вы, доктора, разве не любите болтать, что нет ничего живительнее воды? Аquа vitае! Вы правы, правы. Хороша тут у нас водичка, вам бы попробовать… чудеса творит!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.