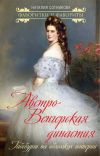Текст книги "Отравленные земли"

Автор книги: Екатерина Звонцова
Жанр: Триллеры, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
6/13

Каменная Горка, «Копыто», 16 февраля, семь часов пополудни
Как никогда тяжело приступать к записи; я едва вовсе не изменил себе и не отказался её делать. Причины неисчислимы и фатальны. Первыми среди них стоит назвать вещи, уже поблёкшие, – ночное потрясение и утреннюю попытку отринуть его, – и насыщенность длинного дня. Он не уступает вчерашнему: так же переворачивает всё вверх дном и оставляет больше тревожных вопросов, чем обнадёживающих ответов.
Факт сей наконец сподвигает меня прервать пространные рассуждения, у которых всё равно нет стержня, и начать отчёт о сегодняшних прискорбных событиях. Это тем более важно, поскольку, скорее всего, они возымеют крайне неприятные, если не сказать чудовищные последствия. Я не знаю, чего ждать, и готовлюсь к худшему. Мой бодрый настрой тает стремительнее свечи, и то и дело я тороплю время, мысленно подгоняя коллег. Как мне не хватает армейской въедливости герра Вабста и его блистательных знаний потомственного химика; как нужен мне профессор Гассер, в обширной практике последних лет изучивший анатомию, в том числе возможные аномалии её, не хуже, а в чём-то и доскональнее меня! Впрочем, довольно. Чего нет, того нет.
Итак, прошлое моё писание прервал стук в дверь; я поспешил открыть. Со мной поздоровались, и я немало удивился, увидев сразу двух посланцев. Первый – рыжеватый солдат из гарнизона Вукасовича – сообщил, что часовой, Анджей Рихтер, которого я застал вчера в плачевном положении, на рассвете, к сожалению, скончался. Командующий просил узнать, желаю ли я ещё раз осмотреть тело и если да, то нужно ли его куда-либо везти. Прекрасно понимая, что слухи наверняка уже плодятся и тележка с трупом наделает шума, я велел подержать его в холоде, пообещал самостоятельно прибыть в Старую Деревню, но отложил визит до второй половины дня – благо он выдался промозглее, чем вчерашний, значит, тело могло подождать. Погода, даже судя лишь по цвету неба и скорости бежавших по нему лохматых тяжёлых облаков, портилась. К слову, она продолжает портиться, точно отзываясь на наши сгущающиеся неприятности.
Обстоятельство, не давшее мне сразу сорваться в гарнизон, было тревожным и объяснялось в послании, принесённом вторым гонцом, щекастым мальчишкой лет десяти. Тот вручил мне записку от Капиевского, накиданную округлым, но неразборчивым почерком. Доктор просил меня срочно прибыть к нему, взяв все имеющиеся инструменты и медикаменты, и намекал на некие ночные происшествия. Писал он явно во взвинченном состоянии: налепил клякс, порвал край листа, а лихая подпись куда-то съехала.
Одно воспоминание об улочке, над которой переливалась птичья песня, и о встрече у частокола спонтанно пробудило панику, с которой я не смог совладать ночью; я, кажется, даже вспотел. Тем не менее я, разозлившись на себя за эту иррационально трусливую реакцию, отбросил её, дал мальчику согласие и отпустил. Затем я, уточнив ответ для Вукасовича, выпроводил солдата, а сам стал спешно собираться.
Практикой собственно медицинской я здесь заниматься особо не планировал и потому инвентаря почти не брал. Кроме обычного хирургического набора щипцов, игл, скальпелей, трубок и ложек, у меня было только три увеличительных стекла разной силы, немного раствора сулемы в склянках и её же в пилюлях, блок спрессованного угля и несколько разномастных бальзамов из Лондона. Мне не составило труда взять это с собой.
Впрочем, мне почти ничего не пригодилось.
Я сразу почувствовал… да, я, человек рациональный, открыто говорю, я именно почувствовал: что-то на окраинной улочке разительно поменялось за последние часы. Что-то сгустилось в её тяжёлом воздухе – неуловимое, но неприятное. К тому же похолодало; по пути я то и дело поднимал воротник, прятал в рукавах ладони и жалел о забытых перчатках. Даже нежное кружево изморози на траве не приковывало любующийся взгляд, а вселяло беспокойство. Мир замер, истончился и стал очень, очень хрупким, точно весь состоял теперь из костей старика. Разрушить его могло любое резкое движение.
Кое-что мне удалось подметить без всяких шестых или седьмых чувств: над улицей висела поразительная тишина. Да, сегодня в верхней точке дня там было тише, чем вчера поздним вечером. Я не различал ни голосов взрослых, ни смеха детей, ни рёва домашней скотины, ни скрипа колёс чьих-нибудь телег, ни даже стонов качающихся веток. Ветер спрятался вместе с живыми существами; спряталось, казалось, всё.
Половина дома, занимаемая доктором, встретила меня пустотой; на стук в дверь никто не ответил. Но когда я уже недоумённо и сердито заозирался, Капиевский показался на противоположном крыльце – там, где намедни сидела с глиняными кружками весёлая, уставшая за день семья. Я приветствовал его; он, бледный и осунувшийся, кивнул и крикнул:
– Наконец-то! Идите-ка сюда, друже!
Приблизившись, я укоренился во впечатлении: Капиевский выглядел неважно, хотя спиртным от него по-прежнему не разило. Но седеющие волосы были не расчёсаны, рубашка совсем помята, а глаза сильно покраснели. Доктор посторонился, давая мне подняться по ступеням, и с присвистом втянул через широкий нос немного холодного уличного воздуха. Видимо, облегчения это ему не принесло. Опухшие веки изнурённо дрогнули.
– Вы не спали? – участливо спросил я, поравнявшись с ним. – Что произошло?
– Вы просили… – он хмуро повернулся спиной, – звать вас на такое. Вот я и позвал. Идёмте поскорее.
Под нашими ногами простуженно заворчали отстающие половицы. Идя через дом, довольно добротно обставленный, я отметил, что все занавески задёрнуты или полузадёрнуты, а где-то закрыты ставни. В угловой комнатушке на полу сидели две девочки, которые пугливо посмотрели на меня и прижались друг к дружке. Капиевский повёл меня дальше, пока наконец мы не оказались в одном помещении со взрослыми хозяевами дома.
Комната была детской – об этом говорили и цветные покрывальца на трёх кроватях, и светлые занавески, и разбросанные, грубо сшитые игрушки. Среди них выделялась кукла – одна-единственная, с длинными светлыми волосами из льна, с фарфоровым личиком, в модном синем платье, привезённая если и не из столицы, то из какого-нибудь немаленького города. У моей младшей такая же, правда, черноволосая. Трудно сказать, почему именно кукла приковала мой взгляд в первую минуту; впрочем, я быстро о ней забыл.
Мужчина и женщина с простоватыми, но приятными лицами стояли над кроватью, где лежала девочка – сестра двух мною только что увиденных, очень на них похожая. Девочка была неестественно бледна; серые глаза её едва поблёскивали из-под опущенных ресниц. Ужасное подозрение осенило меня, и я, взяв Капиевского за рукав, посмотрел ему в лицо.
– Это ведь не…
Но он сразу разрушил мои надежды.
– На её шее были следы. Потом исчезли. И поверьте, я был трезв.
Он сказал это тихо, но родители девочки нервно обернулись. Их погасшие взгляды мазнули по мне и, как под действием некоего магнетизма, вернулись к дочери. Я подошёл и приветствовал их на немецком, потом на всякий случай ломано на местном, но они уверили меня, что перевод не требуется. Девочка глядела в потолок. Моего появления она не заметила. Я попросил раздвинуть занавески или принести свечу, и мне ожидаемо отказали: больная плохо реагировала на свет.
Пока я щупал ей лоб и руки, мерил пульс, приподнимал голову и изучал шею, мне вкратце рассказали, как прошла ночь в этом доме. Оказалось, сёстры маленькой Марии-Кристины, Ева и Анна, к полуночи проснулись от непонятного им самим страха, вполне, впрочем, естественного для детей в тёмное время суток. Они захотели поспать у матери, что и сделали, попросившись к ней в постель. Мария идти отказалась. Мать пролепетала:
– Она никогда ничего не боялась, даже молнии!
Как моя младшая, поздняя дочь. И даже зовут их почти одинаково.
Остаток ночи ничем необычным не ознаменовался, но утром третью сестру нашли такой, какая она лежала передо мной, – белой, изнеможённой, почти онемевшей. Она произносила только несколько слов: «окно», «облака», «земля» и «кукла» – то подряд, то по отдельности. Капиевский, как и я, не обнаружил при осмотре ничего, что говорило бы о лихорадке, отравлении, травме черепа или ином недуге, способном так быстро и пагубно повлиять на состояние сознания и тела. Оба мы прекрасно помнили, что вчера вечером все три девочки одинаково цвели здоровьем и казались очень оживлёнными. Теперь же передо мной предстал мотылёк, успевший побывать в страшных сетях паука.
– Окно…
Мать девочки всхлипнула. Всякий раз, едва звучало: «Окно…», женщина шла и приоткрывала его, впуская холодный воздух, или наоборот, закрывала. Механическое действие не несло смысла, не облегчало состояние больной, но, возможно, переросло в некий ритуал: «Пока я буду делать это, она не умрёт». Мать снова медленно, как во сне, пошла притворить раму. Отец и Капиевский говорили у выхода, обречённо косясь иногда в мою сторону. Я, содрогаясь от жалости, склонился над еле дышавшей девочкой и положил ей на лоб ладонь.
– Может быть, ты поговоришь со мной, маленькая принцесса? – Я понадеялся, что немецкий язык она знает. Родители наверняка учат ему детей в надежде, что однажды те заимеют лучшую жизнь. – Я хочу с тобой познакомиться. Ты меня помнишь?
Я сомневался, что меня слышат, но девочка вдруг шире открыла огромные глаза, такие же пустые, как у Анджея Рихтера. Я различил там ту самую Бездну, которой пугал меня Вудфолл, вот только трактовал я её совсем иначе: как тень притаившейся в изголовье Смерти. Я стиснул зубы, гадая, сколько ещё она будет просто стоять, смогу ли я помешать ей. Надежды были слабы, но, оглядев моё лицо, девочка внезапно заулыбалась.
– Помню, – прошелестела она. – Вы смешной друг нашего толстого доктора.
Капиевский не выглядел толстым, скорее могучим. Впрочем, он всё равно был занят разговором и не узнал об этой забавной несправедливой инсинуации. А ещё мы не были друзьями – и едва ли когда-нибудь подружимся. Но спорить я не стал.
– Мария-Кристина… – с усилием выговорила она своё имя и добавила подаренный мной титул: – Принцесса Мария-Кристина.
Как ни странно, я часто вызываю расположение у незнакомых детей; так было всегда, и я давно не ищу тому причин. Хотя в моей физиономии мало что может располагать, не нос же, напоминающий о хищных птицах? Так или иначе, я радовался тому, что она держится в сознании, вцепляется, как может, в мой голос. Я улыбнулся в ответ и горько прошептал:
– Что же с тобой стряслось, как тебе помочь…
На самом деле я обращался не совсем к ней, не надеясь ни на какие объяснения от столь маленького ребёнка, но она вдруг приподняла подрагивавшую руку и прижала к губам пальчик. Во взгляде впервые мелькнуло что-то действительно осознанное.
– Вы славный. Я открою вам тайну. Хотите?
Лоб был холодным, но бред порой начинается и так, без высокой температуры. И всё же я кивнул, чуть наклоняясь и старательно изображая заинтригованность.
– Очень интересно послушать…
Девочка прикрыла глаза и выпалила – быстро, по-моравски глотая окончания:
– Айни. Ко мне приходила Айни. Она позвала меня с собой. Она теперь тоже принцесса – только там, не среди нас. Красивая. Совсем как моя кукла.
Слишком много слов, слишком много сил. Мария-Кристина снова захрипела, зажмурилась, хватая ртом воздух; на ресницах у неё заблестели слёзы.
– Она там больше не несчастная. Но мне так страшно идти туда… я не захотела.
На миг она открыла глаза, и – я готов был поклясться – радужки залила тёмная насыщенная синева, близкая к черноте. Тут же наваждение пропало.
– Не бойся… ничего не случится. Тебя никто не заберёт.
Но я говорил, не зная, в чём её уверяю и имею ли на это право. Когда она совсем затихла, я отстранился и вымученно, презирая сам себя, сказал:
– Я вряд ли смогу сейчас помочь. Я не понимаю, что с ней. Наблюдайте состояние, держите меня в курсе, и… мне очень жаль.
Никто не ответил, но девочка вдруг снова подала голосок:
– Пусть ко мне зайдёт священник, потом, попозже. Я… люблю его.
Мать с мольбой посмотрела на меня; ноги её подкосились.
– Доктор, может быть, всё-таки… вы же из столицы… вы…
– Я слышал, втирания ртути помогают от всего! – встрял и отец. – У нас есть! Вы…
– Не от всего, – грустно возразил я. – Более того, они часто опасны. Ни в коем случае не делайте ничего подобного. Лучше дайте ей поспать, поите горячим, чтобы ушёл озноб, и пустите сестёр: пусть попробуют развеселить её. Иногда в простоте – сила.
Не подобрав ответа, мать заплакала. А я, стоящий истуканом, так и не смог произнести очевидное: возможно, сердце – ведь нет сердец зорче детских – подсказывает малышке, что она вряд ли уже попадёт хоть на один земной молебен. Погладив спутанные волосы умирающей принцессы и оставив немного укрепляющего бальзама – скорее родителям, чем ей, – я вышел на крыльцо и едва удержался от того, чтобы привалиться к деревянной опоре. В горле стоял ком. У меня не было врачебных неудач очень, очень давно. Эти две – с юным часовым, с малюткой – усугублялись тем, что я не смог и побороться за ускользающие жизни. Я лишь смотрел, притом даже не видя; мне будто завязали глаза, и давящую повязку бессилия я осязал на своей раскалывающейся голове. Она на мне и ныне.
Капиевский вскоре присоединился ко мне на улице и аккуратно притворил дверь, – провожать нас, разумеется, не вышли. Не говоря, мы прошли вдоль дома ко второй, докторской половине, и там я опять понуро остановился. Капиевский пристально посмотрел мне в глаза. Там не читалось упрёка, одна затравленная обречённость. «Вы ничего не можете, вы и ваша Вена, а впрочем, я не удивлён» – всё, что мне предназначалось.
– Я слышал, – пробормотал он, кашлянув, – что она вам нашептала.
– Про… – я мучительно разгонял туман в рассудке, – какую-то…
– Айни. Я называл вам это имя вчера. Дочурка швеи, умерла недели полторы назад, а болела так же. У нас, правда, поговаривают… – доктор понизил голос, – будто муж матери девочку поколачивал, да и не только поколачивал… – Поняв подтекст, я с ужасом скривился. – Так что странное было дитя, неприкаянное, диковатое. Знаете, она будто не против была умирать. Я говорю ей тогда: «Ты не бойся». Она смотрит и… «Не боюсь. Это вам будет страшно». Бесёнок был тот ещё… – Он тепло усмехнулся. – Жалко… Её жена моя, язва немецкая, так любила, и я любил… знаете, какая ей больше всего нравилась сказка? Там Огненный Змей лики мертвецов надевал и по домам их близких ходил. Все дети боялись, а Айни нравилось! – Его заплывшие глаза вдруг заблестели от слёз.
– Вы ещё говорили, раны на шее были? – стараясь не замечать этого, уточнил я.
– Да. – Теперь он сосредоточенно глядел вперёд, на частокол. – С ними хоронили.
Я опять вспомнил вчерашнее возвращение – бегом, по-заячьи! – в «Копыто». Даже в безветрие это вызвало озноб. Мои нервы, решил я, совсем сдали, и то ли ещё будет. Пора самому начать пить собственные бальзамы, иначе в Вену меня повезут, лишь чтобы подвергнуть соответствующему лечению. Как можно небрежнее я поинтересовался:
– А сегодня ночью вы ничего подозрительного не слышали? Или ещё кто-нибудь?
Капиевский тоже поёжился, растёр покрасневшие руки и мотнул головой:
– Ночью тут лучше не слушать, да и не смотреть. Я не верю в вампиров, а всё равно обычно хлебну крепкого и…
«Неверюневерюневерю». Это напоминало заклинание. Заклинание или самообман. Я невольно взвился и забыл о том, что обещал себе вчера, повысил голос:
– Вы говорите, что не верите, уже не первый раз!.. – Я запнулся и повёл носом. – Но ваше поведение выдаёт обратное, а проём вашей двери натёрт чесноком. Почему?
Ненадолго повисла тишина. Я досадливо топнул по хрусткой белёсой траве.
– Смеётесь надо мной? – беззлобно, ничуть не смутившись, а только устало вздохнув, спросил Капиевский. – Милости прошу. Сам иногда смеюсь.
Я ответил отрицательно. Мне перестало быть смешно, потому что улыбавшаяся мне с частокола, облизывавшаяся окровавленная девочка – то ли красавица, то ли чудовище, – была похожа на куклу. Ту самую, которая осталась лежать в детской комнате с задёрнутыми шторами. Принцесса. Там, не среди нас.
– Пожалуйста, постарайтесь решить вопрос вашей веры поскорее, вы можете мне пригодиться, – бросил я, уже собираясь уходить.
Выпад не достиг цели – я снова налетел на человека, готового мне противостоять. Капиевский, поднявшийся на крыльцо, расправил плечи, подкрутил правый ус и остро глянул на меня сверху вниз.
– А вы-то точно решили?.. Не пора ли задуматься, хотя бы ради детей?
Я мрачно промолчал.
– И знаете… мы как-то надеялись, что это вы нам пригодитесь. – Он, не отводя взгляда, положил массивную ладонь на дверную ручку. – Поучимся у вас, послушаем… Не хотелось мне верить, что рожа-то чиновничья везде одна.
В этот миг я окончательно определился с его национальностью: действительно малоросс, более того, так называемый kosak. Это их феноменальную гордость и вольнолюбие всё время отмечают солдаты и путешественники; они не признают ни царей, ни министров, и только делом можно завоевать их доверие и расположение. Я не нуждался ни в том, ни в другом и вправе был вовсе потребовать повиновения. Но, говорят, ещё одна казачья черта – умение метко бить по уязвимым местам. Я едва не отвёл глаза, хотя напрямую провинциальный доктор меня ни в чём не упрекнул.
– Я приложу все усилия. – Я прокашлялся. – Но для этого должен понять ситуацию. Пока я делаю единственно возможное: наблюдаю. Даже если я столкнусь с тем, что будет тяжело принять… – он ждал, и мне пришлось закончить, поражаясь, как естественно это даётся, – я буду бороться. И помогу. Знаю, звучит пока расплывчато и патетично, но…
Капиевский всё так же смотрел на меня вполоборота, но теперь слегка улыбался.
– Нет, звучит недурно. Добро, побуду заодно вашими глазами, ушами… а там решим. Я же вижу: вы не бездельник, просто в тупике. Я там же. Вместе проще.
– Как птицам нести дом, – тихо кивнул я. Мне чуть полегчало. – Спасибо.
Мы попрощались вполне тепло. Напоследок Капиевский попросил:
– Увидите случайно нашего священника – умолите поскорее выкроить минутку для этого дома. Я сейчас сам пошлю за ним, но кто знает, где он.
Я кивнул. Мысль о Бесике, мелькнув в омрачённом сознании, ничего там не рассеяла. Для Рушкевича беда с девочкой будет очередным доказательством… чего? Чего, если я не знаю даже, что написать императрице, чтобы не напугать её или не рассмешить? Я не ведал, как она отреагирует на набор фактов, которые я сейчас могу ей предоставить, и уже в который раз решил забыть пока о корреспонденции. На неё всё равно не имелось времени.
Всё столь же угрюмый, я покинул Капиевского, заглянул в «Копыто» за более специфичными инструментами вроде ретрактора[25]25
Ретрактор – хирургический инструмент, применяющийся для разведения краёв кожи, мышц, костных или других тканей с целью обеспечения необходимого доступа к оперируемому органу. Конструкция ретрактора состоит из управляющего механизма и нескольких раскрываемых на различную ширину и фиксируемых «лепестков».
[Закрыть] и вскоре, отыскав скучавшего извозчика, направился в гарнизон. Путь казался ещё унылее, чем накануне, зато судьба подкинула мне не такой скверный тарантас. У него, правда, потекла крыша, едва зарядил дождь, но здесь было теплее, чем в открытой телеге. В который раз я подумал о том, что Януша стоит почаще привлекать к деловым поездкам… правда, в места с более терпимыми дорогами, чем эта – грязная, раздолбанная и смертельная для наших колёс. Размышляя так, я смотрел в окно на пустоши, рощи, потом – на кладбище, у ворот которого мокли двое солдат.
Старая Деревня, как и дом Капиевского, встретила меня подавленной тишиной. Ржание пегой лошадки, запряжённой в тарантас, прозвучало буквально громом. Намедни Бесик успел, помимо приветствий, прощаний и благодарностей, научить меня некоторым простым фразам на местном наречии, так что я смог попросить извозчика подождать меня и отвезти обратно. Тот оживлённо кивнул и даже предложил, кажется, «посильную помощь»: видно, его очень радовали внезапный заработок и сам факт собственной нужности столичному чиновнику. Я отказался. Дружелюбный светловолосый увалень, руки которого могли удержать большущую дубину, но не скальпель, едва ли помог бы мне в предстоящем деле, да и за его нервы я опасался. Посмотрит, как я вскрываю грудную клетку мертвеца, – и к вечеру я прослыву в городе, например, пожирателем сердец.
Я спрыгнул на каменистую почву. С травы давно сошла утренняя изморозь; дождь продолжал противно моросить, и сначала я решил, что именно поэтому не вижу никого возле домов. Лишь в паре-тройке окон мелькнули хмурые нечёткие лица. Солдаты не выглядывали ни чтобы поздороваться, ни чтобы прогнать меня или выяснить, что мне нужно. Даже пёс не лаял. Не пропал ли он?.. Невольно я ускорил шаг.
Что-то подсказывало, что Вукасовича стоит поискать в самом опрятном из местных домов, а значит, нужно углубиться в деревню. Но уже скоро командующий – на этот раз действительно без красавца Альберта – сам вышел мне навстречу. Он выглядел куда лучше Капиевского, только в глазах я подметил нервный блеск. Причина была мне вполне ясна.
– Ну вот и вы! – Приветствие постарались сделать более-менее миролюбивым, но звучало оно всё равно натянуто. – Хорошо, что поторопились. Не радует меня мысль долго держать здесь тело, пусть уже закопают поскорее…
Я подошёл и пожал его крепкую, горячую руку.
– Соболезную, что так случилось. – Напоминание, что и здесь я не смог ничему помешать, укололо меня, но Вукасович едва ли заметил эти эмоции. Казалось, он погружён в себя и ведёт разговор механически.
– Идёмте, провожу, – невыразительно ответил он.
Он вывел меня к дому, оборудованному под лазарет, – тому, где мы были вчера. Тёмное ближнее помещение сейчас пустовало, следующее – попросторнее, спартански скромное, уместившее сразу пять коек, – тоже. Из самой дальней, видимо, жилой комнаты выглянул гарнизонный медик Шпинберг, сонно моргнул совиными глазами, кивнул мне и снова закрыл дверь. Сопровождать нас ему явно не хотелось. Хотя он как раз мог бы быть полезен, я пока не настаивал на его ассистировании. Как и в случае с кучером, я опасался лишней паники, если вдруг обнаружу… хоть что-то неординарное.
Вукасович пересёк лазаретную часть и, взяв со стола лампу, провёл меня ещё в какое-то небольшое, заставленное заколоченными ящиками помещение – вроде кладовой. Там он открыл новую дверь, за которой начинались крутые выщербленные ступеньки вниз.
– Наверное, раньше был погреб. А мы вот так используем, – пробормотал он, качнув лампой. По стенам заметались беспокойные угловатые тени.
Ступенек было с дюжину, а, спустившись, мы оказались в маленьком, где-то шести шагов в длину и ширину холодном помещении, у одной из стен которого и лежало обёрнутое в кусок светлой материи тело.
– Часто вы так? – невольно удивился я. – Отличное место для анатомического театра…
Пропустив меня, Вукасович попятился и поднялся на одну ступеньку. Я обернулся. Вид у гарнизонного был сейчас особенно хмурый, а скудность освещения делала его заострённое дисгармоничное лицо похожим на скорбную и жуткую каменную маску.
– Знаете, доктор… – он запнулся, – редко у нас покойники залёживаются, ну и вообще. Я стараюсь, чтоб мои молодцы не болели, а уж тем более не… попадали в такие «театры» и… – Он безнадёжно махнул рукой, и мне вновь стало тошно.
Австрийская армия – как и любая армия и, в принципе, любой сложный общественный организм – всё ещё подвержена такому множеству отвратительных недугов и пороков, что иногда её победы вызывают в просвещённых кругах справедливое удивление. Наш век восторженные головы уже зовут Великим и даже Великолепным, не замечая за прогрессом непроходимой грязи, которую ещё разгребать и разгребать, вывозить и вывозить. Жестокая муштра, бюрократия, междусобойство, казнокрадство и отсталая медицина – капли в её море. Равнодушие командиров к солдатам настолько естественно, что встретить здесь, в глуши, кого-то вроде Вукасовича – с отношением отцовским – невероятно. Он ведь не красовался передо мной – опрятные, насколько возможно, дома, здоровый вид людей, некий дух братства, который я уловил даже над постелью бедного Рихтера, всё доказывали. Вукасович дорожит маленьким гарнизоном, прекрасно понимая, что не многих из этих неродовитых, не избалованных августейшим покровительством ребят ждёт лучшее будущее в лучших краях. Какая же несправедливость правит миром, какая несправедливость выбросила его незаурядных жителей на задворки!
– Я понимаю, – нейтрально сказал тогда я, склоняясь над солдатом.
Осмотр мёртвого тела, в принципе, подтвердил вчерашнее впечатление от беглого осмотра живого. Рихтер действительно не походил на человека недоедавшего или, например, злоупотреблявшего спиртным. Сложение его было нормальным, и если забыть про странно заострённые черты и скрюченные агонической судорогой пальцы, часовой казался вполне здоровым юношей. Грудная клетка и суставы не подвергались деформации, живот не имел вздутостей, в полостях тела не обнаружилось даже паразитов. Каких-либо повреждений, будь то следы якобы зубов на шее или гематомы от побоев, я тоже не нашёл. Кожа уже приобретала характерный тон, но на этом присутствие Танатоса оканчивалось.
– Вы будете его… ну, совсем потрошить? Грудь вскрывать, вынимать что-то? Могу позвать Шпинберга, пусть уже поможет, старая скотина…
Голос Вукасовича заставил меня обернуться. Гарнизонный отлучился лишь раз, за кипятком, а всё остальное время мужественно наблюдал за мной – правда, с плохо скрываемым отвращением. На окровавленный ретрактор он глядел вовсе в ужасе, как на орудие пыток. Я его понимал. Он видел наверняка немало покойников, но едва ли часто лицезрел проводимые с ними исследовательские манипуляции. Он с его старой закалкой, вероятно, считал – как и большая часть общества, – что мёртвое тело неприкосновенно даже для учёных. Иезуиты умеют накрепко вбивать подобные «истины». Обезглавить труп какого-нибудь «вампира», как делает взбесившаяся толпа, – пожалуйста, но почерпнуть из одной угасшей жизни знание для спасения других – о нет!
– Я не вижу смысла. – Я не щадил Вукасовича, я действительно сомневался. Вскрытие грудины было бы трудоёмким процессом; рёбра, особенно молодые, – материал упрямый, а даст ли это что-то? – Вчера я слушал его сердце, и оно не вызвало у меня вопросов. Вопросы у меня совершенно к другим вещам, и… – я, вздохнув, поднялся и принялся ополаскивать руки и инструменты, – полагаю, искать ответы нужно иначе. Просто похороните его. И… спасибо за содействие.
Вукасович выдохнул, закивал. Я накинул ткань на тонкое красивое лицо белокурого солдата, собрал весь свой устрашающий инвентарь и отступил. Командующий уже поднимался по ступеням, словно спеша увести меня отсюда, пока я не передумал.
– Жаль его родных, – проговорил я. – Не единственный сын в семействе, надеюсь?
– Да родных нет, кроме сестры, и та живёт с монашками. Не буду пугать бедняжку историями про нечисть… напишу, что погиб героем, ну, в стычке с местными… – Он задумался, но, похоже, никаких «местных» врагов не выдумал и нервно махнул по привычке рукой. – Да и просто вышлю его трёхмесячное жалование… и письмо последнее…
Вукасович говорил, идя ко мне спиной, держась очень прямо и крепко, до судороги сжимая левый кулак. Я ему не ответил, давая время прийти в себя. Возможно, потерю солдата он осознал лишь после моих слов: «Похороните…» Так бывает.
На улице по-прежнему моросило, но послабее, хотя небо оставалось серым и разбухшим, напоминало невскрытый нарыв. В каком-то из домов обиженно лаял пёс. Мы пошли через безмолвную деревню в сторону кучера. Вукасович чеканил шаг, успевать за ним едва удавалось.
– Совсем никого нет. – Осматриваясь, я внезапно подметил непонятную деталь. – По домам сидят?
– Да, кто будет бродить в дождь? – небрежно пожал плечами Вукасович.
Я кивнул и без паузы задал новый вопрос:
– А что же, вы не даёте им топить? Дыма над крышами что-то почти нет…
Я не ошибся в смутных подозрениях: командующий остановился как вкопанный и пристально посмотрел на меня. Он был сильно раздосадован, сжал и второй кулак. Я ждал. Наконец, негромко выругавшись по-моравски, Вукасович с неохотой признался:
– Нет многих. Ищут.
– Того, кто напал на герра Рихтера?
Он желчно, безнадёжно хмыкнул.
– Да где уж такое найти… Бвальс пропал. Он дежурил с Рихтером, когда доктор уснул, а выходит тот утром из комнаты – нет Бвальса, а сам Рихтер холодный уже. Думали, в городе юнец, может, пьёт с горя – всё-таки очень они нежно дружили. Ничего… найдём, не переживайте. Не хотел пока поднимать шума.
Я кивнул. Весть о том, что, вероятно, было просто зиждущимся на эмоциях дезертирством, мало обеспокоила меня; куда больше я насторожился из-за попытки её утаить и самого настроя Вукасовича. Взвинченный, какой-то потерянный, он казался больным. Понимал ли он вообще, на каком свете находится? Возможно, стоило предложить ему полечиться присланным мной бальзамом или просто взять выходной на сон и отдых… Но я ничего не высказал, только пожелал удачи и стал прощаться. Вукасович пробормотал, уже пожимая мне руку:
– Жаль всё-таки Рихтера… золотое сердце. Хорошо хоть священник его повидать успел… ночью приходил. – Во взгляде опять мелькнуло что-то тревожное, и я это уловил.
– Герр Рушкевич? – Я уточнил, просто чтобы протянуть разговор.
– Он, кто же ещё… Явился, обёрнутый, как в саван, в эту свою тряпку. Видимо, неудачно его разбудили, нервный был какой-то, ну, хохлился. Но Рихтеру полегчало после того, как… ну, поговорил с ним. Сказал тогда: «Как святой».
Лицо командующего всё ещё выражало некую не поддающуюся описанию и не соответствующую словам эмоцию, точно он не слышал сам себя.
– Что-то не так? – мягко поинтересовался я, подразумевая: «…с вами?». Но Вукасович, решившись, заговорил вдруг абсолютно про другое:
– Ну очень он был мрачный. Да и часто мрачный, и Альберт на него рычит. У меня от него мурашки, может… – неожиданно Вукасович как-то нехарактерно для самого себя, по-мальчишески хихикнул, – грешник я, расправы Господней страшусь да служек Его?
Разговор нравился мне всё меньше; за священника хотелось вступиться, но я понимал, что это будет странно, и просто ждал, всем видом демонстрируя жалость и понимание.
– А впрочем, все мы грешники, – уже ровно, даже буднично изрёк наконец Вукасович и отчего-то сплюнул на землю. – Да, доктор?
– Возможно, – сдержанно откликнулся я. Мне не хотелось – и не хочется – задаваться вопросом, прибавились ли две неспасённые жизни к списку моих грехов.
– Я вот стрелялся, – проговорил он, и я постарался изобразить удивление. – Знали бы, за какую чушь. Был влюблён в светлейшую императрицу, писал ей стихи, думал, как бы, ну, довести до сведения… а приятель и их осмеял, и мои чувства. «Где тебе?», говорит, а я… в лицо ударил, а потом и вызвал.
– Убили? – сочувственно спросил я.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.