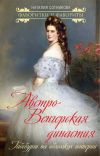Текст книги "Отравленные земли"

Автор книги: Екатерина Звонцова
Жанр: Триллеры, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 19 страниц)
Мне казалось, я готов к тому, что произойдёт дальше, но я ошибался. Как и все, я, наверное, вскрикнул, когда начало всходить солнце, оборвалась молитва и древнее массивное тело Кровоточащей часовни содрогнулось. Под землёй разнёсся гул, а может, стон или рычание, и камни мостовой пошли волнами; некоторые стали взрываться; другие – проваливаться. Кучи пепла рассыпались и пропадали. Люди оставались на местах, их ничто не задевало, точно каждого защищал теперь уже свой невидимый кокон. Такой был и вокруг меня. Я пошёл обратно к крыльцу. Я ещё на что-то надеялся, я не мог иначе.
Часовня содрогнулась в последний раз. Я уверен был, что сейчас она обвалится, но она устояла; только разом вылетели все витражи, включая верхний. Вместе с этим последним стеклом на паперть упало тело в чёрной сутане, полуобгоревшее, но ещё живое. Звон осколков, точно щадя меня, приглушил мягкий, неотвратимый стук костей.
Я не могу сказать, сколько рёбер Бесик сломал в падении, да и сомневаюсь, что именно эта травма стала смертельной – смертельным было всё, что случилось ранее. Более-менее ясно я, бросаясь к нему, понимал одно: всё действительно кончено, ведь двери церкви почти сразу распахнулись, и ни одной твари не вырвалось оттуда. Цел был каменный пол, пропала крипта – только сгорели скамьи и исчезли фрески. Церковь устояла, но это не имело значения. Самое значимое – своего священника – Кровоточащая часовня потеряла.
Поначалу я не решался даже прикоснуться к нему, потому что не имел представления, как лучше обращаться с таким раненым. Тут не справился бы никакой хирург, и страшно сказать – возможно, не справился бы святой целитель. Я просто опустился рядом и всмотрелся в бледное лицо, осторожно стёр с него копоть и кровь, отвёл со лба дымящиеся волосы и позвал:
– Я здесь… слышите меня?
Он открыл всё столь же пронзительные глаза и улыбнулся мне, робко потянулся навстречу. Я попытался чуть-чуть его приподнять, и он не поморщился от боли. Вероятно, он просто уже практически ничего не ощущал. С огромным усилием он произнёс:
– Спасибо вам. – Из угла рта потекла кровь.
– Вы уверились? – Я склонился ближе. – Правда? Вы не погубили вашу подругу… Она пришла к вам. Настоящая.
– Она никогда меня не оставляла. И вы…
– Я оставил.
Но он покачал головой, вряд ли утешая меня. Он действительно в это верил.
Люди позади нас начинали вставать, с ужасом озираться, подходить. Они таращились на меня и на священника, напоминавшего в моих руках подстреленную птицу. Я ничего не объяснял, но кто-то вдруг начал плакать, и постепенно звук подхватили, не только дети и женщины, но и мужчины. Десятки испуганных, потрясённых, едва ли понимавших хоть что-то людей плакали перед церковью, из которой едва не вырвались их собственные грехи. Грехи, которые они, не ведая того, приумножили – и будут приумножать вечно.
Небо становилось всё ярче.
13/13

Брно, «Злата Морава», 15 марта, час пополудни
Вчера силы неожиданно изменили мне, и запись, которую я хотел продолжить после короткого перерыва, окончилась обмороком. Придётся завершить её сегодня, пока закладывают карету. Кстати, я благодарю Господа за то, что в проклятую ночь Януш зверски напился и проспал в свинарнике до зари, а его храп наверняка слился с хрюканьем местных обитателей. Если бы он, пусть не намеренно, а по тёмному умыслу, примешался к толпе тех, кто истязал и убивал моих друзей, я едва ли смог бы вынести дальнейшее сосуществование с ним даже в минимальной близости. Ныне же я терпеливо сношу его заботу, ведь он видит, что в последние недели со мной что-то неладно, и старается быть предупредительным.
О случившемся в городе Януш ничего не подозревает, а впрочем, это забылось и некоторыми из тех, кто был трезв. За его рассудок я спокоен, намного спокойнее, чем за собственный. Поразительная ирония, но все его потери в Каменной Горке свелись к монетам за выпивку и одной серой кобыле, о которой он искренне скорбит, а подаренную мне замену из ратушной конюшни нещадно проклинает за бестолковость. Впрочем, Януш молод, работает на меня с удовольствием, а значит, ещё не раз появится в записях. Пора перестать бежать от себя. Vivе mеmоr. Живя, помни. Так говорю я себе.
В то утро у Бесика хватило сил на просьбу – странную, с моей точки зрения абсурдную, но для него, видимо, важнейшую. Он попросил меня отвезти его – или, если так сложится, его тело – в ближайший из горных городков и попытаться занести там в любой храм. Он хотел точно знать, что искупил всё, в чём себя винил, ведь много лет он не входил ни в одну церковь, кроме Кровоточащей часовни. При других обстоятельствах я не пошёл бы на это безумие. Но я уже по возможности осмотрел его и окончательно понял, что ни полная неподвижность, ни даже если бы рядом по волшебству могли оказаться лучшие венские врачи, негласным сеnturiо которых являюсь, к сожалению, я, – ничто не помогло бы с повреждениями, которые Бесик получил. Двигаться он почти не мог, дышать тоже. Его смерть была только вопросом времени, а его периодически возвращающаяся ясность рассудка – проявлением жалости и благодарности Высших Сил, в которых я всё яснее видел не Милостивого Отца, но Бесчеловечного Учёного. Я согласился.
Это был непростой путь, учитывая кошмарную дорогу и мои тщетные попытки не сделать Бесику хуже. Он лежал головой на моих коленях и смотрел на меня, то проваливаясь в забытьё, то упрямо и мужественно пытаясь с ним бороться. Когда это удавалось, он просил что-нибудь рассказывать ему – о Вене, о том, что я изучаю и чем занимаюсь в университете, или о моей семье. Мне хотелось молчать, но я говорил.
– Что… не так с вашим старшим сыном? – проницательно спросил он в какой-то момент. – Вы нехотя о нём рассказываете.
– Он не похож на меня, – всё, что я мог ответить.
«Он не похож на вас» – то, что не должен был произносить.
– А на кого похож?..
На Фридриха Маркуса, теперь я мог ответить уверенно. На человека, который, несмотря на поверхностность знакомства, навсегда останется для меня достойным damnatio memoriae – проклятья памяти[69]69
Форма посмертного наказания, применявшаяся в Древнем Риме к узурпаторам власти, участникам заговоров, запятнавшим себя императорам. Любые материальные свидетельства о существовании преступника – статуи, настенные и надгробные надписи, упоминания в законах и летописях – подлежали уничтожению, чтобы стереть память об умершем. Могли быть уничтожены и все члены семьи преступника.
[Закрыть]. Разумеется, у него была заслуживающая сочувствия история, как и у всех незаурядных аристократов из провинции, у всех юношей, которым хватает таланта, но не хватает зубов и сил пробиться выше, у всех умных чиновников, над которыми стоят бездарные начальники. Но сколь велики должны быть ненависть и жажда, чтобы древнее зло пустило в тебе корни и разрослось до таких масштабов? Несчастливы многие. Судьбой обласканы единицы. Но чудовищами становятся далеко не все.
– Я не знаю, – ответил я и, понимая, что, вопреки всем странным ассоциациям, это правда, добавил: – Это не значит, что я не люблю его. Очень люблю. И более того, уверен, что он станет великим, пусть не в том, к чему лежит его душа…
Я осёкся. Бесик улыбался. Я понял: ему достаточно было слов о том, что Готфрида я люблю. К чему тратить немногие минуты, что у нас остались, на разговоры о величии? Я вспомнил услышанное в часовне. «Мы с вами очень похожи…» Маркус был прав. И может, черты, которые отталкивали меня в нём и сыне, на деле были тем, чего я даже на старости лет не желал замечать в себе? Величие… величие… я говорил о величии Бесику, у которого вот-вот не будет даже просто жизни: солнца, дыхания, прикосновений, разговоров. Ничего.
– Простите. – Карету тряхнуло, и я бережно придержал его за плечи. Он начинал дрожать от озноба, хотя было душно. Плохой знак.
– За что? – прохрипел он. Я уже не стал его отпускать, пытаясь греть.
– За всё. – Слова терялись; я задавался вопросом, почему же Небо гоняет меня по кругу, возвращает в давнюю ночь, напоминает о Гансе и опять, опять отнимает.
– Вы очень хороший человек, – шепнул Бесик. – Помните об этом. Это не просто – любить тех, кто постоянно рядом. И нормально – сомневаться.
Он забылся. Я ещё не знал, что только что закончился последний наш разговор. Мы добрались до ближайшего поселения – за Старой Деревней, ещё за перевалом и за горным потоком. Там я занёс Бесика в маленькую церковку, более напоминавшую пряничный домик – нелюбимое, но в этом исполнении не лишённое красоты, а главное, живости барокко. Мы попали внутрь беспрепятственно, а местный священник счёл, что Бесик – несчастная жертва оползня. Почтенный, внушительного вида рыжий старец предложил отслужить за него молебен и отпустить ему грехи, но не успел: под чужими сводами мой друг, которого я полюбил как сына, сильнее, чем сына, сильнее, чем многих, кого знал за всю жизнь, скончался. Обратно в Каменную Горку я привёз уже его остывающее тело – его голова точно так же лежала на моих коленях, но веки были сомкнуты. Я плохо помню тот путь, но, кажется, я снова говорил с ним – о Вене, об императрице, о его невероятных способностях к медицине. Мне никто не отвечал.
Всё это произошло на следующий день, а вскоре на погосте появилось четыре свежих могилы. Брехт Вукасович. Петро Капиевский. Арнольд Вудфолл. Бесик Рушкевич. Могилы были рядом; такое решение принял я как человек «наиболее близкий усопшим». Трудно сказать, почему Вольдемар Шпорк, помощник Маркуса, к слову, приятный, хотя и рябой малый, безошибочно определил так именно меня. Но он определил и даже хотел выделить из казны средства, которых я, впрочем, не принял, оплатив всё из своего кармана. Когда похоронный обряд завершили, юный Шпорк долго стоял со мной на ветру, задумчиво смотрел на мёрзлую землю и без конца повторял:
– Хоть бы всё успокоилось…
Казалось, он, в отличие от большинства, помнит случившееся, и помнит не как угар, в котором хотели сжечь священника, а как что-то иное. Иначе почему он ни капли не удивился, ни убедившись, что в гарнизон никто не вернётся, ни увидев, что кладбищенское озеро очистилось от кувшинок, ни когда, возвращаясь с погоста и проезжая часовню, мы нашли на месте падения Бесика несколько выросших меж камней багровых роз? Он только покачал головой и стал тереть лоб, а потом перекрестился и повторил свою фразу.
Он не ошибся в надеждах: в городе стало спокойно. Ко времени, как герр Гассер и герр Вабст наконец присоединились ко мне, никто уже не стучал ночами в чужие окна, никого не находили наутро странно больным. Люди умирали исключительно от горячки, переедания, пневмонии или после случайной драки. Удостоверившись в этом (оканчивая старые дела и начиная новые, я провёл там ещё недели две, после чего бросил коллег), я написал несколько писем императрице, где подробно отчитался о произошедшем, а именно о:
– в среднем прескверном состоянии здоровья и нравов местного населения: массовом малокровии, истощении, повальном невежестве;
– несоблюдении условий захоронения трупов, ведущем ко всевозможным, зачастую пугающим аномалиям разложения;
– явлениях народного помешательства и бунта, свидетелем которых мне пришлось быть;
– необходимости поставить во главе местной церкви священника, столь же образованного и достойного, сколь ныне (в результате неудачного падения) покойный;
– том, что местонахождение Йохана Мишкольца мне до сих пор не известно и у меня есть подозрение, что османские шпионы могли пожелать расквитаться с ним;
– массовом дезертирстве целого гарнизона и о том, что некоторые в городе считают, будто гарнизон обратился в отряд мертвецов, а потом был уничтожен Господней рукой;
– пагубном пристрастии моравов к выпивке, искажающем их восприятие объективной реальности.
Пунктов было ещё много, около двадцати, и императрицу они удовлетворили – точнее, так мне показалось, о наивный я дурак! Ведь в последнем ответном письме, которое я получил намедни, была приписка особенным, нежным, почерком, который она почти не использовала и которым неизменно ввергала подданных ближнего круга в ужас.
«Я жду Вас с нетерпением, мой бесценный друг, чтобы услышать…»
Последнего слова не было, но я понял: «правду». И я расскажу, ибо нет правителя умнее и проницательнее, чем моя бесценная, и нет женщины, которая лучше неё поймёт, почему из маленького городка я возвращаюсь с ранами, которые вряд ли успеют зажить за тот срок жизни, что мне остался. Раны невидимы; медик вроде меня должен бы отрицать их существование, но я не могу. Зря говорят, будто с годами отмирает не только наша плоть, но и способность обострённо, на пределе, радоваться и скорбеть. Может, радости это и касается, она блекнет, как наши волосы и глаза, но от горечи, увы, мы не защищены ни в каком возрасте. Имена погибших друзей всё время звучат в моей голове; лица стоят перед внутренним взором. Закономерность эта – необыкновеннейших, лучших забирают первыми – несправедлива, и тем страшнее сознавать её, когда никак не можешь на неё повлиять. Я не могу. Да и никто не может. И даже понимая это умом, не выпуская из памяти водоворот обстоятельств, против которых я оказался бессилен, я продолжаю, продолжаю винить себя. Двое из тех, кто погиб, защищая Каменную Горку, были совсем молоды, не успели завести семей, не оставили никого, кто хоть отдалённо напоминал бы о них, был бы их продолжением. Третий оставил, но нрав его, склад ума, небывалое жизнелюбие – всё обещало ему ещё много добрых поступков при жизни и спокойную смерть в кресле у огня. И вот, их всех нет, а я остался – я, который и так успел довольно; я, у которого четверо прекрасных – что бы я ни говорил о Готфриде, прекрасных! – детей. Почему решено так? Видимо, мне суждено гадать до конца дней. Слишком многое напоминает мне о друзьях, и порой память так тяжела, что я, как ребёнок, начинаю воображать иные развития событий, где все живы, и проваливаться в них. Впрочем, я сам тащу эти воспоминания и иллюзии за собой, как кандалы. Но это лучшие из кандалов, какие мы можем носить.
От Капиевского мне остались на память арбалет и обломок стрелы – следы мужества, которого я не ждал. Этот милейший человек никогда не вызывал у меня презрения, как у моего английского знакомца, но пора признаться: я не воспринимал Капиевского серьёзно и вряд ли воспринял бы, не повернись всё так, как повернулось. Бедный доктор, бедный старый вояка… Его вертлявая и ветреная жена, кстати, внезапно прикатив, не дала мне взять на память щербатую чашку, одну из тех, откуда мы когда-то давно пили чай. С ней мы столкнулись в доме и расстались недружелюбно. Благо хотя бы Кася, старшая дочь, приехавшая к могиле отца с мужем-юристом, оказалась милее и приятнее. Ей я, не вдаваясь в мистические подробности, рассказал, что отец погиб героем… возможно, зря: Кася долго плакала и повторяла на плохом немецком: «Папенька всегда, всегда был таким».
От Вудфолла у меня ожерелье из клыков и неопубликованные материалы, которые я планирую анонимно передать ван Хелену, дабы потешить напоследок австрийскую публику. Это будут лучшие статьи avvisatori, не сомневаюсь, особенно учитывая, что я дополнил их и разбавил реальными подробностями из собственных записей. Просматривая немногочисленные вещи и бумаги Вудфолла, я без удивления узнал, что псевдонимов у него около дюжины, осталось лишь путём несложных логических изысканий выявить, под каким его знает «Венский вестник». Хотел бы я знать, настоящим ли именем он мне назвался, но вряд ли это возможно, да и к лучшему, что похоронил я его так. Именно под именем «Арнольд Вудфолл» стремительная, упрямая душа незаурядного авантюриста обрела покой. Ведь она обрела его, о чём я могу судить по коротенькой записке, которую avvisatori, будучи пьяным или в приступе сентиментальности, оставил на моё имя и сунул в томик Свифта. Она короткая, и она в какой-то момент стала ещё одним ножом, бесповоротно изувечившим меня.
Герард, дружище. Я не называл тебя так, потому что мы не успели побрататься, да и, боюсь, в скором времени ты так поседеешь, что подобное обращение будет предосудительным даже для мужлана вроде меня. Ты, наверное, часто на меня злишься, да? Не злись. Мы не закадычные приятели, но, поверишь ли, я надеюсь, что станем. Да, я не святой с золотым сердцем. Но ты тоже.
Есть одно, что я почему-то хочу донести до тебя (в случае смерти, конечно, если ты это найдёшь). Наверное, это тебя отвратит от меня, но плевать, плевать, плевать; ложь отвращает сильнее. А я здорово солгал тебе в ту ночь в гарнизоне, и раньше, в трактире.
Помнишь разговоры о моих замечательных компаньонах, чьими трупами теперь можно мостить двор? Не просто так они лишились жизни. В первых путешествиях я, озлобленный и жаждущий побед блудный сын, совершенно не знал цену верности. Собственная семья обидела меня, и я решил не верить в семью вовсе, в чём и преуспел. «Бери и не отдавай» – таков был мой девиз. Я предавал одного за другим своих спутников. На них проверялись ловушки и яды, их я галантно пропускал вперёд, чтобы неизвестная опасность убила их и пощадила меня. Я ненавидел сентиментальности. Ненавидел я и делиться, ни сокровищами, ни славой. А потом я полюбил. Девушку в Иерусалиме. И мальчика в Америке. Оба раза судьба наказала меня, отняв их; они умирали, а я оставался. Это ты знаешь.
В третий раз я полюбил тебя – как мог бы любить отца или дядю, а может, занудного старшего братца – если бы хоть кто-то из моей родни не лупил меня почём зря, призывая к порядку и благочестию; не жёг моих рассказов и не гнал в шею моих уличных друзей. Почему-то я уверен: ты не такой. И я очень надеюсь, что в конце – а конец будет, я чую – всё наконец случится наоборот: я буду мёртв, а ты будешь читать эти строчки. Но это если судьба решит меня всё-таки прибрать, конечно, так-то она неравнодушна ко мне.
Кто знает… священнику я уже исповедался, ну а ты так или иначе живи и будь счастлив, нельзя вечно ходить с такой постной физиономией.
Ещё увидимся где-нибудь когда-нибудь. Надеюсь, не в аду, хотя кто знает?
Буду скучать.
Avvisatori
Именно строки о Вудфолле займут здесь, в тринадцатой записи, в последней её части, больше всего места. Бесик… о нём мне добавить нечего, ибо боль не выпускает слова наружу, став суровейшим тюремщиком, и я лишь говорю, что в Брно я увёз – и довезу до Вены – подаренный им крест, розу и кусочек витража Кровоточащей часовни, а за собой оставляю спокойный город. Действительно тихий, но тихий благостно и мирно, а не как города-призраки, которые встречаются иногда на длинных пустых дорогах. Пусть всё здесь будет хорошо, хотя бы в память о подвигах и мучениях, о потерях и очищении, о молитве Земли. И пусть прекрасные мои фройляйн, София Штигг и Барбара Дворжак, да и все незаурядные люди хорошо здесь живут или – если только пожелают – вырвутся в большой мир. Никого и нигде нельзя держать, если силы и мечты заставляют его беспокойно метаться. Это я знал всегда, а теперь понял ещё лучше. Нерастраченные силы и несбывшиеся мечты обращаются самой разрушительной злобой.
Что дальше? Мы с императрицей решим. Ну а ныне мне пора в путь, в ужасную тряску и дождь. И может, теперь, когда совесть моя очищена, я наконец усну спокойно. Даже увечья от кольев, ножей и зубов затянулись, перестали будить меня по ночам, кроме одного, на ноге, – там остался странный шрам, более похожий на цепь чёрных родимых пятен. Но неважно. Неважно… вряд ли когда-нибудь рана эта убьёт меня, скорее всего, я забуду о ней. Ведь я буду помнить слишком много другого.
Эпилог

31 марта 1755 года. Вена
Тогда, в середине марта, едва приехав, я и начал писать длинную, немыслимо закрученную и скучную работу со столь же длинным названием, и работа эта призвана была успокоить всех, успокоить и окончательно уверить:
«Вампиров нет».
Без маленькой приписки:
«Сейчас. Их время прошло. Но оно может вернуться».
Это подтверждала и статистика: с завершением моей моравской инспекции панические рапорты о якобы нападениях чудовищ сначала стали реже, а потом вовсе прекратились. Это напоминало постепенное иссякание некоего источника; это оно и было. Отравленные земли успокоились и погрузились в сон. Долгий ли? Зависит от многого. В веках мы оставили немало жестокости, это всегда будет нам откликаться – большими и маленькими волнами тьмы из Бездны, чуткой к малейшему дуновению кровавого ветерка. Может, поэтому стоит постараться хотя бы по мере сил избежать войн? Быть лучше, добрее, мудрее, терпимее? Этому учат нас с древних времён, но мы почти никогда не слышим.
Я это знаю, знает и императрица, от которой всегда трудно было что-то утаить. Но более об этом пока не должен узнать почти никто. Для общества это «блестящий пример торжества просвещения над суевериями», победа науки, великой и прозорливой. А ещё для общества это моя победа. Очередная. И мне так жаль, что три святых для меня имени остались для этого общества пустым звуком.
Я знаю кое-что ещё, что не решился донести даже до нашей мудрой правительницы, ни до кого – и, может, не донесу никогда. Это «кое-что» не больше сойки в руках, умещается в одной фразе покойного Арнольда Вудфолла.
«Не все вампиры пьют кровь».
У Зла сотни лиц, и некоторые крайне приятны. Поэтому я теперь неизменно внимательно смотрю в глаза и прислушиваюсь к голосам людей, с которыми знакомлюсь; говорят, я стал немного нервным, но объясняют это закатом лет. И поэтому мне не нравятся многие вещи вокруг. Многие взгляды. Даже взгляд моего Готфрида, так часто с сумрачной сосредоточенностью склоняющегося над клавесином, рождая очередную уродливую дисгармоничную сонату. Взгляд с затаённым блеском… и голос. У него чарующий голос, который очень располагает и притягивает молодёжь. Но Готфрид не бывал в отравленных землях. Готфрид делает добро тем, чьим талантом восхищён, а минуты его желчной зависти, по крайней мере, демонстрируемой открыто, случаются всё реже. И Готфрид, когда я вернулся, первым, даже раньше Лизхен, бросился мне на шею, прошептав: «Братья предсказывали, что ты не вернёшься, а я молился, хотя не верю, давно не верю…» Бесик прав: его трудно любить. Но я не перестану. В день приезда я попросил его сыграть мне пару свежих сочинений и слушал их до полуночи. Я ещё сказал ему: «Пожалуйста, не отказывайся от этого». Я вдруг как никогда понял, что хочу, чтобы он жил так, как ему вздумается, ведь жизнь очень хрупка.
У меня появилась ещё привычка теребить серебряный крестик, сжимать его, прикрывая глаза. «Бедный старый грешник», – говорят некоторые; другие отчего-то отходят подальше. Им не нравится простой, не по статусу, крест, точно тень того, кто надел его мне на шею, маячит рядом. Тонкая синеглазая тень и две других, ещё более плотных и явственных.
…За окном дождь. С глубоким вздохом я снова перечитываю последние строки.
«Таким образом, все традиционные верования в вампиров, все “доказательства” их существования, вся разрушительная способность, некогда приписанная им, есть не более чем следствия пагубного невежества жителей сопредельных империи территорий. Возблагодарим же Господа: вампиры едва ли когда-то будут ходить по Земле…»
Несколько слов не будут дописаны. Но их существование приходится признать.
«…снова. По крайней мере, в ближайшую сотню лет».
Спасибо тем, кто вычеркнул их своей кровью и остался позади. Спасибо им.
12 апреля 1766 года
Путь лежит на юг. Доктор Герард ван Свитен и его отъевшийся, заматеревший кучер скучают на почтовой станции в маленьком, пропахшем жареным мясом, дымом и пивом трактире. Януш, как всегда, нашёл достойное (конюхи, и только конюхи!) общество для игры: из угла слышатся смешки, подзуживания и шлёпанье карт. Доктор сидит один.
Он часто предпочитает одиночество в последние годы, хотя его компанейская веселость и находит выходы, если общества не избежать никак. Но сейчас он пользуется тем, что таких же ожидающих мало, и рассматривает немногих, которые есть. В голове пусто, сердце покалывает, нога ноет, но всё терпимо.
Чаще всего взгляд цепляется к занятной компании с чашками грога: расфранченный мужчина и двое рыжеватых, без париков, ребят. Серьёзная кудрявая девочка лет тринадцати пишет на листочке; мужчина строго, поджав губы, за этим следит. Младший мальчишка, настоящая юла, то и дело соскакивает со стула, корчит миру рожи, убегает и возвращается. Доктор наблюдает. Мальчишка похож на беспокойного птенца. В конце концов, когда, вскакивая в который раз, он едва не роняет чашку, мужчина – отец? – прикрикивает, и сын покорно садится, поджимает губы в такой же гримасе, сутулится.
Прохладные серые глаза встречают взгляд доктора надменным вопросом: «Что угодно?», но тут же узнавание – императорского медика многие в просвещённых кругах знают в лицо – заставляет отца семейства выдавить подобострастную улыбку и принять самый мирный вид. Зрительный контакт обрывается; доктор морщится. На своих детей, большинство из которых отличались крайне живым нравом, он почти не повышал голоса, не повышает и на внуков. Ребёнок, вопреки заблуждениям, лучше понимает речь, чем крик; он всё-таки не собака и не лошадь – да и те покладистее, если не повышать голос. А двое бедняжек по соседству, может, даже считают такое обращение нормальным. Отвратительно. Отвратительно и… всё равно. На самом деле ему абсолютно всё равно; им владеет апатия, которая неизменно наваливается во время долгих ожиданий и будит память. Благо от неё можно спастись.
Среди багажа доктора – кожаный несессер с рукоятями-змейками, подарок одного из приезжавших ко двору итальянцев, мастеров подобных вещиц. Там почти ничего, но в путешествиях несессер часто где-то под рукой. Доктор ставит его перед собой на стол и открывает замок. На мягкой подкладке блестит светлое дерево арбалета; серебрится заказанный у ювелира медальон, в рамке которого портрет синеглазого юноши, и белеют острые зубы на сыромятном шнурке. Пальцы плавно проводят по рукояти оружия и цепочке, пересчитывают клыки, как чётки. Машинально. Привычно. Тринадцать.
– Герр!
Быстрым движением доктор захлопывает крышку. Подскочивший мальчик смущённо осекается, но тут же с любопытством заглядывает через плечо и заканчивает:
– А что там у вас было?
Как глупо получилось. А ещё запоздало приходит понимание: и мальчишка, и девчонка, и их отец доктору знакомы; встречались, даже не раз, при дворе – на балах и концертах. Все трое занимаются музыкой; мальчик, по слухам, сочиняет с трёх или пяти лет. И именно этот юный вундеркинд, чьим талантом так восхищается Готфрид, прямо сейчас переминается с ноги на ногу рядом.
– Ерунда всякая на память… – приходится ответить. – Старики и не такое собирают.
Тонкие непропорциональные пальцы трогают рукоять-змейку и тут же отдёргиваются, но не брезгливо, а с другим, совсем неожиданным оттенком чувства.
– Это не ерунда, герр, это…
Пока ребёнок думает, доктор рассматривает его вблизи. Нездорово бледный, явно перенёс недавно оспу, но в целом лицо приятное: носик с горбинкой, живые голубые глаза, мягкие вьющиеся волосы. И движения – то ли птица, то ли бельчонок – располагают к себе, заставляют улыбнуться, а оспинки ещё пройдут.
– Вы взяли это в Волшебной стране, да?
По позвоночнику бежит озноб; немного не хватает воздуха. Доктор знает, что не справился с лицом, что глаза расширились, потому что перед ними уже темнеет. А мальчишка как ни в чём не бывало продолжает:
– Мне так показалось. Она… обычно прямо за спиной, но прячется, если обернуться. Там счастье. Мы с сестрой часто там играем… играли раньше…
В голосе что-то безнадёжное, слишком взрослое для едва разменянных десяти лет. Жаль его, не менее жаль себя, ведь что-то заставляет обернуться, посмотреть, что же там, за спиной, а там – пустой стол, на котором пивные кружки. Четыре.
Долгое ожидание потому всегда мучительно, что хорошо представляется, как оно могло бы лететь. Если бы Арнольд Вудфолл, как когда-то в трактире с пляшущими скелетами, травил абсурдные байки. Если бы Бесик Рушкевич изучал рядом книги по медицине. Если бы Петро Капиевский жаловался на «ту вредную немецкую квочку, которую принял когда-то за человека и, дурак, женился». Но стол пуст. Там просто сидела какая-то счастливая дружеская компания, а теперь ушла.
Доктор глубоко вздыхает и прогоняет все эти мысли. Он провалился в них, а подумать стоило бы о другом: бедный ребёнок. Насколько же он одинок, что выдумывает такое? Ни Лизхен, ни Готфрид, ни Гилберт, ни Мари в десятилетнем возрасте уже не верили ни в какие воображаемые страны: у них было слишком много других увлечений; им хватало любви и внимания.
– Почти, малыш. – Получается улыбнуться. – Всё возможно, верю.
Удивительно, как светлеет от простых слов лицо этого юного дарования.
– Здорово. Значит, она правда есть и мы её не выдумали…
Кажется, мальчик поболтал бы о чём-нибудь ещё, но за плечом уже отец, и взгляд его не обещает ничего хорошего.
– Вольфганг? Зачем ты мешаешь чужому отдыху? Доброго дня, простите, прошу, простите, мой сын иногда напрочь забывает этикет…
Отталкивающий. Жеманный. Весь будто из потускневшего металла. Пальцы сжимают воротник сына, как если бы схватили за шкирку щенка. Рядом крайне неприятно находиться, да и, в общем-то, уже пора, лошадей обещали в течение пятнадцати минут. Так что, выслушав формальные извинения и уверив обеспокоенного родителя маленькой юлы, что всё нормально, доктор поднимается с места.
– До свидания, герр… Моцарт, верно? Может, ещё увижу вас в столице. Пока, малыш.
Мальчик обеспокоенно и одновременно восторженно глядит снизу вверх.
Удивительно, как иногда жизненно необходимо находить даже мелкие, косвенные подтверждения чудесам, в которые мы слепо верим. Для юного Моцарта подтверждением стали необычные памятные предметы на дне чужого несессера, а для доктора, который уже не знает, сколько ему осталось жить, – четыре пустые кружки за спиной.
Кто знает? Может, однажды в этом или любом другом трактире за таким столом он будет сидеть не один. Может, бесчеловечный Опыт, в который он уверовал, когда рядом плакали люди и содрогалась от боли Кровоточащая часовня, чуть менее бесчеловечен и даёт вторые шансы тем, кто их заслуживает. Может, близящийся, уже почти осязаемый и давно переставший страшить его конец истории – только начало другой.
Пальцы теребят крест под тёплым шарфом. Синеглазая тень и две другие всё ещё где-то рядом. И они улыбаются, не отступая ни на шаг.
Lectori benevolo salutem[70]70
Привет благосклонному читателю (старинная формула авторского этикета).
[Закрыть]
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.