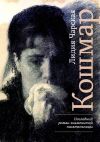Текст книги "Тень стрелы"
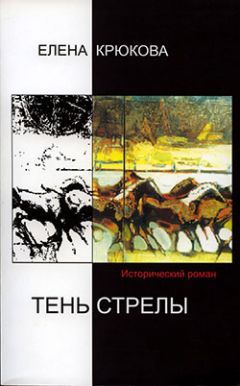
Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Мир рушится, дитя мое, мир рушится… Все падает вокруг нас. Все летит в тартарары. Что же делать нам, бедным эмигрантам, у которых отнято все – все, кроме остатка их маленькой, никому не нужной жизни? Я потерял в России крупнейшую компанию «ТЕРСИТЪ», мое детище, мою драгоценность. Я потерял жену. На край света, в дикую Монголию, от меня уехала моя дочь. Я потерял Родину – и это самое ужасное, что может быть у человека. Ночами мне снится Россия. Мне снится Петербург. Я еду в пролетке, останавливаю кучера у кондитерской «Норд», отряхиваюснег с бобрового воротника, захожу в тепло, покупаю торт с ореховой начинкой – Твой любимый, Ты помнишь?.. – и бутылку сладкого кагора, а кучер уже замерз меня ждать, и я снова еду по Невскому, мимо Мойки, мимо Фонтанки, и легкая сизо-голубоватая метель летит в лицо, морозец щиплет щеки, ветер налетает с залива… и эта темная, темная ночь, и северные бледные звезды над головой, и Ванька покрикивает на лошадей: э-э-эй!.. балуй!.. – и я знаю, что через миг он остановит лошадей у парадного подъезда, и они взроют снег копытами, и я взбегу по лестнице… а Ты, радость моя, маленькая, в платьице с кружевными оборочками, чистенькая, нарядная, бросишься ко мне, обхватишь ручонками и звонко крикнешь на всю залу: «Папа, а у нас уже елка! Маменька приказала привезти! Понюхай, как пахнет!..» И этот еловый запах, смолистый, чудный, когда она только расправляет ветки с мороза… и блеск игрушек, вынутых из кладовки, в распахнутом кованом сундуке… и свечи, свечи, много восковых и парафиновых свечей, связанных в пучки, как розги… И лампадка, тлеющая, как алая брусничная ягода, около иконы Казанской Божьей Матери в красном углу… Этой иконою благословляли нас с Твоей матерью мои родители, твои деды…
Господи, дочь, – неужели все это было… Даже не верится… Приезжай в Париж. Тогда я поверю, что Россия была и Ты – была. И есть. Ты – есть. Хотя бы Ты, Катичка моя.
Анжель – мое единственное утешение. Прошу Тебя, постарайся полюбить ее. Она никогда не заменит Тебе мать, я понимаю. Может, вы станете как сестры?
Жить нам часто бывает очень тяжело. Помогает русский храм на рю Дарю и его настоятель – священник Николай Тюльпанов. Там часто устраиваютсяблаготворительные обеды, мы столуемся там, встречаемся с теми, кто выехал из России раньше нас и кто прибывает сюда только что. Люди вырываются из такого ада… Всюду льется кровь. Всюду убивают. Молюсь, чтобы Ты, дитя мое, осталась жива. Я бы хотел видеть своих внуков, но не чаю, когда это будет. Потому мне так хочется, чтобы Анжель родила мне ребенка. Прежде чем я уйду на тот свет на чужбине, несчастный изгнанник, я хочу поглядеть в ясные детские, родные глаза.
Пиши мне, радость моя, на адрес: ruedelaTour, 13,Paris,France. Целую, обнимаю и благословляю Тебя – и в Аду, и в Раю. Христос с Тобой. Твой любящий папа».
Когда Катя оторвала глаза от письма, все ее лицо было обильно залито слезами. Она не вытирала их, и они капали, струились по подбородку на воротник, на платье.
* * *
Тяжелые шаги. Скрип сапог. Скрип, скрип, скрип.
Она не оборачивается. Оборачиваться нельзя. Ты же и так все знаешь. И ты уже не убежишь.
Он остановился за ее спиной. Глядел на склоненную голову. На ручей золотых волос, катящийся на плечи, съежившиеся от плохо скрываемого страха под курмой. На кривую шелковую строчку халата. На прямую нить ровного пробора. На золотой завиток на нежном затылке. На дрожащие под халатом лопатки. Звереныш. Птичка. Человек. Красавица. Сволочь. Его жена.
Она не выдержала. Обернулась к нему.
– Трифон!..
Он положил руки ей на плечи. Тяжелые, чугунные, они сразу пригнули ее книзу.
– Помолись, Катерина. Я понял все.
Руки сильнее надавили на плечи. Она, придавленная его руками, дрожа, села на спиленную лиственницу, заменявшую в юрте стул. Глядела на его лицо. Черное лицо. Почернелое, будто сплошной синяк, будто бы по лицу его долго, страшно били. Опухло от водки. Он тоже добыл водку. Змеиную китайскую водку. И упился. Чтобы охрабреть. Чтобы – осмелеть. Чтобы совершить то, что не совершил бы никогда в жизни. Если бы ему сказали тогда, на балу в Таврическом дворце, что он возненавидит свою жену, а его жена изменит ему, – он бы всласть похохотал над тою досужей, лешей выдумкой.
– Тебе идет эта ночная рубаха. Она красит тебя. Делает тебя, – он страшно, зверино усмехнулся, оскалился по-волчьи, – соблазнительной.
Она сидела на лиственничном распиле, а он не снимал рук с ее плеч. Что будет? А ничего. Сейчас он, разъяренный, убьет ее. Она знает, что он убьет ее. И она станет, как тот скелет. Как один из тех скелетов в пещере. Когда он будет убивать ее, она будет дико кричать, безобразно распяливая рот. Убийство – не красивый кадр из синематографа. Убийство – грубая, жестокая правда, и на нее нельзя глядеть. Она закроет глаза. Она не увидит своей смерти.
Катя разлепила губы. Семенов глядел в ее широко открытые глаза, сейчас посветлевшие, ясные, будто высвеченные изнутри светом невидимой свечи. Будто бы она держала свечу в руках, и пламя снизу горело, озаряя ее подбородок, прозрачные, будто восковые щеки, лоб, играло в неподвижных, будто застывших, глазах. Как же красива его жена. Как же он любил ее. Любил?! «Ты любишь ее и сейчас, не обманывай себя», – сказал он себе жестко. Зубы блеснули между приоткрытых пухлых губ. Она красивее всех китайских принцесс вместе взятых. Красивее всех их бронзовых, нефритовых и золотых Белых Тар. Она, Катя, живая, веселая, прижимавшаяся к нему в постели, кричавшая под ним, протягивавшая к нему руки и губы. Где эта Катя?! Где она, а ну-ка?!
– Триша…
– Я убью тебя, – медленно, тяжело сказал он.
Она вывернулась из-под его рук. Припала на одно колено, кружева ночной сорочки сползли с плеч, и одно плечо, гладкое, смуглое, выскользнуло из-под куржака снежных кружев. Ее нежная кожа все еще сохраняла летний загар. Он видел – ее зубы стучали. Она сжала рот в ниточку. Старалась унять дрожь. Он стоял перед ней, сжимая и разжимая кулаки. Его руки наливались силой еще незнакомой ему, бешено-радостной ярости. Теперь он чувствовал: он может убить. Он убьет. Он сделает это.
Катя подняла к нему голову. Собрала рубаху на груди в кулак. Трогательно-беззащитен был поворот ее головы, ее огромные карие глаза, налитые слезами до краев, как рюмка – водкой. Золото волос струилось, текло по плечам, истаивало в мягких складках льняной рубахи.
– Прости за все… пощади!.. Ведь ничего же…
Семенов рванул ее за голое плечо, вцепившись пальцами, будто когтями – беркут. Катя простонала. Он кинул, отшвырнул ее от себя.
– Сука!
– …не было…
Ну, овечка. Робкая золоторунная овечка, как же она просяще, умоляюще глядит на него! А руки сжимаются и разжимаются, и пальцы сжимаются снова, и уже не разжать кулаки. Он хотел вдохнуть – и не мог. Воздух сгустился до невыносимой, угольной плотности.
– Три…ша…
Он шагнул к ней, распростертой у его ног. Она задрала голову и задушенно крикнула:
– Прости, мы только целовались! Прости!..
– Не только, – пьяно, задыхаясь, пробормотал он, и она с ужасом уставилась в его черное опухшее лицо, приближающееся к ней, нависающее над ней.
Ее визг, потом вскрик заставил его остановиться только на миг. Он схватил ее волосы в кулак, зацепив ногтями ее за шею, за затылок, приподнял от пола, встряхнул, как охотники встряхивают свежесодранный мех, драгоценную рухлядь – соболей, куниц. Она обмякла в его руках. Еще на мгновенье его глаза встретились, схлестнулись с ее глазами.
Муж глядел на жену. Жена – на мужа. Жена да убоится своего мужа, сказано в Евангелии. Или – в проклятом Домострое?! Монах Сильвестр, наставник Ивана Грозного, его писал. «Еже писах – писах…»
Другая рука протянулась. Схватилась за нежное, мягкое женское горло. Боже мой, мелькнула дикая мысль, а ведь ей только двадцать лет, что же ты делаешь, Трифон. Куржак кружева полз, сползал вниз, рубаха падала на пол, обнажая смуглое стройное тело, которое он так любил ласкать, прижимать, лизать как собака. Сейчас он ненавидел его. Ненавидел этот живот. Груди. Ключицы. Эти локти и лодыжки. Он, казнивший, зарубивший шашкой, расстрелявший самолично множество людей, и виноватых и безвинных, внезапно стал ловить ртом воздух – дыхание занялось. Вися безвольной, страшной полумертвой тяжестью на его взбугренных безумием руках, она потеряла сознание, и он видел это. Может быть, она уже умерла, подумал он дико, и трудиться не надо. Золотая прядь выскользнула, как живая золотая змейка, из-за ее затылка, мягко скользнула по его сведенной судорогой руке.
В юрте главнокомандующего было темно, как во чреве кита. Машка дрожала и плакала, ее зубы звенели друг об дружку. Унгерн грубо дернул ее за руку, и рукав блесткой кофтенки затрещал по швам.
– Пустите!.. ах… Ну пустите же, господин барон, говорю вам… что вы ко мне…
Унгерн напрыгнул на Машку, будто ловил бабочку. Цапнул за плечо. За другое. Развернул к себе лицом. Машка отвернула голову, прижала к ключице подбородок. Прядь волос наискосок, как боевой шрам, прилипла ко лбу, к лицу. От Машки сильно, остро пахло сладким, смешанным с дешевыми духами потом.
– Вы пьяны, генерал!.. пустите…
– Нет, это не я пьян, а ты – пьянь последняя, шваль солдатская, циновка, грязная алкоголичка! – Унгерн еще раз грубо встряхнул женщину. – Ты, дрянь этакая!.. Ты спаиваешь порядочных, приличных дам! Ты спаиваешь Екатерину Терсицкую! Хоть ты и спишь с атаманом…
– Я с ним не сплю уже!..
– Я не собираюсь вас за ноги держать!.. хотите спите, хотите – нет!.. но это не дает тебе никакого права, ты, грязная тряпка!.. об тебя только ноги вытирать!.. одурманивать водкой нежное созданье!.. Я истреблю в своей Дивизии пьянство! Я должен был тебя наказать, Строганова, должен!.. высечь палками, голую, перед казацким строем… перед всей Сибирской сотней!.. а я еще лояльничаю, еще щажу тебя… Говори, зачем Катерину Терсицкую спаивала?!.. Хотела у нее в пьяном виде что-то… выпытать, да?!
Машка круглыми совиными обезумевшими глазами взглянула на барона. Рванулась вбок – вырваться, выбежать из генеральской юрты. Унгерн вцепился в ее кофточку, рукав пополз вниз, разорвался, и в мечущемся свете свечи блеснуло белое полное плечо, вывалилась наружу, как темно-желтая тыква, наливная грудь со слишком темным, почти черным соском, и в тусклом свете свечи Унгерн увидел на Машкином плече татуировку – искусно выколотый знак «суувастик», черный крест с хищно загнутыми, будто паучьими или жучиными, крючковатыми лапками.
Увидел – да так и застыл, с оборванным ее рукавом в кулаке.
И она опустила лицо, нашарила взглядом голое свое плечо, поняла, что он увидел наколку, – и медленно, медленно, уже сгибаясь в судорогах слез, закрывая красное, потное лицо руками, опустилась перед Унгерном на пол юрты, на колени.
Так стояла перед ним на коленях – плачущая, заслонив ладонями лицо. Корчилась в рыданьях.
– Свастика, – медленно, растягивая слоги, сказал барон. – Так вот какое оно дело. Свастика. – Он схватил цепкими пальцами-крючьями Машку за плечо, потом внезапно нежно, еле слышно погладил черный кривой крест. – Вот оно как все обернулось! – Он отшагнул от Машки. Холодно наблюдал, как она рыдает. – Откуда этот знак у тебя?
Машка плакала.
– Ты была связана с монгольскими патриотическими движениями? Это тебе наколол любовник?.. Китайский художник по телу?.. Или это шпионский знак?.. Знак, по которому тебя должны отличить свои?.. Или… тебе… изобразили его насильно?.. И ты билась и кричала, а в тебя втыкали длинные иглы, обмокнутые в краску… и стискивали твою кожу ногтями, чтобы краска под кожу глубже проникла, а ты вырывалась, связанная по рукам и ногам, и бессильно кричала?.. Что для тебя… – он положил руку на затылок плачущей Машки и с силой отогнул ее голову назад. Увидел ее залитое слезами лицо. – Что для тебя значит этот знак?
Машка рыдала. Красное, слезное озеро лица. Распатланные пряди давно немытых волос. Бывшая ресторанная звезда, ты давала всем направо и налево, ну, китайцу-татуировщику однажды дала, у него денег не было тебе заплатить за ночь, он договорился с тобой, что украсит тебя навечным украшением. Восточным священным крестом. Разве не так это было?!
– Ничего… клянусь всем самым… – Она оскалилась в отчаянном плаче. – Жизнью клянусь своей, Роман Федорыч!.. Ни-че-го!.. не… зна-чит…
Он отшвырнул ее голову от себя. Машка не удержалась на коленях, грузно, кучей, мешком с отрубями упала, повалилась на шерстистый грязный, истоптанный сотней сапог пол командирской юрты. Падая, она зацепилась локтем за край обитого кованым железом сундука, прикрытого дырявой женской шалью, и ободрала себе до крови локоть. Шаль сползла с сундука вниз. Машка стрельнула глазами в темноту. За сундуком в углу юрты возвышались еще сундуки, прикрытые старым тряпьем – огромные, массивные, в них можно было слона держать, зерно перевозить. Зачем барону такие сундуки и что он в них хранит?.. Оружие, должно быть… Ну не золото же!.. Унгерн шагнул к сундукам. Пристально глядя на распростертую на полу Машку, осторожно прикрыл сундуки траченной молью ветошью, безрукавными латанными гимнастерками, охвостьями разрезанными на тряпки солдатских штанов.
А ведь она отлично помнила все.
Она помнила, как она кусала рот, как закатывала глаза, как слезы сами, рекой, лились по ее щекам. Это оказалось действительно очень больно. Не больнее, чем терять девственность; не больней, чем получать пулю в ногу или руку; не больней, чем накладывать на рану, полученную казацкой шашкой, кустарные швы не у хирурга – у ангарского рыбака, шьющего порез крепкой рыболовной лесой. Тот, кто выкалывал у нее на полном белом плече древний знак «суувастик», сцепил зубы, не проронил ни слова. Окунал иглу в тушь, вонзал в сдобное женское тело. Машка корчилась, скрипела зубами. Только однажды, когда она не выдержала и взвизгнула – художник слишком далеко загнал иглу под кожу, вколол краску во вздувшуюся мышцу, – он разжал зубы и процедил: не ори, иначе свяжу тебя, как жертвенного барана, и взнуздаю. И она замолчала. И лишь всхлипывала. Как щедро плачет в жизни баба! А глаза мужчины сухи. Слезы даны женщине для того, чтобы облегчить участь свою. И для того, чтобы мужчина разжалобился, пожалел, утешил ее, а не пнул в бок, как старую собаку, сапогом.
Тот, кто выкалывал у нее на плече древний пустынный крест, окончив работу, вставил все рабочие иглы в морскую губку, плотно завинтил пузырек с тушью и, отойдя на два шага назад, обозрел сделанное. «Недурно». Зачем ты это сделал со мной, выдохнула она, зачем?! Ей казалось – над ней надругались. «Тебя по знаку „суувастик“, женщина, отличат в сужденный день».
Он вышел, забрав с собою все свои пузырьки, флаконы и иглы, и хлопнул дверью. Она тяжело повернулась на ветхом диване с торчащими, впивающимися в бок пружинами. Изогнулась. Сорвала грязную тряпку с глаз. Яростно кинула в зев жарко пылающей печи.
Номера знаменитейшей ургинской бандерши Фэнь всегда хорошо отапливались в холодные зимы, чтобы девушки не испытывали неудобств при раздевании и одевании.
Машка так и не увидела лица мастера.
И зачем он прожег черной китайской тушью у нее на плече кривой крест, она не узнала.
Сужденный день. Судный день. Ее, шалаву, Богу есть за что судить.
* * *
Атаман Трифон Семенов, правая рука барона Унгерна, цин-вана и предводителя великих освободительных войск Азии, был убит.
Он был убит не в бою, не в схватке, не при штурме крепости, не в сражении либо в единоборстве с достойным противником: его нашли мертвым в юрте у Машки, его полюбовницы.
* * *
Тихо. Двигайся совсем тихо. Если она шевельнется – застынь. Если откроет глаза, увидит тебя, закричит – быстро закрой ей рот ладонью. Хорошо, она не поставила охраны около юрты. И, кажется, она спит одна, Машка нынче отпущена, ночует у себя в юрте.
Шаг. Еще шаг. Как пахнет свечным нагаром. Долго, допоздна жгла свечу, должно быть. Или плошку с жиром. Он присел на корточки у ее изголовья. Глаза привыкали к темноте, мрак из кромешного становился туманной полутьмой. В карем плывущем тумане Осип различил Катину белокурую голову на подушке, разметавшиеся волосы, голую светящуюся руку поверх одеяла. Сильно пахло нагаром, кожей шкур, лекарственными каплями. «Должно быть, это и есть ее зелье, успокоительное, бром», – растерянно подумал Осип, протянул руку, стал шарить около ложа. Так и есть! Тесак лежал рядом с изголовьем, на лиственничном распиле, служившем вместо табурета. Отлично придумано, она клала нож рядом с собой, бедная девочка, чтобы защититься.
Он, ухватив нож, осторожно поднял руку – и тут его запястье обхватили тонкие цепкие пальцы. Пальцы вжимались в его руку все сильнее, жесточе. Вместо лица у него сделалась жаркая кровавая красная маска, стыдом налились глаза.
Он глупо сидел на корточках перед Катиной постелью, она впивалась пальцами в его запястье.
– Катерина Антоновна, я…
– Это мое. Положите на место.
– Катерина Антоновна, это я, Осип… Вы уж простите…
Он по-прежнему держал нож над ее головой. Во тьме блестели ее глаза.
– Ах, Осип.
– Как это… ваше?..
– Отдай. Не смей! Это память. Я сохраню его. Это с кухни…
Она замолчала. Он видел, как закрылись ее глаза. Он выпустил тесак, он упал на подушку рядом с ее плечом. Она прижала руку к губам. Накинула подушку на нож. Легла грудью на подушку. Выдохнула:
– Осип, останься. Мне страшно. Поговори со мной. Ты же не вор. Ты же не вор, правда?.. Ты же не против меня?.. Ты – со мной?..
Он слышал, как дрожит ее голос. Ему стало беспредельно жаль ее. Все больше она казалась ему маленькой девочкой, попавшей во взрослый тяжкий переплет, девочкой, которую надо было взять на руки, закутать, упасти от мороза и беды, утешить, укачать. Он порывисто взял в руки ее лицо. Отдернул руки, как от огня.
– Ох, что делаю, простите… Не плачьте только, не судите… Я с вами… Я вас не оставлю… Я… Да я же помогу вам!..
– Т-ш, не кричи…
– А что, Машка здесь спит али у себя?..
Она села в постели. Ее глаза снова горели в темноте, как у рыси.
– У себя… Только не вздумай… не подступай…
У него полымем горело все лицо, шея, грудь.
– Да вы что, Катерина Антоновна…
– Какая я тебе Антоновна, брось все эти реверансы…
Они шептались во мраке юрты, как дети, как заговорщики. Он, чувствуя, как дрожат колени и пот течет по вискам, сел по-татарски, согнув колени, у Катиного изголовья, не сводя с нее глаз, как с иконы. Он почувствовал скорее, чем увидел – она улыбается в темноте.
– Катерина… – Ее рука коснулась его щеки. Он поймал ее руку рукой, губами. – Катюша… А вы… вы-то сами… как про все про это думаете?.. только как перед Богом… без обмана…
– Ишь, исповедник нашелся… Все-то тебе вынь и выложь… Думаю?.. Я не думаю, Осип… Я – боюсь… Я, знаешь, кого боюсь?..
– Кого?..
Он сунулся к ней ближе. Душистая лилия ее руки снова мазнула его по щеке, снова его губы на миг прижались к бархатистой коже. «Вот они какие, барыни, коварные», – задыхаясь, подумал он. Она низко наклонилась над ним, и ее волосы коснулись его щек, обожгли, как струистые пряди огня.
– Себя…
– А тех… ну, мумий… скелетов… в той пещере… ты не боялась, хочешь сказать?..
– Боялась… Очень…
Уже две руки взмахнулись, легли ему на плечи, отдернулись. Он успел коснуться щекой нежной кисти. Живое женское тело. Нежная женщина. Вдова атамана. Ночь. Юрта. Они одни.
– Не смущайся, я б тоже боялся… Давай с тобой найдем ту пещеру…
– Так тебя… – Его губы в забытьи приблизились к кружеву сорочки на плече, коснулись топорщащихся, пахнущих духами оборок. – Тебя ж сам Унгерн обязал заниматься поисками, не правда ли?..
Его пальцы нашли ее пальцы, сплелись с ними.
– Не только меня… Еще Николу Рыбакова… и… Иуду…
При имени Иуды она вздрогнула. Выдернула пальцы из его руки.
– Да. Иуду. Я знаю.
Ее голос в ночи стал холоден и далек. Будто бы доносился с горы.
Он испугался, смутился. Тьма колыхалась вокруг них плотным пологом.
– Иуда этот твой…
Она сжалась в комок, натянула простыню на плечи.
– Не мой.
Он понял это по-своему.
– Иуда этот ваш… Не верю я его темному лицу. Катя, Катя! – Он снова сунулся к ней. Она отодвинулась на кровати. – Не верю! Проверьте его – вы! Прощупайте! Подергайте-ка! Темный он человек, Катюшенька, темный, я-то уж чувствую, я ведь охотник, росомаху от соболя, даст Господь, отличу! Тьма за ним стоит, за вашим Иудой… тьма!..
Катя молчала. Тьма сгущалась вокруг них, молчащих. Потом она прерывисто, как после плача, вздохнула и сказала холодно, тихо, как ударила ножом:
– Осип, уходи. Иди спать.
Он встал с полу. Его колени оказались напротив лица Кати. Не помня себя, не сознавая, что делает, он резко склонился и прижался сухими жаркими табачными губами к ее затылку, к теплому пробору. Отпрянул. В мгновение оказался у двери. Отшвыривая шкуры, пробормотал: простите, простите, Катерина Антоновна.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.