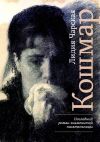Текст книги "Тень стрелы"
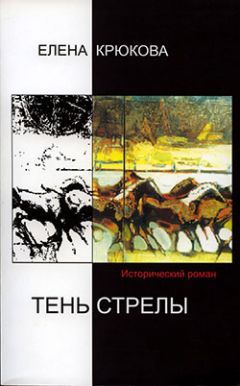
Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
Праздник цам
Тебя, о священный бык Оваа, веду до первой воды; и там, на берегу, прежде чем принесу тебя в жертву богам, я отдамся тебе.
Заклинание урочища Мугур-Саргол
Счастье, что она отлично ездила верхом. Счастье, что она держалась на коне, будто рожденная вместе с конем. Она несколько раз чуть не падала с коня от слабости, мгновенно охватывавшей всю ее, но Иуда был рядом. Он был все время рядом. Он подхватывал ее за талию, сливался с ней в скачке седло к седлу – так скачут, тесно прижавшись друг к другу, монголы, юноша и девушка, на народной игре «свадебные догонялки».
Колкие снежинки иглами прокалывали их лица. Иуда пришпоривал коня. Он торопился. Он понимал: барон запросто снарядит за ними погоню, как снарядил ее за поручиком Ружанским. А повесить их обоих на Китайских воротах близ лагеря ему ничего не будет стоить.
– Скорей, скорей! Девочка моя… прелесть моя… держись…
Она держалась. Она не вываливалась из седла. Она сидела в седле по мужски – чуть наклонясь вперед, обхватив ногами, согнутыми в коленях, щиколотками и икрами, потные бока Гнедого. Как хорошо, что Осип Фуфачев далеко не увел ее милого коня. Оставил его около юрты барона. Оставил – сторожить, провожать ее в смерть. А Иуда разбил стакан со смертью вдребезги. Теперь его смуглые руки пахнут горечью, полынью.
– Скоро мы доскачем?..
– Тебе холодно, любовь моя?.. Ты замерзла?.. скоро, скоро…
Они доскакали не скоро. Вьюжная ночь была вечной. Когда они спешились у монастыря Гандан-Тэгчинлин, что стоял на высокой горе Богдо-ул, Катя задыхалась – от слабости, от ужаса пережитого, от невозможного побега. Ведь она совсем ничего не взяла с собой из лагеря. Ее сумочка с деньгами, керенками и долларами, сундучок с ее вещами, ее бумаги, ее записные книжки, ее драгоценности, ее шубки и платья – все осталось там, в ее юрте, и теперь Машка наверняка будет владеть всем этим жалким и памятным человечьим, бабьим добром.
Она убежала из ставки Унгерна в чем была – в шелковом малиновом дэли, в штопанном на локтях старом тырлыке с чужого плеча.
Два мрачных каменных льва сердито смотрели на них с высоких постаментов, возведенных около Святых, южных, ворот Гандана. Ночной холодный ветер развевал дарцоги – привязанные к ручкам монастырских дверей длинные разноцветные лоскуты с нарисованными на них черной китайской тушью молитвами, и эти сверкающие цветные лоскутья вились в непроглядной тьме, возжигая черноту и белизну ночи яркими огнями. Иуда, сняв с тяжело дышащего коня Катю – ребра Гнедого ходили ходуном, они скакали так быстро, как выдерживали лошади, слава Богу, не загнали, не запалили их, – повел ее, бережно поддерживая за талию и под локоть, к крыльцу голсума – главного храма. Около крыльца тоже стояли каменные львы, только маленькие. Катя не выдержала, наклонилась, протянула руку и погладила одного из львов по загривку, мазнула пальцем по носу.
– Какие страшные, Иуда!.. они похожи не на львов… на собак… на крокодилов с выпученными глазами… дикие…
– Эти чудовища, родная, охраняют главную святыню Гандана – бронзовую статую Очирдара.
– Кто такой… Очирдар?..
– Ваджрадхара, Будда, держатель молнии-ваджры. Хранитель всех тайн, земных и небесных.
– И… нашей тайны?..
– Ты вдова. Ты не должна думать ни о чем. Мы обвенчаемся.
Он крепче сжал ее локоть. Они поднялись по ступеням крыльца, Иуда толкнул тяжелую дверь храма. Они вошли внутрь молитвенного зала, и Катя зажмурилась.
Никогда еще, ни в одном православном храме, она не видала такой красоты; зал в Да-хурэ не шел ни в какое сравнение со здешним царским великолепием. Бесчисленные Будды обильно украшали северную стену голсума. Сколько же их было тут! Катя сощурилась. Золотые, серебряные, Боже мой, нефритовые, медные, бронзовые, обсидиановые… глиняные, деревянные, яшмовые, янтарные, сердоликовые… выточенные из слоновой кости, маленькие и большие Будды сидели на полках, глядели из ниш северной стены; шелковые цветные полотнища огромных расписных, расшитых золотом мандал, пестрые дарцоги свисали с потолка, висели по стенам; ковры, выделанные не хуже, а может, и искуснее мандал, ложились Кате и Иуде под ноги.
– А можно наступить?.. такая красота, я боюсь…
– Можно. Будда разрешает тебе. В этом храме молилась, между прочим, китайская принцесса… Ли Вэй, та самая, жена…
– Романа Федоровича?..
– Да, жена Унгерна. – Иуда плотнее сжал губы, словно не хотел говорить. Против воли у него вырвалось: – У них здесь, в Гандане, и свадьба была.
– Я никогда не видела монгольской свадьбы…
– Мы с тобой не будем венчаться по монгольскому обряду, успокойся. Унгерн венчался по китайскому обычаю.
– Это как?..
– Потом расскажу. Постой здесь. Я позову Доржи.
Он оставил Катю около бронзовой статуи Будды, сидящего в позе лотоса в глубине храма. Около гладкой, бронзово-золотой фигуры со скрещенными ногами и скрещенными на груди руками теплились лампады, плошки с жиром, восковые – белые и темно-медовые – свечи. Катя не знала, что это и есть Очирдар. Будда Очирдар глядел ласково, кротко, на его подкрашенных киноварью бронзовых устах играла улыбка. Он был похож на женщину. Катя украдкой прикоснулась к гладкому отблескивающему золотом колену Будды, мирно лежавшему на тяжелой бронзовой ступе. Господи, сколько же на нем украшений! И на лбу – диадема, и на ней – крошечные фигурки Будд, и по ободу – самоцветы… какое чудо, это, наверное, сказочная индийская шпинель, а вот это звездчатые сапфиры, она о них только в Библии читала… Сапфир царя Соломона… Как же, как же это было выцарапано внутри его кольца?.. «ВСЕ ПРОХОДИТЪ»?..
И Будда тоже знал, знал о том, что все проходит… И это – пройдет…
Она стояла, разглядывала знаменитого на весь монгольский мир драгоценного Будду и не заметила, как к ней сзади подошли Иуда и с ним – одетый в густо-малиновое одеяние лысый лама. У ламы светилась в ухе крошечная золотая серьга. Когда он заговорил с Иудой, Катя поняла, что они говорят не на монгольском языке – она знала уже довольно много монгольских слов; они говорили по-тибетски. Доржи был тибетец. Катя впервые услышала лязганье, медный звон высокогорного, странного, как орлиный клекот, языка, непохожего на другие, – языка царственных Далай-лам и отшельников, владеющих внутренним теплом – тумо, – тех, кто мог сидеть сутками нагишом на морозе и не чуять холода. Цзанг-донг, цзанг-донг…
– Моя жена Катерина.
Лама поклонился.
– Очень приятно. Господин Доржи.
Его русский был безупречен. Тибетец, а имя монгольское. Лама повернул перстень, сияющий в свете лампад на его пальце, печаткой внутрь. Катя успела заметить: печатка в виде древнего санскритского знака.
– Вы устали. Вы должны отдохнуть. Вы проделали путь. Я провожу вас в свой дом. Вы побудете немного у меня. Так решил Иуда. Так надо для вашей безопасности, – лама слегка поклонился Кате, прижав локти к туловищу. – Еду и питье вы найдете в доме. Я должен остаться сейчас здесь, в голсуме. Если вы заснете до моего возвращения, я не буду вас будить, а вы не услышите, как я приду. Если вы не заснете – выпьем вина. Из Англии мне недавно доставили замечательное вино, я хотел бы угостить вашу супругу, Иуда Михайлович.
Зачем он наврал, что мы супруги, подумала Катя, закусив губу. Не надо обманывать людей перед Господом.
«Брось, ты была с ним один раз, и это уже было венчание. Ты ощутила, поняла больше того, чем ощущает и понимает всякая другая женщина, прожив в браке хоть сто лет. Ты его жена уже. Ты ему более чем жена».
– Я с удовольствием выпью с вами вина, Доржи, – улыбнулась ламе Катя. – Вы превосходно говорите по-русски.
– Я сражался рядом с Джа-ламой в Астрахани и на Каспии. Учился в Петербурге философии. Я думал продолжить стезю Иакинфа Бичурина, русского священника, просветителя в Кяхте и Китае. Когда-то я мечтал об этом, госпожа Семенова. Может быть, мне это еще удастся. Когда закончится война.
«Госпожа Семенова, – подумала она, оглядываясь на статую улыбающегося Очирдара, – как это, оказывается, удобно, если убьешь мужа и выйдешь замуж за его брата. Та же фамилия, привычная, родная».
Владыка повелел устраивать священный праздник Цам на площади перед монастырем Гандан-Тэгчинлин. Катя никогда не видела Цам, и Доржи, прискакавший откуда-то утром на коне, весь взмокший – его дэли пропотело насквозь, – улыбнулся: ну да, вам, Катя, надо бы это увидеть. Хоть раз в жизни. «А что, разве я больше никогда не буду в Монголии?» – хотела было спросить Катя – и тут же подумала: неужели это все, все, что происходит с нею здесь, когда-нибудь да кончится… «В МОЕМ КОНЦЕ МОЕ НАЧАЛО», – вспомнила она тибетскую мудрость, что ей прочитал на память Иуда.
Иуда все это время был с нею безумно нежен, таинственно ласков. Они жили в доме Доржи. Они больше не говорили о гибели Семенова. Они оба молчали.
Она глубоко внутрь души загнала свое подозрение. Он – ни разу более не допытался у нее, как да что было тогда, той страшной ночью.
Нарядно одевшись, Катя и Доржи отправились на площадь перед монастырем Гандан. Иуда попросил Доржи купить Кате одежду в лучшем ателье Урги – у мадам Чен. Она, расцветшая в любви, сейчас просто источала очарование и благоухание, как миг назад распустившаяся белая роза; ей все было к лицу. Одев ее, Иуда смахнул невидимую пушинку с рукава ее белого, с пышными кружевами, платья из легкой марлевки, с юбкой чуть более короткой, чем предписывала мода этого года – мадам Чен следовала новомодной парижской школе Коко Шанель. «Ты не пойдешь с нами на Цам, Иуда?» Она знала, что он ответит. «Нет. Не пойду. Меня никто не должен видеть в Урге. Ни один человек из Дивизии. Тем более барон. Думаю, что нынче он пребывает в Урге. Большой праздник. Он наверняка на приеме у Богдо-гэгэна. И наверняка Богдо потащит его с собою на Цам. Ступайте с Доржи одни. Будем считать, что Доржи – твой телохранитель. Он спасет тебя от любой опасности». Он обнял и поцеловал ее – в светлый пробор, легко, чуть коснувшись губами.
Утро. Утро праздника Цам. Солнце затопляло Ургу желтыми кипящими сливками, захлестывало сухой, пронимающей до костей жарой. Морозы здесь жгучие; жара – еще невыносимей. Катя косилась на бритого коричневолицего молодого ламу, спокойным широким шагом идущего рядом с ней. Он ни разу не коснулся ее, не поддержал под руку. Глядя на его широкоскулое лицо с очень косо стоящими и очень узкими, как черные кедровые иглы, бесстрастными глазами, она испытывала странное волнение. Доржи, как многие араты, был высокого роста, стройный, но не широкий в плечах, как Иуда, а скорее узкий, весь длинный, как большая рыба, осетр или таймень. Когда он обращал на Катю свои узкие смоляные глаза, ей казалось: она может читать его мысли. «Ламы владеют техникой внушений. Что он хочет мне сказать?» Ее ноги шли быстро, торопливо по залитому солнцем деревянному тротуару, каблук попал в трещину между досок, она оступилась, вскрикнула. Вытащила из туфельки ногу. Стояла на одной ноге, держась за заплот.
Доржи быстро опустился на одно колено, вытащил из щели застрявший каблук, протянул туфлю. Глядел на Катю снизу вверх.
– Надевайте туфлю. Мы опоздаем. Я хочу, чтобы вы увидели Цам с самого начала.
Когда Катя всовывала ножку в туфлю, руки Доржи на миг обвились вокруг ее щиколотки и сжали ее. Солнце било ей в лицо. Она сделала вид, что ничего не заметила. Улыбнулась: мерси, вы так галантны.
По площади около монастыря уже шли переодетые докшитами, небожителями и грозными воинами ламы. Они двигались странно и причудливо. Вон огромный, в два человеческих роста – на ходулях, что ли?.. – красногубый и лиловолицый докшит с ушами, как у слона, с высунутыми вперед тигриными зубами, выделывает медленные па, в завораживающем танце поднимает руки – да не руки, а чешуйчатые лапы с когтями. А вон, вон, глядите-ка, кто это?.. Маленький, юркий, быстрый, как зверек, пригибается к земле. И мордочка звериная – то ли выдра, то ли горностай. И одежда вся из шкурок. А это кто?.. О Боже! Птица! Женщина-птица!
Катя воззрилась на женщину-птицу, что шла, раскинув руки-крылья над чудовищными масками и над прокаленными камнями площади, будто летела. Она делала каждый шаг, высоко, до подбородка, поднимая ногу, будто бы плясала парижский канкан. Ее раскинутые руки были обвязаны ремешками, ремнями, веревочками, обкручены досками, похожими на ребра; в ремнях блестели железные слезы заклепов. Железные крючья, изображая птичьи когти, торчали из-под крыльев, тщательно сшитых из выдубленных шкур. Сбитые крестовины палок, палочек, косточек и реек поддерживали крылья снизу, растопыривая их, и они поднимались на ветру, Казалось, птица вот-вот взлетит. Лицо женщины было безмятежно. Она улыбалась. Вместо носа у нее на лице торчал крючковатый медный совиный клюв. Ее ноги были обнажены до середины бедер, а сзади, за крыльями, длинный шлейф из серого шелка мышиного цвета волочился по камням площади.
– Женщина-птица, – негромко сказал лама. – Раньше, века назад, после праздника Цам ее приносили в жертву богам. Сбрасывали с обрыва. С вершины горы Богдо-ул. Вы ведь не хотите, чтобы вас принесли в жертву, Катерина Антоновна?
Она вздрогнула. Пещера. Та пещера. И она – жертва.
Она могла бы стать жертвой.
Чьей? И какому Богу принесли бы в жертву – ее?
– Нет, Доржи.
– Поглядите направо. Видите? Уже звери пошли. Слуги докшитов. Волки, быки. Какой красивый священный бык Оваа! Я сам однажды на празднике Цам был быком.
Катя глядела во все глаза. Шли роскошно разодетые, в шелка и парчу, люди с головами волков. Серые зубастые морды торчали над соцветием ярких дэли. Шли, пританцовывая, бодая воздух рогатыми башками, люди-быки, наряженные в темно-синие и черные шкуры; у них были слишком большие для быков рога, длинные, тонкие, извилисто изогнутые; с бычьих шей свисали тяжелые золотые украшения, похожие на мониста. Один человек-бык, в черной, расшитой золотыми звездами шкуре, катил перед собой маленькую колесницу. В колеснице сидела нагая девушка, сложив на груди руки. Она улыбалась. Нет, Катя разглядела, она была не совсем нагая, на нее, голую, было наброшено прозрачное покрывало, на запястьях и на лодыжках светились сусальным золотом толстые браслеты, на голове мерцала изумрудами и бирюзой темно-золотая корона в виде трехзубой молнии-ваджры. Девушка была вся зеленая, цвета свежей травки. Казалось, ее окунули не зеленую краску, а в болотную ряску, и ряска так и застыла на ней.
– Зеленая Тара, – пояснил Доржи, наклонив лысую голову к Кате. Ветер взвил кружева Катиного платья, оборка рукава нежно коснулась руки ламы. – А скоро появится и Белая. Вы знаете, кто такие Тары, Катя?
– Нет… Богини?..
– Женские воплощения Будды. Видите, у нас не как у вас. Ваш Христос не может же быть женщиной? А наш Будда может. Он вселяется во всех. Он – везде.
– А тот красный бык…
– Это и есть Оваа. Он несет на рогах Солнце.
– Какие они все красивые, Доржи… хотя и страшные… такие есть страшные маски – во сне приснятся, закричу…
– Не бойтесь. Это все понарошку. Прошли те времена, когда на празднике закалывали двух быков – красного и черного, и с ними девушку, царевну Чааты. Знаете, это было так красиво, сражение двух быков. Есть старая наша песня, ее раньше пели на празднике Цам:
Выйдя издалека,
Сходятся два быка,
Два быка, два царя,
Будто в бой не решаются,
Исподлобья смотря,
Тихо, грозно сближаются.
Лама пропел эти слова тихо, как бы себе под нос, даже слегка отвернувшись от Кати, а допев, вдруг резко повернул к ней лицо, и она вспыхнула, как от удара плетью.
– Это очень красиво.
– Битва за женщину всегда красива.
– Быки бьются за женщину?..
– За царевну Чааты. Бык, который побеждал, брал в жены царевну прямо на площади, в белом шатре, который разбивали тут же для этого священного танца двоих.
– А потом их что, все равно убивали?..
– А как же. Жертва священна. Так предписано богами. Это все не люди придумали. Это завещание богов. Слышите музыку?.. Слышите?.. Это ганлин.
Люди в страшных масках, шествующие рядами, внезапно закрутились в бешеном, неистовом танце, став похожими на огромные цветные волчки. В воздух вздымались ярко-малиновые и желтые, как таежные жарки, куски халембы. Будто бы на площади вдруг вспыхнули костры, заполыхал пожар. Монголы, обступившие площадь, гортанно запели, захлопали в ладоши.
– Ганлин?.. Что такое ганлин?..
– Дудка такая. Вроде вашего европейского гобоя. Ее делают из берцовой кости человека. Ганлин заиграл – значит, скоро появятся Восемь Ужасных. А с ними и Жамсаран. – Доржи протянул руку и внезапно громко крикнул, оглушив Катю, и Катя отшатнулась, зажав уши: – Вот он!
Какой жуткий. Какой гадкий! И звук этой адской дудки, сделанной из костей человека, стал так пронзителен, что Катя снова зажала ладонями уши. До чего зверская морда! Зубы торчат из пасти! Чудится, с клыков капает красная слюна… Рядом с ним важно выступают его слуги – у одного в руках наперевес обнаженный сверкающий меч, готовый разить врагов, у другого, одетого в длинное черное дэли, расшитое красными огненными цветами, в высоко поднятой над дикой маской руке – чаша.
Катя вскрикнула и закрыла глаза. Череп! Человеческий череп!
– Габала, – спокойно произнес лама. – Из габалы пьют кровь герои. Катя, вам дурно? Не бледнейте. Это же праздник. Всего лишь праздник, Катя.
Маска Жамсарана была такой большой, что он выступал на голову выше всех ряженых. «Ему тяжело ее нести на себе», – прошептала Катя одними губами. Трубы и дудки завыли, загудели, как волки в степи. Мороз прошел по телу Кати, несмотря на то, что солнце стояло в зените, обдавая народ желтым жирным молоком жары. В одной руке Жамсаран держал меч, выкрашенный красной краской, похожий на язык огня; в другой – картонное сердце, облитое краской-кровью. Над его головой торчали пять военных знамен-вымпелов, к их навершиям были привязаны, мотались на жарком ветру пушистые клочья заячьего и беличьего меха. Доржи коснулся руки Кати, ее голого локтя.
Она вздрогнула.
Лама впервые коснулся ее.
Там, где он прикоснулся к ней, ее кожу закололо иголками. Будто бы в нее воткнули длинные золотые иглы, которыми китайские врачи излечивают все на свете хворобы.
– Что, что?..
– Это Чойджал!
Человек-олень с раскидистыми позолоченными рогами и человек-бык, с рогами посеребренными, делали такие сумасшедшие прыжки, так выбрасывали в стороны ноги, так скрещивали руки и вертелись на одной ноге, будто хотели подняться в воздух, взмыть над площадью; а за ними, важно ступая, шла самая громадная маска праздника Цам – синий чудовищный бык, с открытой пастью и оскаленными зубами, с тремя глазами, с загнутым вверх кончиком расплющенного носа. Пять позолоченных черепов мотались на груди быка. На концах рогов сверкали под солнцем медные языки, изображающие пламя. Человек-Чойджал танцевал в черном платье с вышитыми по нему золотыми драконами, с горловины платья, с плеч, с рукавов – отовсюду свисали яшмовые четки, крошечные зеркала, колокольчики, и, когда Царь-Бык подпрыгивал, колокольчики звенели. В правой руке Чойджал держал посох в виде скелета, в левой – аркан с кольцом и железным крючком. Катя, сама не сознавая, что делает, крепко, до боли вцепилась в руку ламы.
– О, о, что это!.. Зачем скелет!..
– Он отгоняет им злых духов.
– А это кто, за ним!..
– Это Золотой Дракон, девочка.
Он крепче сжал ее руку. Не выпускал. Катя, вне себя, глядела, как важно ступает Синий Бык, как бешено крутятся идущие следом за ним его слуги, как ползет по раскаленным камням храмовой площади дракон с золотой крупной чешуей, и золотые монеты отваливаются от картонного хвоста, и к ним бросаются раскосые дети – подбирать их, ведь это считается удачей, если хоть чешуйку с хвоста Золотого Дракона на празднике удастся подобрать; а трубы все взвывали, рвали уши, ревели и гремели, заглушая голоса, и крики пронзали копьями жаркую полдневную духоту, и все сильнее лама сжимал руку Кати, так, что ее пальцы прилипли друг к другу.
«Девочка, лама назвал меня девочкой, зачем», – смутно пронеслось в голове Кати, а Золотой Дракон вертел головой, и в золотом черепе горел рубиновый глаз, и странный светлый луч бил из глаза наотмашь, прокалывал белую пустоту, врезался в лица, наблюдая их, запоминая. На миг Кате почудилось: дракон видит ее насквозь, дракон может убить ее острым, как нож, лучом. Лама внезапно выпустил ее руку.
– Кто такой Чойджал, Доржи?.. – Она сжала занемевшие пальцы в кулак и покраснела. Трубы вскрикивали, как люди. Дракон медленно волочил золотой хвост по мостовой.
– Человек. Он был когда-то человеком, как все мы. – Лама тонко улыбнулся. С его голой головы крупными каплями по лбу и вискам скатывался пот. Солнце пекло нещадно. Он отер пот рукавом монашеского красного плаща. – Он был последователем религии бон в Тибете. Он дал обет. Провел отшельником в пещере в горах пятьдесят лет. Однажды, когда ему оставался всего один день до конца его заточения, в его пещере укрылись воры с украденным быком. Воры убили и быка, и старого отшельника – чтобы никто не был свидетелем их преступления. Но только пролилась на камни пещеры кровь и быка и человека, как Чойджал вскочил, схватил голову мертвого быка, надел ее себе на плечи…
Катя слушала, открыв рот. Музыка гремела, заглушая слова Доржи.
– И что?..
– И превратился в демона, владыку подземного мира. Он убил воров и пожрал их сердца.
– Пожирать сердце… Вырывать из груди и грызть… Это у вас, монголов, в крови такая жестокость?.. Вы так недалеко ушли от зверей?..
– А разве ваш ветхозаветный Бог не разит направо и налево, топя города и поселенья в море крови? И ваш Самсон разве не побил целое войско филистимлян ослиною челюстью? А ваши римские императоры разве не жгли христиан на деревянных крестах? Не давали на съедение хищникам в цирках? Зачем вы рассуждаете о жестокости, не зная хорошо ее природы? – Лама усмехнулся. Указал на дракона: – Не правда ли, забавный? Вы знаете о том, что в Гоби до сих пор люди встречаются с драконами? И на берегах Хуанхэ тоже их многие видят. А вон, вон, глядите, львы! Они играют с Белым Старцем – Цаган Эбугеном, великим Ульгеном! Сейчас они нападают на него… но он их усмирит… даст им лакомства… и они лягут у его ног, как послушные собаки…
«Как послушная собака у твоих ног», – вспомнились ей слова Иуды, сказанные когда-то в монастыре Да-хурэ. Она опасалась глянуть в сторону Доржи. Ей вдруг показалось: лама через мгновенье тоже ляжет у ее ног, как этот человек, нелепо прыгающий на солнечной площади, смешно подвывающий, переодетый львом, с торчащей гривой из ваты, выкрашенной желтой масляной краской.
Пляшущий докшит Жамсаран, уже ушедший далеко вперед, внезапно обернулся, и Катя увидела между его красных оскаленных резцов похожую на паука черную дырочку.
* * *
Ганлин играет
Я в тягость. Я в тягость Монголии.
Войскам нужна еда. Мои солдаты должны жрать. Жрать, черт побери! Иначе они вымрут как мухи.
Хоть Богдо-гэгэн и обещал бесплатно кормить моих солдат, я понимаю – он устал. Мы слишком долго тут торчим. Мои солдаты уже беспрепятственно грабят и убивают. Они хотят есть. Они хотят есть!
Идти на север? В Россию?
Нас мало. Нас слишком мало против красной саранчи.
Идти на юг? В Тибет?
Да. На юг. В Тибет. Надо советоваться с ламами.
Что делал Александр Македонский в таком положении?
Что делал Аларих в таком положении?
Что делал Наполеон в таком положении?
Надо покупать оружие у Биттермана.
Он врет, что у него больше нет поставок. Они у него есть!
Это значит, что он кому-то еще продает оружие. Кому?!
Я узнаю.
Кто мне может помочь в новом победоносном походе? Богдо-гэгэн? Жалкий старый пьяница. Виноградов? Отчаянно храбр, но подозрителен. Семенова убили. А отличный был полководец. Мои палачи? Кожедубы. Тупые. Глупые. Могут лишь палками махать. Мои сотники? Может быть. Храбрые вояки. Джа-лама?
Джа-лама. Да, Джа-лама. Я никогда не забывал про него. Я всегда про него помнил. Он сам отдалился от меня. Красные слишком рядом. Я пошлю к нему гонца. Кого? Сипайлова? Он волком глядит в степь. Возможно, он когда-нибудь предаст меня. Бурдуковского? Ташура?
Я не знаю, что делал Чингисхан в таком положении.
Я знаю, что буду делать я.
Иуда снова ускакал куда-то. Катя молилась сейчас лишь об одном: чтобы его не убили. О, пусть его не найдет ни пуля, ни метко брошенный нож. Хорошо, что они здесь, в Урге, в укрытии. Какой добрый этот лама Доржи, что предоставил им для жизни этот маленький, бедный, неказистый домик – их первый совместный дом, их первое семейное жилье… Семейное?.. Она, потупив взор, пожимала плечами, краска взбегала ей на щеки. Семья – с Иудой?.. Она пугалась самого слова – «семья» – после семейной жизни с атаманом Семеновым. Ей казалось: она не должна заводить семью с любимым. С тем, кого она любит безумно.
Любит… Безумно…
А если… не безумно?.. А если…
Нежный печальный голос внутри нее, женский голос, говорил мерно и скорбно: «Любая любовь смертна, дорогая. Любая любовь обречена. Любая любовь – это лишь желание человека любить, всего лишь. Это желание живет в человеке дотоле, доколе он способен любить и влюбляться. На краю гроба старик любит и хватается за жизнь, и это не значит, что его любовь – вечна. Она исчезнет вместе с ним».
Чей это был голос? Ей казалось – это говорила, шептала ей на ухо та прелестная китайская девочка с той коричневой изящной фотографии, что показал ей однажды в «РЕСТОРАЦIИ» Разумовский. Она погибла. Кто ее убил? Иногда ей казалось – сейчас откроется дверь, и в дом войдут те, кто убьет ее.
И тогда ей становилось страшно, она сжималась, скрючивалась на кровати, подтягивала колени к подбородку, истово молилась Богородице.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.