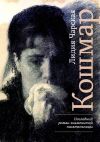Текст книги "Тень стрелы"
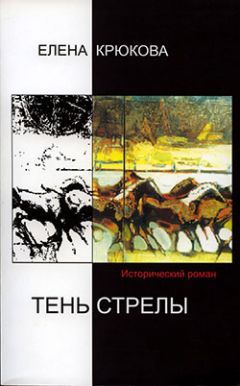
Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
«А куда нас всех ведут-то?..» – «А, друг ситный, похоже, красные на нас напали!.. Ружжо-то с собою в порядке?.. Защищаться ить будем!..» Казаки щурились во тьму, хлестали коней по крупам нагайками. Сабли били лошадей по бокам, всадников – по ногам. «Эй, паря, а каво замышляют?..» – «Да барона укнокать норовят!..» – «И-ишь!.. А он-то сам нас потом – таво… не укнокает?..» – «Выстрелы слыхал, ты, бык мирской?!.. Оглох, што ль?.. Начало-о-ось!..»
Он обвел лам глазами. Всматривался в каждого.
Ламы молчали.
Ламы не спали всю ночь – они пытались, путем воззваний и молений к Будде, достоверно предсказать и воочию увидеть в туманной дали всепоглощающего времени его судьбу.
Судьбу его – и его войска.
Будда не подавал знак. Тары безмолвствовали. Докшиты молчали. Небо не склонялось к их просьбам.
Мрак и молчание – тоже знак, однако.
«Ты будешь стоять перед черной пропастью, о цин-ван», – только и смог произнести старый, коричневый как старый дуб, сухолицый, весь в складках глубокий морщин, лама из храма Мижид Жанрайсиг.
Черная пропасть? О, это по-нашему. Он сразится с черным драконом?.. Он ступит на черный путь без возврата?..
Он уже сразился. Он уже ступил.
«Что меня ждет, вы, Посвященные?!»
Старый лама – единственный – встал из круга сидящих, молча уставивших глаза на огонь жаровни лам и сказал, чеканя слоги по-тибетски:
– Цин-ван, готовься. Небо занавесилось черным шелком. Золотой Кол выдернул Махагала, для того, чтобы сражаться им, как копьем. У тебя есть в груди мужество?
Унгерн усмехнулся. Белые глаза вспыхнули.
– Ты – меня – спрашиваешь!
– Тогда нам нечего тебе сказать.
Ламы были слишком напряжены, он это чувствовал. Ламы ловили звуки, шорохи напряженным слухом. Вытягивали шеи, внимая. Закрывали глаза, молясь.
Внезапно прямо рядом с его юртой, во мраке раннего зимнего утра, раздались выстрелы. Он отчего-то подумал – вот они, те таинственные преступники! Похитители его людей! Они проявились, вышли на свет!
Вскочил. Схватился за рукоять пистолета, расстегивая кобуру.
Голоса. Голоса! Голоса его людей! Его офицеров! Его солдат!
Ламы переглянулись. Раскосый старый лама печально посмотрел на него.
– О ты, страшный, ярко горящий, как предвечный Огонь при Конце Мира…
– Дьявол! – Дуло пистолета глядело ламе в лицо. – Конец – моего мира?!
Рванулся к двери юрты. Выскочил наружу. Пули, просвистев около него, прошли мимо. Вонзились в землю. Прострелили шкуру юрты. Улетели в снега, в небо.
Все, стрелявшие в него, промазали.
У стрелявших в него дрожали руки.
Они расстреляли все пули из всех патронов, бывших в барабанах – и не попали в него.
Он стоял в предрассветной тьме, стоял свободно, прямо, во весь рост, не прячась, не таясь, словно насмехался над убивавшими его. Вот они, он видел их – на расстоянии шести-семи шагов.
Предатели.
Виноградов. Несвицкий. Рубо. Суровцев. Ерофеев. Лаврецкий.
Лаврецкий, и этот с ними, новый…
– Стреляйте! – крикнул он громоподобно и медленно поднял свой пистолет. – Что же вы не стреляете, трусы?! Вы, шакалы?! Красные собаки?! А?!
Стрелявшие попятились. Упали на четвереньки. Ползли на животах прочь, в кусты за палатками. Не пригнулся, не упал на землю только один Лаврецкий. Миг он глядел в глаза барона. И барон – в его глаза.
И, вскинув выше пистолет, Унгерн стал стрелять.
Он стал стрелять в тех, кто полз по земле.
В того, кто стоял – ни выстрела.
А сзади уже бежали. И другие, обозленные, возбужденные, науськанные командирами, стреляли в него – из-за куполов юрт, из-за спин дико ржавших лошадей.
«Вот оно. Так должно было быть. Вот она, черная бездна. Ламы все чуяли. Я что-то делал неверно. Неправильно я что-то делал. Я хотел держать время, своих людей и всю Азию в жесткой железной рукавице рыцаря. Мое рыцарство не удалось мне. Но ведь все мои предки умерли в бою. Вот он, твой последний бой, барон Роман Унгерн фон Штернберг. Гляди в лицо своей смерти! Род свой – не посрами!»
Перед лицом гибели он думал не о том, сколько людей в этой жизни погубил он сам. Скольких забил палками. Скольких повесил. Скольких послал под пули. Скольких уморил голодом. Скольких – в походах – застрелил, чтоб не мучились от воспаленных ран, отправил под лед, бросил замерзать в снежной пустыне. И ради чего? Ради своей великой идеи – Азия, Азия превыше всего.
Он думал о том, как бы ему остаться храбрым и благородным перед Неизбежной Чернотой, как – не ударить в грязь лицом перед Вечной Белизной.
Он был озабочен тем, как достойно встретить смерть.
Отстреливаясь, он вспомнил о том, что у него под полой княжеской желтой курмы, за отворотом, зашита крошка цианистого кали, что он отобрал когда-то у подосланного к нему китайцами хорунжего Немчинова. Что лучше – яд или пуля?! Что достойней рыцаря?! Яд хорош для несчастного влюбленного. Он воспользуется ядом, только если его возьмут в плен. Но до плена не дойдет. Он умрет в бою. Иначе не может быть.
Быстрее полета пули, стремглав он вскочил на свою белую кобылу Машку, топтавшуюся возле юрты. Возвысился над седлом ярко-желтой живой башней. Сивая стриженая голова проткнула розовеющее небо. Гикнул оглушительно. Машка взяла с места в карьер. «А Машку до сих пор не подстрелили, и это удивительно, – подумал он счастливо, – видать, она тоже заколдована против пуль, как и я. Ну, где же ты, моя пуля! Моя последняя пуля! Приди! Молюсь о тебе!» Копыта кобылы застучали по мерзлой дороге, он несся во весь опор, и за ним и бежали, и скакали, и стреляли в него люди – его люди. Бывшие его люди. Бывшие его бойцы. Теперь уже – не его.
«Так, сволочи. Так! Хорошо! Все мимо! Ни одна пуля не настигла меня! Я – заговоренный! Лама Доржи был прав! И Ташур – прав! Рассвет, я умру на рассвете… Ли Вэй, дорогая, ты говорила: рассвет – наилучшее время суток, когда можно проститься друг с другом без слез, взирая на восходящее солнце, как на алый пион в твоей руке…» Он скакал на юг от лагеря. В сторону Тибета.
Вот так он скакал бы в Тибет.
В Тибет, куда он так хотел повести свое войско.
В Страну снегов, сверкающих, как драгоценные рубины, под красным ослепительным солнцем рассвета.
Он скакал туда, где кучей малой, людским бушующим морем катились, мешая сквернословие и языки, коней и повозки, ружья и тачанки, обозы с провизией и телеги со свернутыми в валики юртами части его Дивизии – туда, к Толе, к реке, к текучей, как время, воде. Неужели же и монгольский дивизион не верен ему?! Неужто все – уже на стороне Виноградова?! На стороне Рубо?!
А Резухин?! Где Резухин?!
Проклятье, верно, они убили Резухина… Да, скорей всего… Как же он не слышал выстрелов?!.. Казаки, подстрекаемые восставшими офицерами, запросто могли зарубить Резухина саблями…
Он скакал к Толе. Копыта кобылы Машки стучали по каменистой дороге. На миг он вспомнил о живой, настоящей Машке. «Она – в своей юрте. Бедняга! Они не пощадят ее. Я благоволил к ней. В такой военной каше баба – пожива мужиков. Они растерзают ее, озверев. А эта… красотка… эта, Терсицкая?..»
Прочь мысли о бабах. Вот оно, его войско, изменившее ему.
К ним. Туда. Ближе. Еще ближе. Не бойся.
Копыта стучат по закаменелой от мороза дороге.
ЭТО ОНИ БОЯТСЯ ТЕБЯ. ВИДИШЬ, ОНИ НЕ СТРЕЛЯЮТ.
– Кто здесь?! Какая сотня?! – зычно крикнул он. Его голос раскатился по долине Толы. Рассвет набирал силу. Красное зарево кровью заливало широкие небеса.
Раскосое лицо в рассветной дымке. Каменное лицо Востока.
«Восток, я так люблю тебя. Я так любил тебя. Ты изменил мне, Восток».
– Очиров! Командир Бурятского полка!
Каменные губы раскрылись.
– Я.
Без «высокопревосходительства». Без «генерала». Без «барона». Без «господина Унгерна».
Это холодное «я» сказало ему больше, чем все унылые предсказания лам.
Вот сейчас он поверил. Все было настоящее. И предательство; и рассвет; и гибель.
– Очиров! Приказываю тебе вернуть полк в лагерь!
– Нет, – снова разлепились ледяные губы. – Не верну! Никто не вернется назад! Мы и мои люди пойдем на восток. Мы не пойдем с тобой ни в Тибет, ни в Россию. Мы пойдем на родину, в родные кочевья. У нас есть родина, слышишь?! Мы больше не хотим умирать! Мы не хотим умирать за то, за что хочешь умереть ты!
Унгерн облизнул губы. Ветер налетел и заморозил их. Слова смерзлись в глотке. «Каждый должен жить на своей земле, он прав. Где твоя земля?! Где твоя родина, барон?!»
– Вы должны продолжить поход! – Его голос камнями катился вдоль по дороге, падал в Толу, грохотал в стремительно розовеющем небе. – Если вы одни пойдете на восток – вы умрете от голода! Вы будете жрать собак! Охотиться на кошек! Вы будете жрать друг друга! Красные перебьют вас всех! Всех! Всех до одного!
Люди молчали. Кони молчали. Небо светлело, ярчело, солнцу уже не терпелось родиться.
Никто не выстрелил в него. Все слушали его.
И он хлестнул кобылу плетью.
И он поскакал на белой лошади перед своими войсками – высокий, как пожарная каланча, надменный, как король, жестко прикусив властный рот, и полы желтой княжеской курмы с зашитым в складки ядом развевались над лошадиными боками, и Георгиевский крест блестел тусклым мертвым серебром в призрачном рассветном свете.
И солдаты глядели на него – на своего генерала: ободранные, вшивые, с заштопанными локтями продранных грязных тырлыков, с плохо намасленными винтовками, еле державшимися на сутулых плечах на изгрызенных полевыми мышами ремнях – на него, закусившего губы в последней ярости, бледного, страшного, с лицом цвета сугроба, с белыми глазами, бешено горящими, как две свечи горят в пустом черепе, когда малые дети играют в привидения. И офицеры глядели, выпрямившись, положив руки на оружие на поясах.
И все молчали. И никто не стрелял. И всех объял последний страх. И он скакал, выбивая копытами искры из мерзлых камней, и резко крикнул, продолжая скакать, не остановясь ни на миг, словно устраивая последний смотр своим изменившим войскам:
– Доктор Сироткин! Поворачивайте в лагерь госпиталь и всех раненых! Они же умрут в дороге!
Молчание. Небо светлеет все сильнее. Свет ясный. Свет нестерпимый.
– Владимир Рерих! Я приказываю вам повернуть обоз!
Темные глаза Рериха вплыли в его глаза, как две медленных рыбы – к ледяной кромке проруби. Эти глаза все знали о нем. О его жажде Предвечного Азийского Царства. Рерих, колдун… Ты, обозник! Неужели ты знаешь взаправду, где сияет моя Шам-Ба-Ла?!
«Знаю, – ясно сказали глаза, – знаю, и в память твою, генерал, ее буду всю жизнь петь и искать».
Молчание. Никто не шелохнется. Молчание – знамя, застывшее над полками. Живые знамена и живые хоругви попрятаны. Молчание реет и вьется в слепящем предсмертном воздухе.
Он сжал в кулаке поводья. Скрипнул зубами. Желваки на скулах вздулись. Бледное лицо под светлой щетиной пошло дикими красными пятнами.
– Я проклинаю вас! Жалкие трусы! Дерьмо! Мусор! Вы, грязь под ногами! Вас отрясут с сапог те, кто придет сюда после вас! Победители! Вы – не воины! Вы – не солдаты! Вы – дерьмо! Бабы! Иуды!
Кобыла скакала, задравши хвост. Небо ослепляло. Об эту пору бывает самый сильный мороз. Лица людей покраснели и посинели от холода. Все молчали. Никто не двинулся с места. Не поднял винтовку. Не поднял «кольт». Все лишь сжимали оружие в руках. Оружие на морозе приросло к рукам, – отодрать – только с кровью.
Оцепенение. Заря.
– Я страшно накажу вас, предатели! Вы, собаки! Поворачивайте в лагерь! Дряни, кал коровий! Вас ждет ужасная смерть!
Вопил надсадно. Голос хрипел, рвался на ветру, как старое знамя.
«Ты же видишь, они боятся тебя. Они – воистину собаки. Они поползут к тебе на пузе и будут лизать твои руки. А ты будешь бить их сапогом в морду и под ребра. И вешать на железных крючьях, как мясные туши. И хлестать ташурами. И жечь на кострах. Ты их всех победишь. Ты – один!»
Еще немного. Еще один выкрик. И они повернут.
– Я, барон Унгерн, приказываю вам!..
Крик оборвался. Федор Крюков, казак из Казачьей сотни есаула Макеева, тот, что писал, крючась, по ночам при свете сального свечного огарка свою Военную Библию Славных Унгерновых Походов, поднял ружье и выстрелил барону в грудь.
Промазал.
И, освобожденный от заклятия страха, повалил огонь.
Огонь бил из пулеметов. Огнем дышали и плевались ружья. Огонь вырывался из винтовок. Огнем палили в белый свет, как в копеечку, револьверы и пистолеты, наганы и «кольты», «маузеры» и «вальтеры». Огонь ярился и грохотал, огонь вырывался на свободу, оцепенение было расколдовано, стена молчания рухнула. Прозрачная ткань проклятий была прорвана. Огонь гремел и шел напролом, огонь безумствовал.
Унгерн пришпорил белую кобылу. Поскакал сумасшедше быстро. Стал похож на белый ветер, на призрачный вихрь. Взлетел на холм над Толой. Обернулся к стрелявшим.
– Ну что! – крикнул, и лицо его было страшно, как маска докшита Жамсарана на священном празднике Цам. – Ни одна пуля меня не задела! Видите! Я – докшит! А вы все – жалкие смертные! И я умру в своем бою! В честном! Не в предательском! Не от ваших грязных, поганых рук! Вы меня не убьете!
Желтая курма золотела под красным небом. Слепяще-алый край огромного солнечного диска вынырнул из-за края земли. И стал стремительно, неуклонно набирать высоту. Солнце выкатывалось из-за окоема торжественно и радостно, заливая землю и людей могучим и яростным светом.
И все стало красным: лица людей и сбруя лошадей, слеги телег и фургоны обозных повозок, приклады винтовок и вещевые мешки за плечами солдат, обручальные кольца на пальцах офицеров и конские лоснящиеся шкуры. Все стало красным, вопреки его желанью. Все становилось красным, красным, дьявол задери. Красное солнце смеялось над ним.
И белая кобыла под ним стала розово-красной, волшебной, как тибетский бумажный Конь Счастья, которого, шепча заклинанья, сбрасывают в метельный новогодний день в горах с высокой скалы, чтобы он летел по ветру и приносил счастье тем, кто встретит и поймает его над головой.
И огонь прекратился.
Он раззявил рот, выпучил белые глаза, засмеялся, показывая цинготные зубы, и крикнул, наблюдая встающее солнце:
– О ты, ярко горящий!..
Свист стрелы раздался в оглушительной тишине. Стрела, пронесшись над войском, над головами людей и коней и над железом, плюющим огнем, вонзилась всаднику, застывшему на снежном холме, в грудь. Стрелок был меток, да не рассчитал. Не слева, где сердце, а справа.
Унгерн опустил голову. Глаза наткнулись на еще дрожавшее оперенье. Стрела крепко засела в груди.
«Великолепно. Все-таки кто-то смог! Не все… трусы… Кто-то… оказался воин…»
Пальцы бессознательно взялись за древко. Если вытащишь – истечешь кровью. Как небо. Как солнце.
Белая кобыла дрогнула, содрогнулась всей шкурой, горестно, томяще заржала, повернув голову, кося красным глазом. Всадник покачнулся в седле. Держась рукой за древко стрелы, откинулся назад, закинув голову, глядя в красную бездну.
«Она не черная, а красная. Ламы, вы были неправы».
В полном молчании стоявшего войска, на белом холме над ледяной рекой ржала, будто плакала, белая кобыла.
Тот, кто выпустил стрелу, опустил лук.
Тот, кто выпустил стрелу, еще слышал содроганье лука и дрожь тетивы замерзшими пальцами, яростью сердца.
«Так отец мой стрелял. Так дед мой стрелял. Так будут стрелять внуки внуков моих. Лунг-гом-па оборвал свой бег. Я побегу за него. Не так я хотел взять тебя к себе, ты, докшит орус. Ты думаешь, стрела настоящая? Я выдумал ее. Я пустил ее мыслью. Это лишь тень стрелы. Так отец мой в горах стрелял во врага в час, когда над снегами всходило великое солнце».
* * *
Она отстреливалась как могла. Она ведь так хорошо умела стрелять. Она научилась давно – там, под Екатеринбургом, в Пятках; там, в Омске; там, в Новониколаевске; там, в ургинской «РЕСТОРАЦIИ». Она так метко стреляла в жизни – то в белых, то в красных, то в анархистов, то в святых лам, и уже не знала, где свои да наши, а где чужие; те, кто платил ей, кто держал ее при себе, как пса у ноги, могли через миг оказаться врагами, и надо было в любом случае уметь хорошо стрелять.
Машка, пригнувшись за палаткой Федора Крюкова, встав на одно колено, прищурясь, стреляла, вскрикивая каждый раз, когда ей удавалось попасть в солдата. Она стреляла в людей Резухина, пытавшихся уйти, двинуться, пробивая себе путь огнем, в сторону Селенги. В нее тоже стреляли, но все не могли подбить ее, как птицу.
– Катя, – шепнула она, вытирая пот, выступивший на губе, отирая запястьем мокрый висок, – эх, как хорошо-то я тебя отправила в Ургу, Катюха, вовремя… осенило Иуду Михалыча… а ловко он замаскировался… да все мы… все мы, леший бы нас всех побрал, ловко замаскировались… все мы маски, маски этого, как его, ихнего Цама!.. маски… маски…
Она низко пригнулась к коленям, согнулась в три погибели. Пуля просвистела над ее головой. Она упала животом на снег. Стреляла лежа. Люди Резухина, продолжая палить в нее, отходили. Этого, что маячил в арьергарде, настойчиво целясь в нее, она хорошо знала. Это был приятель погибшего подпоручика Зданевича, Игнат Коростелев. Прапорщик Коростелев обернулся в последний раз и выстрелил – и Машка, застонав, закусив губу, повалилась в снег лицом, стала кататься по снегу, грызть снег зубами. Ругательства посыпались из ее рта, как шелуха от семечек.
– Попал… попал, гад… Попал все-таки… Ах, дря-а-а-ань…
Она, лежа на животе, прицелилась, спустила курок. Коростелев, уже лихо скакавший на лошади прочь от лагеря, пошатнулся, вскинул руки. Машка зло, хрипло засмеялась:
– Попала! Попала!..
Она снова упала лицом в снег. Полежала так немного. Прапорщик, собака, всадил ей пулю в плечо, в мякоть пухлой, огрузлой руки. Боль от засевшей глубоко в руке пули была нестерпимой. Машка скрежетнула зубами, провыла тихонько:
– Теперь перевязывать надо… у-у, нехорошая рана, у-у, все-таки влипла я…
Она перекатилась через спину, опять легла на живот, по-пластунски подползла к палатке. Казаков в палатке не было – они были там, в Казачьей сотне, и она не знала, на чьей стороне сейчас Казачья сотня. Если кто-нибудь из них вернется к палатке и обнаружит здесь ее – ее прикончат, если узнают, что она стреляла в резухинских прихвостней. А впрочем… Впрочем…
– Если бы я убила красного, земля много бы не потеряла. Красные рожи, я ж вас тоже еще как ненавижу! Вы ж меня… – Она сплюнула на снег. Перезарядила пистолет, вытащив патроны из кармана кофтенки. – Вы ж меня, дорогие красные, в свое время так отделали… вы ж меня первые ухлопать хотели… а предварительно – растянуть на лавке… что там на лавке, бери выше – на голой земле… Эх, я, я… Верила тем, верила другим… Я вас… обоих… и белых, и красных… я вас – всех… ненавижу!..
Машка. Застонала. Уцепилась пальцами за край палатки. Палатка пуста. Надо в нее вползти. Как хлещет желтыми плетками по стонущему от боли телу с неба – солнце! Она вкатит себя, как скалку, в палатку… отлежится… Может, тут у Крюкова, у Рыбакова где-нибудь и штофик… завалялся…
Водка. Глоток водки. Он не помешает. Разумовский, тьфу, этот, Егор Медведев его настоящее имя, говорил: Богдо-гэгэн, этот монгольский старикан, ихний царек, водочку любил, так и искал бутылочку, чтоб приложиться… Пьяница, значит… Вот и она – пьяница. Развратилась она там, в «РЕСТОРАЦIИ». Что ни вечер – выпивка… Нет, она развратилась раньше… Там, на омских разъездах… на екатеринбургском вокзале… в иркутских притонах, где ее хорошенько подпаивали, прежде чем повалить ее прямо на пол, на грязный пол в плевках, окурках, винных пятнах, кровавых незамытых пятнах…
Чья-то нога в монгольском сапоге с чуть загнутым вверх носком возникла у ее касающейся снега щеки. Сапог двинул по щеке. Машка, ахнув, перевернулась на спину. Солнце ударило ей в лицо, на миг ослепив ее. Сапог снова ударил ее, въехал ей под ребра. Еще. И еще.
И противный, гадко-скрипучий птичий голос над ней выдавил, проскрежетал:
– Гас-рын душка! Гасрын хор-роший! Гасрын дурсгал! Гасрын дурр-р-сгал!
Она разлепила, щурясь, глаза, не выпуская пистолет из руки. Попугай на плече у человека, бившего ее наотмашь сапогом, крякал и скрежетал – что, она уже не понимала.
– Ташур!.. Ташурка!.. Ты что… ты, твою мать… спятил?!.. Это ж я… Машка… Машка!..
Сапог ударил еще раз. Пистолет вылетел из Машкиного кулака и отлетел прочь, покатился по скользкому блестящему на солнце, как горный хрусталь, насту. Попугай выхрипнул: «Дур-ракам закон… не пис-сан!..»
– Да. Да, я вижу. Я хочу увидеть еще кое-что. То, что я сделал сам.
Ташур, тяжело дыша, в расстегнутом малиновом тырлыке, наклонился над ней. Переложил наган из правой руки в левую. Вцепился в воротник Машкиной старой, с блестящей нитью, кофтенки, штопанной на локтях. Резко рванул поношенную ткань, дернул вниз. Разлезшаяся непрочная шерсть порвалась вмиг, расползлась под сильными пальцами Ташура. Под солнечные яркие лучи вывалилось белое полное плечо. Черно-синяя свастика огромным пауком, черным катящимся злобным глазом глядела с плеча.
– Как… ты сделал?!.. Что брешешь… Разве ты?!.. Не ты же!.. Как… ты… нет… не может быть…
Ташур еще раз больно пнул Машку сапогом. Теперь уже в лицо.
– На всех работала. Шлюха. На тех и на других. Шлюха есть шлюха. Что со шлюхи взять. Это я заклеймил тебя тогда. Я. Вы все перегрызлись. Вы все убиваете, жжете, вешаете, грызете друг друга. Но вы – чужие. Вы – орусы. Вы – короста на священном чистом теле Востока. Вы только думаете, что вы владыки мира, и вы грызетесь за этот мир, не подозревая, что все вы, и белая кость и черная грязь, все вы обречены. Вы все не нужны этой земле. Слышишь, шлюха, не нужны! И твой Унгерн никогда не увидит Тибета! И твой Медведев, и твой Иуда никогда не увидят себя ни на троне Монголии, ни на троне России, ни у какого руля власти! Ибо власти у вас нет и никогда не будет! Власть – у нас! Власть…
Он замолк. Крепко, цепко взял ее руками за плечо. Впился пальцами, как когтями, в вытатуированную им самим свастику.
– Власть – вот у кого! У чего!
Из-под его ногтей, впившихся в кожу дебелого Машкиного плеча, показалась кровь. Он выпустил ее плечо. Под Машкиным глазом вздувался синяк от удара сапогом.
– Ригден-Джапо еще не повернул перстень! И не скоро повернет! Шам-Ба-Ла – в центре знака «суувастик»! Ты! Шлюха! Скажи, ты, ищейка, ты ведь вынюхала все! Целы ли в юрте Унгерна сундуки и ящики?! Ведь они не успели их вывезти! Ну! Что воды в рот набрала!
Он поднял ногу, чтобы ударить ее, и Машка поняла – он сейчас выбьет ей глаз. Завизжав, она подняла руку, закрыла лицо, закричала истошно:
– Целы! Целы! Не убивай! Пощади!
Попугай заблажил: «Пощади-и-и! Пощади-и-и-и!»
– Ищейка запросила о пощаде, – губы Ташура дрогнули в усмешке, – а деньги любила получать?! И от Трифона, и от барона, и от Разумовского, и от Носкова?! От всех своих хахалей?!
– Да кому ж я уже гожусь… я ж старая… кто ж на меня, такую, клюнет…
– Сейчас на любую бабу всякий клюнет! На шлюху – и подавно! Говоришь, целы ящики?! Если соврала – вернусь, пришибу!
– Ташур, миленький, Ташурчик, Господа ради…
– О Господе своем вспомнила, поганая тряпка?! Тобой полы будут подтирать в вашем христианском аду!
Шаги заскрипели по снегу. Хруп-хруп. Машка чувствовала, как стремительно теряет кровь. Рукав уже насквозь промок. Теплое, нежное струилось из нее, вытекало. Это вытекала жизнь. Слабость обняла ее крепко, пьяняще. Ей стало страшно и сладко, она не могла пошевелиться, не могла крикнуть, вымолвить слова. Не прошло и пяти минут, как снег снова заскрипел под сапогами. Машка закрыла глаза. Голос внутри нее сказал ей: все, дорогая, конец, отбегалась, отплясалась.
– Не наврала. Здесь его золото, – Ташур плюнул в снег, добавил что-то по-монгольски, она не поняла. – Ты тоже следила за золотом?! Выследила?! Ну и как, кому след продала?! Быстро говори, кому!
«Иуда, Иуда, Иуда», – билось у нее в висках быстро-быстро. Иуда, брат Трифона. Иуда, возлюбленный Катьки. Иуда. Если она назовет его имя – он поскачет за ним, он найдет его, он убьет его. Иуда. Иуда и Катя. Катя и Иуда. У нее никогда не было детей, и на мгновенье она почувствовала себя старой, почувствовала себя старухой, матерью этих двоих – Кати и Иуды. Будто бы она, Машка, их свела, сосватала, обженила. Будто бы она стояла у колыбели, у крестильной купели их детей, внуков своих.
И вдруг канкан, яркий, сумасшедший, цветной канкан привиделся, примстился ей. Вихрь мечущихся юбок, подвязки, кружева исподнего белья, Глафира, Аська Ворогова… Горланящая похабные частушки Аринка Алферова… Ноги в лаковых узконосых туфлях, вздернутые до потолка… Запахи – духов, пота, помады… И эта музыка, слепящая, сбивающая с ног… С дощатой сцены – сюда, на снег…
На снег перед екатеринбургской усадьбой, где на паркетном полу, залитом кровью, валялся убитый старик-помещик, а рядом с ним – старое охотничье ружье…
На снег перед Омским железнодорожным вокзалом, где на перроне красные солдаты молча расстреливали кричащих пассажиров…
На снег перед Крестовоздвиженской церковью в Иркутске, где народ косили из пулемета, и на нее, как в плохом канкане, падали, падали, падали люди…
На миг время расселось, как трещина в скале, разверзлось перед нею. Она еще крепче зажмурила глаза.
– Бей! Скорее!
– Ах, ты так…
Она поняла: он не станет тратить на нее пулю. Уже не видя зреньем, она увидела внутри себя, как он выхватывает из-за голенища сапога длинный тибетский нож-пурба, взмахивает им, всаживает ей в яремную ямку, и потемневший медный нательный крест тут же заливается кровью, и кровь красной рекой течет на плечо, на черную свастику на белой коже, и тело дергается, дергается два, три раза – и затихает. А потом она, вылетев из себя наружу, как из куколки – бабочка, увидела сверху мешком застывшее на грязном снегу дебелое, толстое, гадкое тело свое, увидела, как Ташур поворачивается к ней спиной, идет прочь от нее по снегу, заливаемый белой водкой солнца, отирая нож о полу тырлыка, будто зарезал барана, и его конь жалобно, громко ржет, почуяв близкую человечью смерть.
* * *
Он лежал на снегу. Иуда спешился, подошел и выдернул из его груди стрелу.
– Ну вот и все. Но это не мы. Это не мы убили тебя.
Несвицкий подскакал на лошади. Войска замерли. Солнце кинжально застыло, всаженное по слепящую рукоять в прозрачное зимнее небо.
– А жаль, что это не мы. – Несвицкий тяжело спрыгнул с лошади, его следы на снегу напоминали больших мертвых рыб. – Жаль, что не мы это сделали. Тогда кто?
Несвицкий оглянулся. Горизонт был чист. Ни дымки, ни облачка. За бугром, покрытым чистым, серебрящимся на солнце, чуть розовым снегом, стояло, как вода в проруби, нежное, как молитва, молчание. Тишина, время без выстрелов, казалась странной, неземной. Иуда посмотрел на Несвицкого. Его глаза были полны черной пустотой, как глаза медной статуи Будды в захолустной часовне при дороге.
– Тот, кто выстрелил в него, всего лишь совершил правосудие. Однако поторопитесь. Барон может быть еще жив. Прикажите перевязать его рану. На подводу его, и – в ближайший улус. Туда, где может быть любой фельдшер… любой коновал с примитивными хирургическими инструментами, с иглой и скальпелем, а также с пузырьком spiritus vini. Если он жив – его будут судить. Если он мертв… – Иуда помолчал. Ветер взвил его темные волосы на непокрытой голове. – Если он мертв – помолимся за него.
– По христианскому обряду? По буддийскому? – Несвицкий усмехнулся. – А может, по дьявольскому? Вам не кажется, капитан, что это был дьявол?
– Может быть. – Иуда смотрел, как кровь медленно окрашивает ткань пробитой стрелою желтой курмы вокруг маленькой круглой раны. – Но ведь дьяволы не умирают, не правда ли, поручик?
Далеко, в степи, скакали по подмерзлому насту лошади, разносились крики солдат и казаков, перешедших на сторону заговорщиков: «Ура-а-а! Ура-а-а-а! Свобода-а-а-а!..» Иуда внезапно подумал: от кого – свобода? От чего? Свобода была горькая, соленая на вкус, слишком алая, слишком страшная. Ему не надо было ТАКОЙ свободы.
Он наклонился над неподвижным телом. Из кармана желтой курмы торчала рукоять ножа. Он потянул – и вынул, вытащил наружу тот самый тибетский нож-пурба со срамной рукояткой, с выгравированной на лезвии фигуркой полуобнаженной девушки. Поднял, протянул к солнцу. Повернул под его лучами. Нож высверкнул, и он на короткий миг, равный вдоху, увидал девушку. Он увидал ее не со спины – с лица. Его пронзило: да, Катя! Да, сумасшедшее сходство! Но почему? Кто подсмотрел ее? Быть может, века назад… Нет, нож не выглядел древним. Он словно вчера вышел из-под наждака мастера. Катя с лезвия смотрела прямо ему в глаза. Он почувствовал, как стесняется дыхание, при виде ее нагой груди, тонкой талии, расширяющихся книзу бедер, очерком похожих на античный кратер. Нож с изображением женщины, разящей, как нож… Он осторожно положил пурба на грудь Унгерна. Солнце полоснуло вдоль по лезвию белым, как снег, лучом. Катя исчезла. Остался один Унгерн, недвижимо лежащий на снегу лицом вверх, к небу, разбросав руки, будто пытался небо обнять.
* * *
«И пятый Аньгел вострубилъ во синихъ степныхъ нъбесехъ, и восста народъ тогда на барона Унгерна, ибо баронъ застрелилъ звезду, взошедшую на нъбеса; и упала звезда та съ нъбесъ на зъмлю, и данъ былъ ей ключъ отъ кладязя бъздны. И вышедъ дымъ изъ кладязя, какъ изъ огромной печи; и помрачились солнцъ и самый воздухъ отъ дыма того, сърого, страшнаго, военнаго. И изъ дыма того вышла саранча на зъмлю, и дана была той саранчъ такая страшная власть, кою имъютъ зъмныя скорпiоны. И саранча та дълала връдъ только однимъ людямъ, ибо сами злые люди – это и была та саранча; а исчо была саранча железная, на коей те злые люди летали, воюя друг съ другомъ. И так, люди стали саранчою; стали пожирать другъ друга; и тотъ, кто больше всъхъ дълалъ зла – грозный Унгернъ – и изничтожилъ народу на зъмле болъе всъхъ. Мучилъ Унгернъ народъ православный – а народъ думал: мучимся мы за Свободу! За Счастiе мучимся! И желали многие умереть; но сама Смерть бъжала отъ нихъ».
Федор Крюков оторвался от грязного клочка бумаги. Застонал. Закрыл глаза. Скрючившись, он лежал под обозной телегой на берегу Селенги. Он был ранен смертельно и сам чувствовал, что может не выжить; Никола Рыбаков, правда, старательно выхаживал его, ходил за ним лучше любой няньки, заботливей сестры милосердия, да рана уже загноилась, а против гангрены что можно было придумать? Да ничего. Скорей написать… скорей. Успеть. Ибо каждый человек, и грамотный и неграмотный, и стар и млад, и знатный и смерд, пишет во всю свою жизнь свою Библию; а ну как он помрет – да не успеет дописать ее, Библию свою, знаменитым старинным слогом?!
– Федюшка… А Федюшка… Ты, милай, вот каво… подыми башку-то… попей, а… испей водицы!.. Ну, поднатужься… так, вот этак…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.