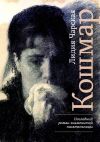Текст книги "Тень стрелы"
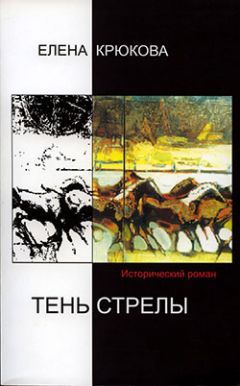
Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Маска Жамсарана
Духи рек, где камни сверкают, как золото и серебро!
Давайте поищем пропавших и поведем беседу.
Старинная монгольская песня
За стеной юрты послышался стук копыт о мерзлую землю. Катя, в пуховом платке, обвязанном вокруг шеи, в наброшенном на плечи тырлыке, собиралась за водой. Вскинула на плечи коромысло, ведра качнулись, опахивая холодной пустотой; она вышла из юрты, низко пригнувшись в двери, – и конь резко взрыл копытами пуховый снег, заржал. Катя вскинула лицо. Иуда быстро спешился, стоял рядом с конем, положив руку на седло. Катя замерла, будто заледенела.
– Здравствуйте.
Он не двинулся от коня. Огладил его по холке. Потная конская вороная шкура отливала на солнце нефтяным радужным блеском. «Ждет, когда я подойду», – она прищурила глаза, еле удерживая закипавшие слезы.
– Здравствуйте, Катерина Антоновна. Что бледная? Степной воздух не румянит? Не надумали уезжать отсюда, от нас, грешных?
– А куда? – Пустые ведра колыхал ветер. Рука лежала на коромысле, вздрагивала. – На Запад? Большевики убьют меня тут же, вдову белого атамана. На Восток?.. Во Владивосток, в Харбин?.. В Харбине, в Шанхае много русских эмигрантов, да… Я бы уехала в Америку. Америка – земля будущего.
– Наш барон считает, что как раз Азия, а не Америка. – Вороной конь легко, будто расхохотался, заржал, Иуда похлопал его по холке. – В юрту не пригласите, Катерина Антоновна?
– За водой хотела сходить…
Он наконец шагнул к ней. Она попятилась, как от огня. Коромысло сползло с ее плеча, ведра упали в снег. Она скользнула в дверь юрты; Иуда – за ней. Она кинулась ему на шею. Он сжал ее в объятиях так крепко, что они оба задохнулись.
Теплая черная вишня под губами. Губы вбирают вишню. Язык медленно обводит вокруг ягоды, замирает. Вишня в зубах, как драгоценный гранат. Всоси ее. Втяни в себя. Укуси.
– О Боже… как… я… люблю… тебя…
Он голый и смуглый, и она вся нагая. Они чувствуют друг друга каждым лепестком раскрывшихся тел. Они – два цветка. Может быть, два лотоса. Нет, они два зверя. Слишком дикое, звериное желание захлестывает ее. Он поднимается, раздвинув колени, обнимая ее коленями, над ней, поднося к ее губам священный выступ, мужской сосуд. Ее губы и язык исходят нежностью, и зверье безумие испаряется, как роса. Она вся превращается в нежность, она целует его и плачет от своей ласки. Ощущает его на губах, на щеках; держит в ладонях. Она никогда не думала, что быть с мужчиной – такое счастье.
– Я не вынесу этого… иди ко мне…
– Рано, еще рано… Погоди…
Он поворачивается над ней. Его лицо – напротив ее вздрагивающего живота. Он медленно опускает голову, его губы – на теплом холме, на золотом руне, струящемся вниз, еще вниз. Еще ниже, да, здесь. Он помогает себе руками. Пальцы раздвигают алые складки. Пион раскрывает лепестки. В цветке есть сердцевина. Есть завязь. Маленькое алое яблоко, китайка, таежный дичок. Он погружает лицо, язык во влажную алость, в соленую, душистую красную мглу. Он навсегда хотел бы остаться здесь. Чтобы вдыхать, обонять… умереть. Она выгибается под его ладонями – он положил руки ей на бедра, и они плывут под его пальцами, уплывают, выскальзывают, вырываются, большие смуглые рыбы. Его язык находит алый круглый дичок, розовую твердую жемчужину, купающуюся в жарких соленых створах. Жемчужина катится под языком, жжет мятой, жжет как уголь, вынутый из костра, но он не отнимает рта. Он слышит длинный стон – будто женщину ранили навылет, и она стонет, – потом задыхающийся шепот: «О да… Да… Я так хотела… всегда…»
Он вминает горящие головни пальцев в ее ягодицы. Его живой солдатский штык – под ее руками, над ее ртом. Они оба образуют подобие колеса. Живое колесо любви. Под колесом любви можно погибнуть. Они уже погибли. Колесо переехало их обоих. Они стали огненным колесом, и колесница катится туда, откуда нет возврата. Его колени обнимают ее голову, зажимают ей уши, и она уже ничего не слышит. Ничего, кроме биения горячей крови, стучащейся в них обоих, просящей выхода наружу.
Колесо катится, и во рту ее сладко и горько. Сок, нектар, живая кровь. Жизнь – вот как зовется это, и в такую жизнь тоже нет возврата. Тела расцепятся, люди пойдут дальше каждый своей дорогой. Но так соединившиеся – неразъемны. Эту цепь можно лишь разрубить. Если у тебя есть топор, меч, нож – руби. Он, лизнув сладкую китайку последний раз, в мгновение ока поворачивается, и его лицо – уже над ее лицом. Он берет ее лицо в руки. Осыпает поцелуями. Она хочет поймать ртом его губы. Ловит. Языки сплетаются, как две рыбы в Толе. Как две играющих рыбы древнего монгольского, китайского знака – черная и белая. Черный Иуда. Белая Катерина. Тайна Двойного. Выхода нет. Нет.
Из любви нет выхода никогда, знаешь ли ты это?!
Он перекатывает ее на себя, шепчет: сядь на меня, вот так, верхом, как на коня. Живой золотой кол торчит, и она медленно, обреченно опускается на него, и он раздирает ей не чрево – сердце. Да, так, медленно, еще медленней двигайся во мне. Медленно пронзай меня. Когда ты пронзишь меня насквозь, я почувствую нестерпимую боль блаженства, которое я молила у Бога – и вымолила.
Он держит ее груди, как чаши. Она сидит на нем, не шевелясь. Ее рот раскрыт, кажется, что она кричит. Он улыбается. Неподвижные любовники. Памятник любви. Мы сгораем от наслаждения вот так, не двигаясь. Нам не нужно безумное танго страсти. Нам не нужно ножевого острия вершины. Перед нами – все небо и все подземелье. Ты глубоко во мне. Я обхватываю тебя ногами, раскидываю над тобой руки, лечу. Я – птица. Я лечу в твоем небе.
Она приподнялась на коленях над ним, и он ударил в нее снизу – раз, другой, третий. Она засмеялась, вцепилась ему в плечи, провела руками по его потному, мокрому лицу. Резко наклонилась. Впилась ему губами в губы, всосала, вобрала его рот, присваивая его, делая его своим, глотая, как глотают мед и молоко. А он все бил, ударял в нее снизу; потом все нежнее, тише делались удары, превращаясь в легкие касанья; потом оба застыли, и она молча, задыхаясь, прислушивалась, чувствовала его в себе. Она – птица, а он – стрела. Он пронзил ее. А она еще летит. Летит в широком небе.
– Тише… Не двигайся…
Она почувствовала под кончиками пальцев его улыбку. Ее пальцы ощупали, как слепые, его рот, и он вобрал в рот ее пальцы, стал сосать, как дети сосут сладкие леденцы, осторожно, быстро трогать языком, и она закричала, как от ожога. Оба опять не двигались. Оба не знали, что, соединяясь так, они исполняют древний обряд Тантр. Им дела не было ни до каких Тантр. Ни до прошлого. Ни до будущего. Они оба отдаляли последнюю минуту – взрыв, после которого уже не будет ничего. Выжженная пустыня. Красная Гоби. И колкие ледяные звезды над потрескавшейся, как пересохшие от жажды губы, землей.
Медленно, неуклонно, сильно он пошел вперед там, во тьме, внутри нее. Сейчас он чувствовал ее как никогда. Он пройдет сквозь нее, сквозь ее раскрытое ему тело. Сквозь ее живую душу. Сквозь ее жизнь. Сквозь их обоюдную смерть. Он пройдет все насквозь – и выйдет наружу в Мире Ином, и там узнают ли они друг друга?!
– О!.. что ты делаешь… ты…
– Я… так хочу…
– Не останавливайся… не бойся ничего…
Она подняла вверх руки. Он летел сквозь нее, как копье. Подхватил ее под мышки. Медленно прижимал к себе, насаживал на себя. Золотой Кол, к нему привязывают звездную Небесную Лошадь. Монголы населили небо ими одними. Они уже живут на небе. Все, что происходит с ними на земле, уже отпечатано серебряными письменами там, в дегтярной, угольной бездне. Копье, торжествуя, проходило сквозь нее, покорную, и она сначала ощутила боль, подумав: вот так приходит смерть, – потом наслаждение, залившее горячим медом пустоты ее бытия; потом сноп света взорвался, развернулся перед глазами, внутри нее, и она перестала что-либо видеть и ощущать. Иуда крепче прижал ее к себе. Он видел, как она выгибается в судороге немыслимого счастья, пронзенная им, теряя сознание, хватаясь руками за его потно-масленые смуглые плечи. Он еще ждал. Он хотел сохранить в себе водопад жизни. Но звезды хлынули наружу бешеным потоком – из кончиков грудей, из орущих ртов, из ладоней и пяток, из навершия живого копья. Они потеряли чувство времени. Время исчезло. Потом, когда время вернулось, оно пошло вспять, и наступила тишина.
В оглушительном звоне тишины она услышала его голос:
– Какой сегодня день?
– Какой?.. – Она обернула голову к нему. Ее глаза были закрыты. Она не могла на него посмотреть – ей чудилось, она взглянет на него и ослепнет. – Вторник… кажется… я давно не глядела в календарь…
– Ты не поняла. Какой сегодня день с того дня, когда убили Трифона?
Холодом окатило ее лоб. Она положила руку на лицо. Под ее ладонью билось, жило, улыбалось ее лицо. Ее лицо, что миг назад неистово целовал Иуда.
– Я… не знаю… не считала…
– Я сосчитал. Двадцать первый.
– Ну и что?.. – Она не отнимала руки от лица. – Хочешь сказать, что безутешная вдова поторопилась?..
– Верная жена тоже поторопилась когда-то. – Она услышала, как он перевернулся на живот. – По буддийским верованиям, на двадцать первый день душа умершего, особенно убитого, выходит из состояния бардо и вселяется в любое живое существо, хоть в собаку, в корову, в червя. Если, конечно, тот, кто находится в бардо, не сумеет вымолить у великого Будды и у Белой Тары выхода из мучительного круга перевоплощений. Для этого надо знать слова посмертной молитвы. Представь, ты умерла, и ты, находясь в бардо, произносишь молитву. Какими устами?..
– Непредставимо. – Она отняла руку от лица, открыла глаза. Увидела над собой круглый купол юрты, проволочный каркас, проглядывающий из-за шкур, веревочные стяжки. На веревке висели, мотались монгольские куклы-онгоны, призванные отгонять от юрты злых духов, кликать добрых духов изобилия и продолжения рода. Иуда повернул голову к ее лицу, уткнулся лбом в ее лоб.
– Скажи мне… скажи, прошу тебя, что же все-таки произошло в ту ночь?..
Снова волна холода обдала ее с ног до головы. Они теперь широко раскрытыми глазами смотрели друг на друга, их лица, розовые после любви, лежали рядом на подушках, как два сорванных цветка. Проклятье, он хочет узнать у нее, что случилось тогда, в тот вечер, в ту ночь. Она же не помнит.
«Осип говорил: проверь его, прощупай его. Может быть, это он! Может… быть?..» Он видел, как дрогнули ее губы. Как блеснула между ними, ало вспухшими от поцелуев, ровная подковка зубов.
Она улыбалась. Он слышал ее хриплое, влажное дыхание.
– Я не помню, что произошло в ту ночь. Я очень крепко спала. Потом пришли… разбудили меня. А вот ты где был в ту ночь… Иуда?..
Она вздрогнула потому, что вздрогнул – всем телом – он. Будто к его голым пяткам поднесли горящую головню.
– Я не обязан тебе докладывать об этом.
– Потому что это было три недели назад? И ты забыл?
– Я был в Урге.
– До Урги от лагеря на хорошем коне доскакать – два, три часа. Может быть, ты сам был тою ночью здесь?
Тишина отзванивала в ушах мерным биением мгновений. Молчание становилось все тяжелее. Она отвернула лицо. Он погладил ее по волосам. «Гладит как лошадь», – подумала она.
– Может, и был. Тебя это смущает?
– Иуда, – она не узнала свой голос; у нее огнем горели исцелованные кончики грудей. – Иуда, скажи мне всю правду. Это ты убил моего мужа? Да? Чтобы нам скорее быть вместе?.. Да?!
Он засмеялся. Она с удивлением слушала его отрывистый, сухой смех.
– А ты бы хотела, чтобы это было так? А-ха-ха-ха-ха…
– Тише! – Она втиснула ладонь ему в губы. – Молчи!
– А ты, ты, Катичка, родная… ты… стой, пусти… ты, Машка говорила, в ту ночь напилась пьяная?.. Была пьяна?.. Как это ты смогла?.. Машка тебя напоила?.. Я помню, когда я приехал, от тебя пахло спиртным… как от мужика, перегаром… Ты, Катя… ты… – Он схватил ее за голое плечо. Рывком привлек к себе. Под ее грудью ходуном ходили пластины его сильной загорелой груди. – Ты была пьяна тогда. Ты не помнишь, что ты делала. Ты ничего не помнишь!
Она лежала в его объятьях вся белая, как снег. Мелкая дрожь стала трясти ее. Она дрожала, будто бы Иуда вывел ее голую на ветер, вон из юрты.
– Я… не помню… Да, я не помню, Иуда…
– Катя, – он приподнял ее лицо рукой за подбородок. Она старалась отвести глаза. – Катя, погляди на меня. Ты же не помнишь ничего. Ты напилась допьяна. Ты же ненавидела его. Ты же хотела, чтобы мы были вместе. Хотела, да?! Машка сказала – он ударил тебя… Ты – не вынесла… Тебя же нельзя обидеть…
Она наконец смогла посмотреть ему в глаза. Он ужаснулся их пещерной непроглядной тьме.
– Да. Это я. Я убила.
Голос Кати. Отчаяние
Пусть меня забирают в тюрьму в Ургу. В Иркутск. В Новониколаевск. В Улан-Удэ. Пусть меня расстреляют. Скажите Унгерну, пусть меня расстреляют. Я должна быть наказана. Пусть меня судят военно-полевым судом. Пусть будет трибунал. Я жена атамана, я убила атамана, и меня должны подвести под трибунал. Скажите барону… пусть он повесит меня на Китайских воротах, как вешает тех, дезертиров… перебежчиков… предателей!.. И я буду висеть и качаться, и меня будет шевелить и ласкать ветер. Ветер, слышите, а не Иуда.
Они все говорят в лагере: жена убила мужа для того, чтобы спать с любовником безнаказанно. Они правы. Я ненавидела Трифона. Я уже ненавидела его. Я не могла бы с ним жить, любя другого. А он… он никогда не отпустил бы меня. Но Бог ты мой, почему я забыла все, что было со мною, с нами той сумасшедшей ночью?!
Потому, что ты дочь своей матери. Своей сумасшедшей матери. На твою матушку нашло умопомрачение, и она убила себя, выпила смертельную дозу лекарства, и ее сердце не выдержало. Ты убила мужа, и ты должна поступить точно так же, если ты не хочешь, чтобы тебя расстреляли или повесили прилюдно. Все равно все станет известно Унгерну. Все равно весь лагерь гудит: Катерина – убийца Семенова. Убийца. Убийца.
Но это не я убивала всех, кто пропадал из лагеря в никуда! Не я! Не я!
Они не верят мне. Я знаю, что они не верят мне. Они думают: это я сделала тоже.
Она подходила к распахнутой двери юрты. В дверь залетал снег. Нынче поднялся сильный ветер, и снег вихрился, завивался белыми кудрями, бил в лицо белой рукавицей, заметал юрты, и они становились похожими на спящих северных медведей, на занесенные метелью погребальные царские курганы в степи. Она закидывала голову; тяжелые золотые волосы, неприбранные, не заплетенные в косы, пахучей тяжестью падали ей на плечи, на спину. Она хваталась за щеки, за виски, ее острые белые локти торчали перед лицом, как ножи, как казацкие сабли.
«Мне плохо. Плохо! Я теряю волю. Я теряю разум. Я кончена. Зачем я приехала сюда? Чтобы убить и похоронить мужа? Его закопали даже не на кладбище – в степи. Чтобы переспать с его братом? Будь проклят Иуда. Будь проклят тот день, когда я впервые поцеловала его».
Она испугалась своих мыслей. Быстро перекрестилась. Горячая цунами поднялась из недр ее существа, затопила ее целиком.
«Люблю, люблю, вешать будут, расстреливать будут – люблю. Люблю всегда и везде, и во веки веков, аминь».
Медленно она опустилась на колени перед отпахнутым пологом двери, закрыв лицо руками. Снег летел, набивался в ее волосы. Тысячи алмазов в ее косах. «Молилась ли ты на ночь? Я молюсь каждый вечер. Это бесполезно. Бога нет. Бога больше нет. Нет святого. Я убила моего мужа, и я еще хочу молиться, отмолить грех?! Это нельзя. Это невозможно. И убить себя я не смогу».
– Иуда, – прошептала она, стоя на коленях, – Иуда. Унеси меня. Увези меня. Если ты сможешь – сам убей меня. Я попрошу тебя, и ты убьешь меня. Ты освободишь меня от ужаса. Я же ничего не помню, Иуда. Ничего.
Снег налетал, подползал к ее ногам – наметалась у входа снежная горка, – усыпал мелкими жемчужинами ее жалко спутанные, нечесаные волосы. Далеко, за вереницей юрт, слышался крик: «Братушки-и-и!.. Вечеря-а-а-ать!..»
Ветер взвивал снег, швырял в лицо. Запахиваясь в тырлык, Катя стояла перед юртой Унгерна, не решаясь войти.
Она сама решила прийти к нему. Думала: пусть барон сам назначит ей казнь. Она признается ему. А больше и некому.
Иуда уехал сразу же после того, как они были вместе. Уехал молча, ничего не сказал. Седлал коня, она стояла рядом, смотрела. Сухие глаза, сухие губы. Целую жизнь она прожила в один тот день.
А потом, когда Иуда уехал в Ургу, места себе не находила. Она погрузилась в соленое озеро жгучего, неотвратимого бреда. Ее преследовали видения: вот она заносит над Семеновым нож… вот вонзает ему в грудь. Вот он – зачем он это делает?.. – хватает ее за волосы, накручивает себе на руку, тянет ее за косу, швыряет на пол юрты. Вот страшно орущая Машка, вся в крови, прижимая руки ко рту, кричит истошно: «Не я!.. Нет, не я! А она! Она пришла ночью и убила Тришеньку!..»
Стой не стой перед юртой командира – надо входить.
Катя толкнула в плечо задремавшего у входа часового.
– Эй, – произнесла она побелевшими на морозе губами, – я к барону. Доложи.
– Госпожа Терсицкая? – Солдат, всмотревшись в нее, широко, как зверь, зевнул, прикрыв рот ладонью. – Цин-ван теперича занят. У него гость.
– Кто?..
Катя поежилась. Ветер завивал подол тырлыка вокруг ее мерзнущих колен. Небо было ясное, как слюдянский аквамарин.
– Дамби-джамцан, – ответил солдат и сплюнул сквозь дыру от зуба коричневой табачной слюной. – Джа-лама, язви его, Господи, прости. Прибыл из своего Ма-Цзун-Шаня. Командиру голову морочит. Обманет он барона, как пить дать.
– Красные и белые дьяволы в конце концов истребят друг друга, светлейший цин-ван. – Джа-лама засунул трубку в зубы, выпустил дым между оскаленных в улыбке зубов. – Для красных я – единственный враг великой Монгольской революции. Для белых – грабитель, отниматель сокровищ у несчастных путников, идущих через перевалы в Китай. Может быть, даже предатель. Но мое счастье – в том, что я один. Я не со всеми. Я сражаюсь, но я хочу сражаться один. С моими людьми. За мое дело. Так же, как и вы, цин-ван.
Унгерн сидел напротив Джа-ламы с папиросой во рту. Нервно курил. На столе, в медной пепельнице в виде черепахового панциря, уже скопилась горка окурков. Хорошо говорит, сволочь раскосая. И умно все понимает. Значит, мы соперники? Но ведь мы оба бьемся за счастье Азии. И за свое, заметь, свое первенство в этой битве.
– Да, так же, как и я. – Недокуренная папироса полетела в медную черепаху. – Вы правы.
– В моей крепости пятьсот юрт. В моем отряде – триста пятьдесят сабель. Мне довольно. Я и мои люди свободны от ваших сумасшествий. Россия – слишком большая страна, чтобы мне отрицать ее правоту или неправоту. В январе я был в Астрахани. Я видел там гражданскую войну. Передрались казаки и солдаты – казачье войско и Астраханский гарнизон.
– Кто победил?.. – Унгерн выбил из мятой пачки еще одну папиросу.
– Солдаты, конечно.
– Почему «конечно»? Разве у казаков не было пулеметов?
– Были. Им помогали офицеры, еще подоспели уральские казаки. И все равно солдаты взяли верх. Думаю: может, это взяла верх новая жизнь?
– Новая власть, вы хотите сказать, Дамби-джамцан. Власть, и только власть, переворачивает старый мир. Я тоже переворачиваю мир. Я хочу написать на белом знамени последнее, двадцать седьмое имя Чингисхана, кровью моего последнего врага.
Джа-лама еще больше оскалился. Запыхтел трубкой.
– Я тоже этого хочу. Вы хотите того же, что и я. Почему же мы не вместе?
– Да, вот странно, почему же мы не вместе, Джа-лама? – Унгерн прищурил белые глаза, похоже оскалил прокуренные желтые зубы. Дым призрачно обволок его коротко стриженную голову. Они с монголом смотрелись странно: медная широкоскулая рожа, почти голый череп Джа-ламы, его узкий смоляной прищур – и по-солдатски стриженная, сивая башка командира, а белый огонь так и хлещет из пристальных, недоверчивых жестоких глаз. Смуглый и белый. Юг и Север. – Мы не вместе потому, что я не хочу грабить караваны. Грабьте их вы. Вы обобрали и убили паломников, что везли Далай-ламе пушнину, дорогие ткани, серебро, золото и самоцветы. Зачем вы это сделали? Вы, верующий, исповедующий слово Небесноликого Будды?
– Потому, что это побоялись сделать вы. – Джа-лама откровенно смеялся, глядя в лицо Унгерну. – Вы бы рады были бы сделать это, да у вас…
– Смелости не хватило? – усмехнулся барон. Затолкал языком папиросину в угол рта. – Хотите сказать, мне нужны деньги и сокровища для достижения нашей обоюдной цели, да я не знаю, где их взять? Знаю. Я имею дело с уважаемыми людьми, кто владеет доступом к перемещению мировых денег. В отличие от вас… дорогой Дамби-джамцан.
– Вы думаете обо мне, что я слишком дик?
– Я думаю, что вы слишком азиат, Джа-лама.
– Я так мыслю, вы больший азиат, цин-ван, чем я, только боитесь себе в этом признаться.
Часовой просунул голову в дверь юрты. Джа-лама не шевельнулся. Унгерн нетерпеливо, нервно простучал пальцами по усыпанному пеплом столу, уставился на солдата.
– Что?
– Там Катерина Семенова, командир. Она рвется к вам. Я сказал, что вы беседуете. Она не уходит. Стоит… мерзнет. – Часовой кивнул за плечо, назад. – Пустить?..
– Зови.
– Как прикажете. Слушаюсь.
Джа-лама вскинул голову, окутанную табачным дымом, и увидел, как в юрту, отряхивая снег с плеч, вошла та самая девушка, что являлась к нему в Тенпей-бейшин вместе с Иудой Семеновым. Катерина, он сразу ее вспомнил. Ни один мускул не дрогнул на гладком медном лице с широкими щеками и сильно сощуренными глазами. Под глазами у Джа-ламы были мешки – вчера он много выпил рисовой водки. Девушка взглянула на него, глаза ее расширились. Какая большеглазая, подумал Джа-лама, высасывая дым из трубки. Что скажешь, русская барышня? Да ведь она жена атамана Семенова, вспомнил он. «Не жена – вдова», – поправил он себя.
Катерина сделала шаг вперед, еще шаг. И внезапно повалилась на пол, на колени. Не изъявляя почтение барону и ему, повелителю степей, нет. Просто лишилась чувств.
Барон, лягнув стул, вскочил. Подхватил под мышки бесчувственную Катю.
– Слишком долго проторчала на холоду, – пробормотал он. – Вы, беспристрастный докшит! Помогите. Разотрите ей виски спиртом. Спирт вон там, на полке, в зеленой бутылке.
Джа-лама протянул руку, взял бутыль темно-зеленого стекла, отвинтил пробку, вылил на заскорузлую ладонь спирт. Унгерн посадил Катю на лавку, Джа-лама стал растирать ей лицо, щеки, виски. В юрте остро запахло алкоголем. Катя открыла глаза. «У нее глаза как у коровы», – подумал Джа-лама.
– Барон, – пролепетала Катя, – барон… Простите, я, кажется…
– Успокойтесь. Хлопот мне с вами. – Унгерн плеснул спирта в докторскую мензурку, разбавил холодной водой из прокопченного медного чайника, поднес рюмку Кате. – Я отправлю вас на запад, в Россию, с первым же обозом из Урги. Пусть вас большевики носят на руках. Но они вас, скорей всего, расстреляют. Значит, я отправлю вас на восток. Поезда до Харбина идут сейчас и от Иркутска, и от Читы.
– Расстреляйте меня лучше вы. – В голосе Кати появилась твердость. – Я преступница.
– Что такое? – Брови барона вскинулись вверх. Прозрачные глаза потемнели. – Что вы городите?
– Я убила своего мужа, Роман Федорович. Я убила Трифона Михайловича. Велите расстрелять меня.
Опять бешеные глаза налились белым, ртутным пламенем. Загорелись смехом. Видно, он принимал ее за сумасшедшую. Он все еще держал у нее перед носом рюмку.
– Выпейте. – Она послушно взяла у него из рук рюмку, выпила. – Я велю вас расстрелять, если это правда и если вы этого сами хотите. А знаете, Катерина Антоновна, какая на Руси полагалась казнь за мужеубийство?
– Нет… да… кажется, знаю…
– В землю живьем бабу закапывали. – Белые глаза уже нагло, жестоко смеялись, хохотали над ней, вжавшей голову в плечи. – В мерзлую, холодную землю. Только голову оставляли, голова одна торчала наружу. Ни есть, ни пить не давали. Собаки подбегали, выли, лаяли, отгрызали от головы нос, ухо. Баба сначала орала, плакала, потом кричать и плакать переставала. Иногда сердобольный солдат добивал ее.
– Копьем? Перебивал шейные позвонки? – спросил Джа-лама. Он не двигался, невозмутимо курил трубку.
– Пулей в лоб из ружья. Или в затылок.
Взгляд златовласой девчонки стал совсем твердый, осмысленный. Щеки порозовели. Спирт подействовал. Ого, хорошо взяла себя в руки. Унгерн передвинул языком окурок из одного угла рта в другой. Ждал, что скажет Катя.
– Казните меня, – сказала она.
Широкое лицо Джа-ламы расплылось в лучезарной улыбке.
– Женщина убила мужа, цин-ван? Женщину надо казнить. Видишь, она сама созналась. Ты сама, – обернулся Джа-лама к ней, – выберешь себе вид казни, хубун. Не мы.
Катино лицо было бледно, губы сжаты. Она сидела сейчас на лавке прямо – так, как всегда сидела на лошади. Жизнь – скачка. Она доскакала. Она ничего не поняла, как она подскакала к обрыву, и там, под ногами, расстилалась пропасть, в ней клубился туман, пар, облака. Мысли толклись у нее в голове, как столбом толчется гнус в тайге по весне. Бились судорожно. Она сглотнула. Так, да. Ее мать отравилась. Да, так же, как ее мать, да…
– Я хочу принять яд.
Джа-лама вынул трубку изо рта. В колышащемся пламени свечи перламутрово блеснуло его малиновое, расшитое золотой нитью дэли.
– Я привезу тебе яд. Самый сильный. Им убивали, да и сейчас убивают, при дворе китайских императоров. Ты уйдешь к богам сразу же, не мучась.
Катя, не отрывая взгляда от широкой сковороды лица Джа-ламы, чуть наклонила голову.
– Благодарю.
– Но я же еще не произнес приговор.
Бледный, враз помрачневший Унгерн – куда и смех исчез – стоял перед ней в своем френче, поверх которого была накинута традиционная желтая курма цин-вана, – огромный, худой, длинный как слега, и его костистые нервные руки вцепились в спинку стула, и его белые глаза вонзались в нее, как концы раскаленных железных прутьев. Если он вот так будет глядеть на нее – вот она и казнь. От таких глаз можно запросто умереть. Они слишком страшны для простого смертного. Может, правду монголы говорят, и барон – один из Восьми Ужасных, Махагала или Памба, или Эрлик-хан, а может, и сам Жамсаран?!
Катя выпрямилась. Слишком бледные щеки у командира. Слишком желтые зубы в улыбке. Он – улыбается – ей?! Ей, убийце…
– Так произнесите его.
Унгерн стоял перед ней. Она хорошо рассмотрела медную пряжку на военных галифе командира, виднеющихся в распахнутых полах халата. Медная широкая пряжка, двуглавый орел. Российский герб. Что за чудовище, двуглавая птица. Одну голову отсекут большевики. Другую – Унгерн. Дергайся, безглавая Россия, на широком блюде то жарких, то заледенелых степей. Может, попросить, чтобы ее – обезглавили?
– Приговариваю тебя к смертной казни, Екатерина Терсицкая, вдова Семенова, за зверское убийство своего мужа, атамана моей дивизии, Трифона Семенова, – слишком просто, буднично сказал Унгерн. – Я арестовываю тебя. Ты будешь у меня в юрте до вечера. Вечером из Тенпей-бейшина тебе привезут яд.
Он повернулся к ней спиной. Огонь свечи полыхал как бешеный, будто не свеча горела, а маленький смоляной факел. Жамсаран на мандале на стене юрты скалил синие зубы, высовывал красный язык, тряс детскими черепами на толстой, жирной груди, поднимал ногу, похожую на корягу. Джа-лама курил трубку, улыбаясь, неподвижно глядя на двоих людей, один из которых, женщина, решился умереть.
Машка вбежала в юрту, с разбегу бросилась ей на грудь. Заревела в голос.
– Катя, Катька!.. Как же так, Катька!..
Катя обняла ее равнодушными, слабыми руками. Отодвинула от себя.
– Не кричи, Маша, – сказала она и болезненно поморщилась. – Не трави и меня, и себя. Я все поняла. У меня было помрачение. На меня нашло. Я сумасшедшая, Маша. Я в мать уродилась. Я больна. Я убила Трифона. Ты понимаешь, я, я. Я должна умереть. Не кричи… не плачь, прошу тебя…
– Ты дура! – пронзительно крикнула Машка. Потом вся враз обмякла, опустилась у ног Кати на старый, крепкий гимназический стул, невесть как и откуда – должно быть, из Урги – доставленный в юрту командира. – Ты скатила с ума, девочка… Так же нельзя… Что ты знаешь про себя… про ту ночь…
– Я все вспомнила, – твердо, будто колотя железом в железо, сказала Катя. Машка схватив ее руками за талию, затрясла ее, как трясут яблоню, чтобы спелые яблоки упали наземь.
– Ничего ты не вспомнила! Ты поклеп на себя возвела!
С Машкой случилась истерика. Из юрты Унгерна ее увели к себе насильно, предварительно напоив успокаивающими каплями. Тем самым бромом из круглого пузырька, что пила Катя на ночь иной раз, когда не могла быстро уснуть.
* * *
Иуда осадил коня. Спрыгнул на землю. Здесь. Да, кажется, здесь, он не перепутал. Все верно – маленький китайский ресторанчик неподалеку от храма Мижид Жанрайсиг. Черный маленький домик с выгнутой игрушечной крышей, над входом висит отлитый из чугуна, позолоченный китайский иероглиф «ФУ», что означает – «счастье».
Счастье, что за ирония. А разве ты не счастлив, офицер?
«Счастье. Ложь. Насмешка. Катя. Сон. Видение. Бред. Нет, конечно, я счастлив. Тем, что жив, что еще меня пуля не нашла?!»
Ты счастлив любовью. Любовью своею.
«Любовь не долготерпит. Не милосердствует. В наше время не может быть любви с белыми крылышками ангелочка. Катя сама испугалась. Муж мертв; она жива; я жив. Идет война. Россия распята на огненном кресте. Любовь, какая чушь! Эта любовь погибнет от свиста первого же паровоза, который увезет одного из нас – куда?.. Во Владивосток?.. В Шанхай?.. В Калькутту?.. В Суэц?..»
Эта любовь погибнет лишь от свиста пули… от свиста стрелы, глупец.
«Да, возлюбленная моя. Да. Ты единственная. Ты еще узнаешь, кто я».
Привязав вороного коня к коновязи, он наклонился, раздвинул звенящие бамбуковые занавески, мотавшиеся перед низкой дверью, и вошел в китайскую харчевню. Его сразу обнял дым, объятьями охватила странная, нежная струнная музыка – будто кто-то лениво, медленно-тягуче щипал струны то ли гитары, то ли мандолины, то ли японского сямисена или нежного кото, – наплыли диковинные странные запахи, среди которых он безошибочно различил запах опия. Хм, опиекурильня?.. Хозяин делает неплохой доход. Официально курение опия запрещено, да разве человеку запретишь опьяняться и наслаждаться? А другому человеку – денежки зарабатывать? Иуда раздул ноздри. Он знал – барон балуется опием. И тщательно скрывает это от подчиненных, от офицеров и солдат. Вождь должен быть непогрешим. Водки нельзя – сам же за нее, родимую, и бью и вешаю, – так хоть опием побалуюсь.
Иуда усмехнулся. Выцепил глазом свободное место на длинной деревянной лавке вдоль такого же длинного стола. «Гляди-ка, столы, как у нас в России, в монастырских трапезных, – подумал удивленно. – А не как маленькие, круглые ресторанные столики. Строго так… даже печально. Аскетично. Таким мог быть стол в доме Иосифа Аримафейского, когда Иисус с учениками вкушал Тайную Вечерю. Хлеб, вино… Любопытно, чем же тут китайчата потчуют?..» Он щелкнул пальцами. Подскочила раскосая девочка лет двенадцати. Все повадки опытной жрицы продажной любви. Раненько ты начала, крошка. Жить-то тебе надо, это так. И твоей семье. Небось, китайская семьища, по лавкам сидят семеро мал-мала меньше, мать плачет, отец сажает синий лук и продает на Захадыре по дешевке… Раскосенькая китаяночка широко заулыбалась, согнулась перед Иудой в низком, до земли, поклоне. Залопотала по-китайски. Иуда уловил знакомые слова: трубка, рис, водка, – и кивнул головой. И трубку, и рис, и водку. Все тащи.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.