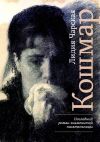Текст книги "Тень стрелы"
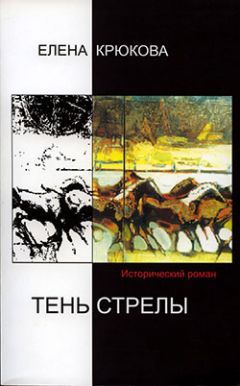
Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Часть третья
Судьба
Золотая бабочка
Вести войну – искусство созерцать Полярную звезду в Южном полушарии.
Доктрина Зен-шу
– В Кяхте уже Монгольское революционное правительство. – Разумовский пригладил волосы, улыбнулся, золотые зубы во рту сверкнули. – Недолго осталось сидеть на азиатском троне нашему умалишенному барону. Что говорит наша славная девочка, что пасется там, в ставке?
– Наша замечательная девочка работает исправно. Информация поступает бесперебойно. Мы знаем действительно о каждом шаге Унгерна. Письма перехватываются. Недавно из Пекина снова приезжал Крис Грегори. Я встречался с ним.
– Вы? Вы один? Без Биттермана?
– Я… один. – Носков отвернулся, потеребил бороду. Отводил глаза от Разумовского. Разумовский тонко, понятливо улыбнулся.
– Я верю вам. Что сказал Грегори?
– Что Чжан Цзолин никогда не будет соединяться с Унгерном и никогда не станет бороться бок о бок с ним с китайскими красными.
– Грегори знает о том, что по всей Монголии, Бурятии и Китаю организуются красные части? И что у них на знаменах – не красная звезда, а свастика?
– Он заострил на этом мое внимание в первую очередь. Грегори считает, что эти новые красные части, под знаком «суувастик», весьма перспективны, но и весьма опасны. Рождается новое учение. И народы пойдут за ним. Это не подленькое, пошленькое в своей основе, хотя и четко высчитанное учение Маркса. Маркс был рациональная башка, без грана мистики. Эти восточные господа идут гораздо дальше. Они, на наших с вами глазах, господин Носков, рождают новую силу. Силу, которая… хм… – Разумовский поправил пенсне, спадавшее с носа, – перевернет, я думаю, устои нынешнего века. Век молодой, варево бродит и кипит в котле. Мы с вами будем свидетелями того, какой сварится суп. И мы будем лаптем, уважаемый, сии щи хлебать.
Носков повернулся к Разумовскому. Кресло под ним скрипнуло. Хромовый начищенный сапог тоже скрипнул.
– Смысл этой новой силы, дражайший Александр Иваныч?..
– Смысл? Извольте. Знак «суувастик» – древний тибетский знак, символ старой, очень древней тибетской религии, одной из ответвлений религии бон-по. Эта религия – религия смерти. Как многие верования в Тибете, между прочим. Смерть, уничтожение другого, чужого, ставится во главу угла. Люди, организованные таким вот образом, могут понаделать многое… подмять под себя земли, народы. Превратить тех, кого они поработят, в рабов, в слуг… что я, хуже, хлеще!.. в строительный материал для их целей… целей избранных… просто – в камень, в булыжник… в дымящийся асфальт… И свастики, милейший, заметьте, две. У одной рожки загнуты так, что она вроде бы катится посолонь. Она вроде бы добро несет… мир. А та, что катится противосолонь… – Разумовский поймал на лету все-таки свалившееся пенсне. – Тут дело плохо. Это прямой знак гибели. Это солнце, которое сжигает дотла.
– Но тогда… – Носков пожал плечами, наклонил тяжелую, как гиря, голову. – Тогда это знак самого Унгерна! Почему ж он не воюет под ним?
– А потому что, видите ли, что он не так подробно знаком с учениями Тибета, как, скажем, я. Я ж все-таки учился на историка в университете, не забывайте, вы, купец.
– Зачем вы обижаете купцов, Александр Иваныч? – Носков возмущенно напыжил бороду. – Что бы вся русская Азия, да и все китайчата с япошками, и иже с ними, все ваши тибетцы и индийцы, делали без купцов?! Афанасий Никитин вон за три моря ходил… сколько путей открыл… товары потекли, деньги повалили, как снег…
– Снег, снег… – Разумовский вынул из кармана брегет, кинул взгляд на секундную, быстро бегущую стрелку. – Я ничего плохого про купцов не хотел сказать, любезный. – Осклабился. Снова уставился на часы. – Что бы мы все без ваших денежек делали, плохо представляю! И без Биттермана, ведь он единственный, кто поставляет нам нелегально оружие… и задешево, заметьте, задешево…
– Не только нам, Александр Иваныч. Не только.
– У бога торговли Меркурия абсолютно, вы считаете, нет нравственности? И политических убеждений, ха-ха!..
– Совершенно верно, господин Разумовский, мыслить изволите. Нет как нет. Что вы на часы-то уставились?
– Девочка наша, ласточка, должна прибыть с минуты на минуту. Из ставки скачет… из лагеря. Всего на полчаса сюда. И – обратно. Тоже бабы русские, а, милейший?.. выносливые, что тебе твоя лошадь!.. И не спят, и едят черт-те что, бурду, похлебки, опилки вместо хлеба жуют, и стреляют не хуже солдат, и, многие, особенно здесь, на Востоке, борются, знаете, наравне с мужчинами…
– Наша-то – тоже ведает восточные единоборства, что ли?.
– Нет, она, видите ли, от этого далека, умом не вышла, здесь все-таки ум, как-никак, поострее нужен… и школа, а учиться этому, у здешних мастеров, – дорогого стоит… Она обыкновенная ночная бабочка, и это, представьте, самая замечательная профессия для шпионки…
Носков сердито запыхтел.
– У вас курева не найдется?.. Шпионка, громковато сказано для простецкой профурсетки, вами нанятой за деньги! Вы ей много платите?
– Ровно столько, чтобы она думала, что зарабатывает недурно.
В окно постучали. Два раза, три и еще два, с паузами. Разумовский осторожно подкрался, будто подполз, к окну, медленно отодвинул занавеску, всмотрелся в виноградно-сиреневую тьму, взял со стола свечу в подсвечнике, два раза махнул перед окном, что значило: «Сейчас открою».
– Она?
– Она.
Разумовский прошел к двери. Носков, оставшись один, огляделся в комнате. На стене он заметил коричневую фотографию той китаянки, что они похитили, решив шантажировать барона, а ее похитили у них самих, оставив их с носом. Нет, купля-продажа людей – занятие не для купца. Купец должен заниматься честным промыслом. Обмануть покупателя – это, конечно, дело святое. А Унгерн дурак. Ему бы надо убраться подобру-поздорову, податься сейчас куда-нибудь на запад, в Кобдо, или же, на худой конец, собраться с силами, запастись провизией и оружием и идти в Приморье. Но он дурак, он возомнил себя владыкой Центральной Азии и никуда не двинется с места. Впрочем, эта шалава говорит: он хочет идти в Тибет. Тибетец какой нашелся, прости Господи! Да все его дохлое войско в Тибете повымерзнет, солдаты сдохнут, как крысы, от мороза, от нехватки воздуха в высокогорье, от голода – средь голых снежных скал даже полынь не растет…
Дверь стукнула. Носков поднял голову, инстинктивно застегнув расстегнутую перламутровую пуговку на жилетке. В гостиную вошла, сбрасывая на ходу на руки Разумовскому короткую истрепанную шубейку, румяная с мороза, весело улыбающаяся женщина; ее щеки были свекольно размалеваны, губы подмазаны морковной помадой, глаза, подведенные дешевой сурьмой, полыхали, дерзкие, наглые, широко распахнутые, огненные.
* * *
Ганлин играет
Предать. Сначала поклясться; затем предать.
Предают всех. Предают все. Нет на земле человека, который не предал бы другого.
Друга, мужа, жену, сына.
Солдат предает генерала. Генерал – армию. Армия – свой народ.
И все, все мы нагло, безнаказанно предаем Бога.
Ты можешь ли простить предательство?!
Предательство – это то, что я не смогу простить никогда.
И никому?!
…но она же, раскосая лавочница с Маймачена, она же тебя не предавала, а ты…
…никому. Никогда.
– Ах ты, дрянь! Где твой хозяин?! Где твой «король сурка»?! В Лондоне?! В Пекине?! В Урге?! А может, в Москве?! А может, рядом тут затаился, за юртой, и наблюдает за тобой, сволочью?! Весь рынок к рукам прибрал?! Все денежки под брюхо подтянул?! Что усики-то дрожат, в штаны наклал?!.. А-а-ах ты… таракан ты… Говори, где спрятал деньги! Говори! Сцапали тебя – так не отвертишься! Разожми рот-то! В героя не играй!..
В юрте палача Сипайлова, подвешенный за пальцы к потолку, висел, едва доставая ногами до пола, скрежеща зубами, купец Ефим Носков, раздетый догола. Сипайлов разжигал в жаровне железный прут. На спине Носкова уже вздувались полосы ожогов. Сипайлов разогнулся, встал с колен от жаровни, приблизился к висевшему на крепах юрты купцу с раскаленным докрасна железным прутом в обмотанном окровавленной тряпицей кулаке.
– Ну же, раскалывайся, как орех! Ты, тайный большевик! Мы сотрудничали с тобой, а ты предал нас! И гибель атамана и его брата – это твоих рук дело! Это ты сделал! Ты, чтобы посеять смуту в наших рядах!.. Сколько платят тебе, гадине, красные?!.. Сколько?!.. О да, у красных много денежек… Они там, через своего вождя, с немцами спелись, а вся Россия и вся Европа, мать их за ногу, вид делают, прикидываются, что не понимают этого… Все спелись со всеми… все для своей выгоды стараются… все гребут под себя… и ты туда же!.. да не удалось тебе, красная собака… Ты, красная собака! – Красно горящий прут закачался перед глазами Носкова. – Говори, или я тебе сейчас этим прутом буркалы выколю!
По лицу Носкова тек пот, заливая глаза. Он кривился, кусал губы, кровь из прокушенной губы текла по подбородку. Он, вытаращив глаза, с ужасом взирал на раскаленное железо, мотавшееся перед его носом.
Господи, вот оно и Твое наказание за грехи вся. Смилуйся, Господи, не покинь. Как не вовремя его взяли, ах, черт. Кто, кто выдал его?!.. Разве поймешь теперь. Он с ними со всеми был связан. Он продавал оружие Унгерну через Иуду Семенова. Он обсуждал денежные и военные планы с поручиком Ружанским. Биттерман, его хозяин, только притворялся, что торгует мехом, рухлядью, куньими и сурчиными шкурами; это все было для отвода глаз, для рынка Запада, для кокетничающих лондонских и парижских модниц: купить шубу из монгольского сурка за бешеные деньги, разве это не высший шик! Биттерман, падла, торговал оружием, английскими винтовками, английскими танками, английскими револьверами, английскими гранатами – и его, Носкова, в это втравил. Господи сил, сколько ж китайских и американских долларов он выручил на этих сделках!.. ты один, Господи, ведаешь… А сейчас они изловили его – и хотят от него сто тысяч долларов. Сто тысяч, Царица Небесная!.. и наличными… Ума лишились… Но ведь эти деньги у него есть, есть, есть, черт побери, они просто спрятаны тайно, надежно, они у надежного человека, их не так-то просто обнаружить, ежели даже того человека убить – и тем паче не отыщешь, тогда уж никто местонахожденье денежек не откроет…
И в конце концов они все-таки втравили его в это дело… В заговор против барона… Они все-таки проехались на нем, как на сивой кобыле… Объегорили его… Обхитрили… И – кто-то из них – его, Носкова – сдал…
Господи, прокляни их. Накажи их. Господи великий, Исусе Христе мой, проклинаю тот день, когда я связался с этими чертовыми господами, с этими заговорщиками… любой заговор или быстро приводится в исполнение, как судебный приговор, или – позорно раскрывается, и тогда… и тогда…
А Разумовский, акула, златые горы обещал ему, подвывал сладко: давай, давай, Ефимка, нам деньжат, субсидируй нас щедро, не жмоться, все тебе потом, позже, сторицей вернется, когда мы Унгерна скинем и сами всю Монголию и всех китайчат к рукам приберем… тебе ж неважно, с кем торговать, на чем деньги делать, с кем бумажонками перекидываться – с красными или с белыми, с буддистами или с православными?!.. Неважно, а, честно?!..
– Господа… честью клянусь… не красный я… не красный…
Хрип и бульканье из горла. Вылезшие из глазниц, как перепелиные яйца, глаза.
Раскаленный прут взвился. Хлестнул по голому толстому животу Носкова. Купца закрючило на самодельной дыбе, из него вылетел не стон – птичий клекот, перешедший в тонкий, звериный визг, тут же оборвавшийся. В тишине был слышен скрип зубов. Потрескивали угли в жаровне.
В темном углу юрты молча, сцепив себя за локти худыми пальцами, сидел барон. Из тьмы жадно, блестко, как у зверя из норы, сверкали его белые глаза. Он засунул руку за пазуху, за отворот кителя, вытащил железную коробочку, открыл ее большим пальцем, высыпал себе на заскорузлую ладонь два маленьких шарика, с виду металлических, похожих на охотничью дробь. Вбросил в рот. Снова молча уставился на висящего под потолком купца.
– В героя играешь?! Зубами скрипишь?!.. Ну-ну… поглядим…
Сипайлов сунул железный прут в угли жаровни, и тут Носков разлепил запекшиеся губы и хрипло, ненавидяще изрыгнул:
– Гады. Змеи ползучие. Твари поганые. Чтоб вас всех на том свете сатана на сковородах вечность напролет поджаривал, а вы бы вопили и корчились. Суки грязные. Черви китайские. Китайцы червей жрут… вот так же вас пусть черти в аду вечно грызут, косточки ваши хрупают… нехристи… выблядки…
Сипайлов так и застыл с дымящимся алым прутом в руке. Вытер тылом ладони пот со лба. И палачи умучиваются, устают от пыток, однако.
– Ишь ты, да еще и кочевряжится, падаль! – изумленно выдохнул он. – Как же это прикажете понимать, господин барон? Значит, отпирается, сучонок вонючий?.. Прикажете за Бурдуковским послать?.. я что-то ухандокался тут с ним, крепкий орех, однако, перекур…
– Предатель, – донеслось из углу. – Предатель. Такой же, как и Ружанский.
– Ружанского и его бабы уж ищи-свищи в небесах, ваше высокопревосх…
– А спроси-ка его, Ленька, – голос барона был ровен и холоден, будто бы он наблюдал катающихся на катке под веселую музыку, – спроси-ка его, знаком ли он был с господином Ружанским.
– И что?.. И ежели знаком?..
– Ты что, Сипайлов, дурень совсем? Мы вытащим тогда всю ядовитую змею за хвост. И я, между прочим, не уверен, что у этой змеи одна голова.
Сипайлов, тоже скрипнув зубами, шагнул к пытаемому. Взял грубо рукой Носкова за подбородок. Сжал лицо в пальцах, будто мандарин, из коего хотел выдавить весь сок. Обернул к себе.
– Мне в глаза, гиена! Мне в глаза! Знаешь Ружанского?!
Молчание. Свист железного прута. Багрово, сине, кроваво вздувающийся рубец – поперек груди.
– Где спрятаны доллары?! Где наличные?! Где тайник?!
Молчание. Сипайлов, тяжело дыша, подносит раскаленный прут к лицу купца. Мгновение – и красная вздутая полоса пролегает накось через все исказившееся в гримасе муки лицо Ефима Носкова.
– Ты, хорек! Щас зубы выбью! Прутом насквозь проткну – скажешь!
И вдруг Носков запел.
Это было так странно и страшно, что даже барон встал, выпрямился в своем наблюдательном углу.
Носков, разинув искусанный рот, хрипло запел, и можно было все до одного разобрать слова, и они были страшны, умалишенны, удивительны, призрачны, и они таяли в воздухе, как тает падающий снег:
– На санях я по степи еду-у-у-у, и солнце светит мне в лицо-о-о-о… Долго я бродил по све-е-ету, потерял твое, зазнобушка, кольцо-о-о-о… Кони стали, кони ста-а-а-ли-и-и… колокольчик прозвене-е-ел… Я в любви да я в печа-а-али, а признаться не успе-е-е-ел…
– Спятил, – испуганно прошептал Сипайлов, замерев с железным прутом в руке, – как пить дать, спятил, господин барон…
– Я так с жизнию проща-а-аюсь… не жаль ни-че-во ничу-у-уть… В небесах не обеща-а-аюсь… помнить оченьки и гру-у-удь… Помнить алый твой румянец… и пожатие-е-е руки-и-и-и…
– Идиот, – сухо сказал Унгерн, – или хитрец. Думает нас разжалобить. Не выйдет.
Он сделал шаг к пытаемому. Носков не видел его. Он, с кровавой полосой ожога через все лицо, уже не видел никого и ничего. Его обожженный глаз заплыл, веко вспухло, превратилось в ягоду морошки.
– Деньги?! Доллары?!
– Помнить твой весе-о-олый та-а-анец… и в веночке васильки-и-и-и-и…
– Твою мать, васильки, – пробормотал барон. Пнул свисающую ногу Носкова. – Ты! Пушнину со складов еще не успел продать?! Хоть пушниной расплатись за предательство, змей!
– Он ничего больше не скажет, Роман Федорыч, – выхрипнул Сипайлов, досадливо швыряя железный прут в зазвеневшую жаровню. – Не видите, он сошел с ума.
Ефим Носков, запытанный вконец и потерявший разум, так и не выдал, где лежали, завязанные в мешки и упакованные в чемоданы, сотни тысяч китайских и американских долларов и английских фунтов стерлингов, которых тщетно добивался от него Унгерн. Это были не целиком его деньги. В припрятанной сумме находились и азиатские деньги Биттермана. Слуга не выдал хозяина. Сам Биттерман, будучи изловленным, под подобными пытками давно развязал бы язык. Унгерн собственноручно застрелил купца. Его труп выбросили на берег Толы. Ургинские красные собаки-трупоеды терзали его, отгрызая то кисть руки, то нос, то ступню. Пес, грызущий труп, закашлялся, выплюнул обручальное кольцо Носкова в снег.
Ночью на берег Толы пришла женщина, вся закутанная в черное, в платок до бровей. Стоял сильный мороз. Женщина закрывала лицо от мороза рукою в кожаной, отороченной собольим мехом рукавице. Нагнувшись над истерзанным трупом, пошарив в грязи, камнях и снегу, она подняла из снега золотое кольцо и медленно надела себе на палец.
Огрузлое синюшное лицо Джа-ламы плыло перед Доржи, как полная Луна. Доржи только что вошел в апартаменты Джа-ламы в Тенпей-бейшине; он стоял у двери в дорожном тырлыке, почтительно поклонившись, и держал в руках резную, по виду – старинную черную шкатулку; в замке шкатулки торчал ключ. Джа-лама смотрел вроде бы и на Доржи, и как будто мимо него, поверх него. Доржи не мог поймать его ускользающий взгляд.
– Ты привез мне известия от Богдо-гэгэна? Или какую другую радость?
Доржи легко поклонился еще раз. Его лицо, цвета темного кунжутного масла, расплылось в улыбке.
– Я привез вам, досточтимый Дамби-джамцан, благословение от самого Далай-ламы. Посланные от Далай-ламы прибыли в Ургу не далее как вчера вечером. Они поддерживают цин-вана Унгерна в его начинаниях, касающихся переустройства Азии и возврата незыблемых имперских традиций, в частности, восстановления маньчжурской династии Цин, а также приветствуют законного владыку Богдо-гэгэна и вас, многоуважаемый, на вашем поприще, где вы не посрамляете восьмого воплощения святого героя Амурсаны. Далай-лама, наслышанный о вас много, хочет видеть вас лично. Но, пока это не будет возможно, его святейшество хотел бы засвидетельствовать вам свое почтение и посылает вам некие драгоценности и реликвии… чтобы они, будучи всенгда рядом с вами, могли помочь вам в трудную минуту.
– В трудную минуту, – раздумчиво, тяжело, как медовые капли, роняя слова, произнес Джа-лама. – В трудную минуту!.. Какая, по-твоему, Доржи, самая трудная минута у человека в жизни? А?.. Молчишь?..
– Самая трудная минута – смертная минута, – не моргнув глазом, ответил лама. Из-под мехового верблюжьего тырлыка просверкнуло небесным шелком синее дэли. – Никакой человек в мире не может сказать, что ему не трудно умирать.
– Несчастен тот, кто не умеет умирать, – так же медленно сказал Джа-лама, и его одутловатое лицо посинело еще больше. – В пятнадцать лет я уже умел это делать.
– Вот как? В пятнадцать лет? – Доржи не выпускал шкатулку из рук, стоял, выпрямившись, прижимая черный куб к груди. – Вы так рано познали скорбь и мудрость, о светлейший?
– Да. Так хотел Будда. В пятнадцать лет я полюбил девушку, а ее на моих глазах изнасиловал жрец бон-по, потом утащил в пещеру за ноги. Я не знаю, что с ней было потом. Я пытался проникнуть в пещеру бон-по. Я не нашел входа. Жрецы бон умеют замаскировывать свои страшные капища. Он насиловал девушку, которую я любил больше жизни, долго, очень долго. Он был очень сильный мужчина. Она теряла сознание. Он проник в нее даже сзади, раздвинув ей ягодицы. Брал ее груди в руки и засовывал свой Нефритовый Пестик между ее грудей. Потом он обливал ее водой из горной реки, что текла поблизости. Я смотрел на все это из-за кустов. Сердце мое билось очень сильно. Я думал, оно сломает изнутри мне ребра.
Джа-лама говорил медленно, глядя поверх головы Доржи в высокое крепостное окно. Косой красный луч солнца ложился алой шелковой тряпицей, какие обычно вяжут на священное обо, на каменные плиты пола.
– И вы просто так смотрели, о светлейший? Вы не пытались бороться за вашу девушку? Вы не напали на жестокого жреца?
Доржи улыбался. Его лицо выражало внимание и почтение – ничего больше.
– Нет. Я был ученик великого римпотше Шертен Ниимы. Послушник монастыря. Ниима был настоящий нгагс-па – маг. Он читал мысли. Он умел подниматься в воздух. За малейшую провинность он жестоко наказывал послушников. Мне было не избежать ударов бича по голой спине, если бы я рассказал ему, что влюблен в девушку. Сами мысли о девушках строго запрещались в монастыре.
– Значит, вы стояли и смотрели, как мучат вашу любовь? – Доржи не стирал улыбку с лица. – Вы были, прошу прощенья, Подглядывающий?
– Да, в некотором роде, Подглядывающий. – Джа-лама по-прежнему смотрел в закатное окно, мимо лица Доржи. – Я подглядывал. Я испытал тогда сильнейшее мужское возбуждение и сильнейшее любовное наслаждение. Может быть, самое сильное в моей жизни. Такого больше я не испытывал никогда.
– Искусный художник мог бы изобразить этот сюжет.
– Да, мог бы. – Джа-лама наконец-то посмотрел на Доржи, на шкатулку в его руках. – Давайте дар Далай-ламы! Я с удовольствием приму его.
Доржи с поклоном передал черную шкатулку Джа-ламе. Тот взял, цеременно поклонился, не нарушая традиций, отступил на два шага, поклонился еще раз, повернул ключ в замке, откинул резную крышку в виде крыши буддийской пагоды. Заглянул внутрь.
Внутри, на дне шкатулки, обитой изнутри синей священной далембой, на ярко-желтом куске шелка лежал обнаженный тибетский нож-пурба, а рядом – золотая ваджра, диадема, с пятью золотыми языками пламени, в которых – в каждом – сверкало по крупному густо-красному рубину… а быть может, это была розово-алая индийская шпинель.
– О! – сказал Джа-лама. – О! Я польщен. Это великолепно.
Он, держа в руках тяжелую шкатулку, поднял глаза на Доржи. Гонец в такое тяжелое, лживое военное время довез из монастыря священный дар. Гонец не украл драгоценную ваджру. Гонец не соблазнился на кинжал-пурба. Гонца следовало наградить.
Доржи стоял, скромно ждал повеления Дамби-джамцана.
Джа-лама, тяжело, как медведь, ступая, подошел к резному деревянному трону, стоявшему на возвышении, поклонился трону и, не поднимая склоненной головы, осторожно поставил шкатулку с дарами Далай-ламы на сиденье. Вынул из шкатулки ваджру. Надел на голову. Все пять красных, как кровь, камней дружно вспыхнули, брызнули яростным и праздничным светом. Джа-лама вынул пурба. Сжал в кулаке. Поднял над головой. Его губы раздвинулись в торжествующей улыбке, обнажив желтые, почернелые от плохой пищи, вкушаемой в боях, редкие зубы.
Доржи вскинул голову. Переступил с ноги на ногу.
– Вы – победитель, Дамби-джамцан. Мыслю так, я, недостойный: вы достойны занять, в конце концов, монгольский трон, хотя я уважаю и Богдо-гэгэна, и того, кого Владыка прочит себе на смену.
– А кого он прочит себе на смену? Не того ли, кто отнимет у него власть силой?
– А разве власть время от времени не отнимают силой, чтобы потом, позже, сделать ее своей, незыблемой и священной?
Джа-лама обдал ламу кипящей смолой узких глаз. Усмехнулся, потрогал желтый крупный, будто собачий, клык. У него стали болеть зубы, это нехорошо. Это признак старости. Надо почаще скакать на коне и зимою каждый день окунаться в прорубь. Или в чан с ледяной водой. Так говорил великий римпотше Шертен Ниима, а он знал толк в долголетии.
И в бессмертии они все тоже знали толк. Да он побоялся перейти грань, отделяющую живого от мертвого, в самом страшном тибетском обряде – Красного Пиршества.
Бессмертие. Ну уж нет. Жить вечно?! На кой черт. Жить стариком, когда тебе уже не захочется ни женщину, ни куска хорошей сочной баранины… Вот остаться вечно молодым – это да, на это бы он согласился…
– Да, лама. Власть берут, как женщину. Власть насилуют. Потом власть затаскивают в тайную пещеру, расчленяют, жарят, пляшут вокруг ее останков пляску демонов. И все начинается сначала.
– Вы бы хотели взять здесь власть?
Джа-лама поглядел прямо в лицо дерзкому ламе. Доржи стоял прямо, глядел бестрепетно.
«Ты нагл и смел, священник. Но я не казню тебя. Ты задаешь вопрос достойно и умно».
– Здесь и сейчас?
– Да, здесь и сейчас.
– Мне достаточно моей маленькой власти в Тенпей-бейшине, лама. Я не претендую, как некоторые, на владычество в Монголии.
– Как Унгерн?
Джа-лама снова сверкнул глазами. «Еще один дерзкий вопрос, священник, и я прикажу высечь тебя палками».
– А Унгерн претендует на него?
Он решил отвечать вопросом на вопрос. Красное пятно закатного света, как красная кхмерская кошка, медленно подползало ему под ноги, под начищенные сапоги из грубой свиной кожи.
– Да, Унгерн претендует на власть. Все его разговоры о том, что он отдаст власть одному из представителей династии Цинь, ушедшей в подполье, когда Богдо-гэгэн прикажет долго жить, – все это блеф. Он сам спит и видит себя на троне Монголии. А затем и всей Азии.
– Азию никогда не объединить. Азия – не территориальная империя. Азия – империя духа. Унгерн никогда не был в Тибете. Он не знает, что такое Азия. Горы, пустыни и снега Азии отторгнут его, выплюнут, сгрызут его с костями со всеми его притязаниями и амбициями.
– Унгерн ваш друг, о светлейший. Вам его лучше знать. Монголы пока еще обожествляют его. Но ведь барон – не персонаж мистерии Цам. Он человек, с одной стороны, опасный и хитрый, с другой – наивный, как мальчик, впервые оказавшийся в бою. Для него каждый бой – первый. Он опьяняется самим ходом боя. Выстрелами. Криками. Победой. Запахом крови. Да, он докшит. Но для того, чтобы быть государственным деятелем… чтобы быть властителем, императором, наконец, – Доржи провел ладонью по лицу, отирая пот, – он слишком неистов. Он наломает дров на троне. Он… простите… он для этого слишком русский.
– Разве русские – не азиаты? Разве их язык не произошел от языка жителей древних иранских нагорий? От языка древних насельников предгорий Тибета, которые потом ушли на запад, на север, расселяясь вплоть до золотых гаваней Гипербореи?..
– Да, русские – бесспорно, азиаты. Но в бароне немецкая кровь. Немцы упрямее наших степных баранов, светлейший. Если б Чингисхан был жив, он бы с удовольствием набрал в свое войско германцев. Они смелы и жестоки, иной раз до тупости железной болванки. Они не боятся смерти.
– Тот, кто не боится смерти, – герой, Доржи. Ты не боишься смерти, лама?
Надлежало отвечать немедленно. Красные прозрачные камни внутри золотых языков ваджры сияли нестерпимо. Джа-лама держал в кулаке пурба перед собой, будто собирался нападать на незримого врага.
На миг Доржи представил: один выпад вперед, пурба – внутри него, в подреберье, под сердцем. Холодный пот струями потек по его спине под шелком дэли, под исподней рубахой.
– Да, светлейший. Я боюсь смерти. Хотя я тоже, как и вы, умею умирать. Я тоже, как и вы, учился в тибетском монастыре. Я и по рождению тибетец.
Кинжал сверкал алым в лучах заката. Джа-лама улыбнулся, оскалил желтые собачьи клыки.
– Как ты умеешь умирать, лама?
– Меня учили останавливать сердце.
– Ты научишь меня этому полезному искусству?
– Это искусство нельзя передать просто так. При этом надо год читать определенные мантры, поститься, совершать предписанные обряды, и только потом уже… Вы будете все это делать сейчас, Дамби-джамцан?
Джа-лама опустил руку с ножом. Голову не опустил. Два черных ножа – два глаза – летели впереди лица.
– Нет. Не буду. Ты прав.
– Разрешите снять тырлык, многоуважаемый? Мне жарко. Я вспотел.
– Снимай. Солдаты унесут твою одежду, выбьют ее во дворе, чтобы к тебе не привязались вши. Всюду тиф. Ты не болен? Вижу, вижу, что здоров. Хочешь вина? Французского. «Бордо». Или ты будешь рисовую водку?
– Я почту за честь разделить с вами трапезу, светлейший.
* * *
– Девки, девушки… Девки вы мои родные!.. – Она обнимала, целовала, тискала Иринку Алферову, хватала за голое, выбившееся из декольте плечо Анастасию Ворогову. – Аська, что исхудала как, а?!.. А Глашка где?!..
– Глашка?.. Ты что, не знаешь, Мария?.. Не притворяйся… Глашку взяли, весной еще, допрашивали, трясли, как грушу… ничего не вытрясли… – Ирина махнула рукой, сморщилась, отвернулась к трюмо с облезлой амальгамой. – Расстреляли… Сначала снасильничали, потом – пулю в лоб… К стенке, и весь разговор…
– За что?..
Машку всю изнутри обдало лютым холодом. Девок из «РЕСТОРАЦIИ» стали брать и расстреливать, так, это плохой признак. Она прискакала в Ургу на том, на Катином, коне, на Гнедом. «Лендровер» не рискнула у барона выклянчивать. На продукты на Захадыре денег не было, барон ей денег не давал. Огрызался: мне на винтовки Биттермановские не хватит, а мои люди пусть жрут полынь, выкапывая из-под снега! Запасы мяса в Дивизии были на исходе. А зима еще не скоро должна была кончиться.
– За все хорошее. – Ася Ворогова, идеально, как истая парижанка, плясавшая на сцене канкан, отерла лицо руками, вместе со слезами размазывая грим. – Ты что, дура, что ли, не знаешь, какой у нас сейчас тут режим?!
– Знаю. – Машка мрачно глянула на дверь гримерки, рванула старый шарф с горла. – Да ведь Глашка же…
– Ну что, что Глашка? Глашка работала на англичан! Фунты зарабатывала, пройда! А нам еще брехала, что – и на красных! На красных, понимаешь, на красных! Красные близко! Глафиру подкупили… – Анастасия шмыгнула носом. Выдернула стеклянную дешевую сережку из уха, зажала в кулаке. Зло уставилась на Машку. – Это ж так просто, нашу сестру подкупить! Разве мы тут не голодаем?! Разве тутошняя зима не ужасна, не такая же суровая, как в чертовом Иркутске, как в омских снежных степях?! Деньги – кому они не нужны! Хоть американские доллары, хоть китайские! Хоть тараканьи! Не таращь глаза, не прикидывайся! Если б меня покупали – и я б купилась!.. И Глашку, беднягу, вычислил есаул Казанцев, самый унгерновский выслужник, у, морда, рыжая борода, злющий, казак с Енисея… он тут отирался, в «РЕСТОРАЦIИ», с Глафирой переспал, заподозрил что-то, стал следить… людей, видно, своих выделил, конных… за ней по всей Урге и скакали, куда б она ни шастала… А шастала она, сама понимаешь, пес знает куда… Ее и взяли…
– Пытали?.. – Машка сглотнула слюну. Потерла ладонью намазанную срезом свеклы щеку.
– А ты бы как хотела?.. Чтобы – нет?..
– Провались, провались все на свете…
Машку будто тяжелая властная рука метнула к окну. Она схватила с подоконника гримерки свой драный тырлык. Скорее в лагерь. В лагерь скорее. И ее тоже схватят. Если она заявилась сюда, в «РЕСТОРАЦIЮ» – и ее тоже унгерновцы, те, что сейчас жрут и пьют в зале, дымят трубками и гаванскими сигарами, заподозрят в связях с девицами-шпионками; схватят, будут из ее спины нарезать ремни для нагаек, а она будет орать и корчиться, и – что им кричать, обливаясь кровью? Про Разумовского? Про Носкова? Про Биттермана? Про беднягу Ружанского? Про Иуду, в конце концов?! Да, тот заговор, с Ружанским, рухнул. Поручик поспешил. Ему все говорили: не спеши! – да ведь он не послушался. Молодой, надменный, зеленый, дерзкий, горячий. Жену хотел спасти, а вышло… Она, содрогнувшись спиной и всеми потрохами, вспомнила, как белокурую Елизавету бросили на растерзание казакам, офицерам и всем изголодавшимся по бабам мужикам Дивизии. А вокруг бушевала монгольская весна, из-под прошлогодней травы лезла свежая, нежно-зеленая, как изумруды в золоченой короне Очирдара в Гандан-Тэгчинлине… И Елизавета сначала кричала, потом – хрипела, а потом уже – даже и не дышала… И ее обливали водою, чтобы она пришла в себя и увидела, как вешают на Китайских воротах ее мужа…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.