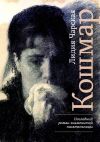Текст книги "Тень стрелы"
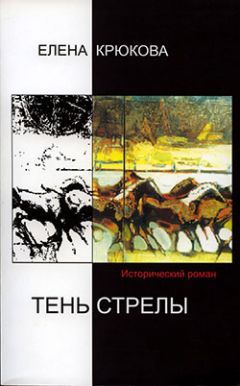
Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Здравствуй, двойник. Поборемся, двойник?
«Я вызвал его своим разумом, чтобы выйти из круга. Я сотворил его своим сознанием, чтобы вырваться из Черного Киилкхора. Вперед».
Красные хохотали, ржали как кони вокруг них. Лама, медленно сгибая колени, присел – и вдруг выбросил перед собой правую руку ребром ладони вперед. «У Иуды ранена правая рука. У меня – левая. Я сам зубами вытащил из плеча пулю. Я сам себя перевязал. Я сам заговорил кровь, остановил ее священными заклинаниями. Я не чувствую боли. Нападай на меня». Человек в маске высоко подпрыгнул, в прыжке выставил перед собой ноги и с силой ударил ногами в лицо Доржи. Не успел ударить. Доржи в момент удара резко наклонился, упал на землю, подсек плоской, как острая лопата, рукой уже опустившиеся на землю ноги человека в маске. Маска не устояла. Человек упал на спину. Доржи уже стоял над ним, чуть присев на колено, согнув руки – одна, локтем вперед, перед собой, другая, локтем вверх, за спиной.
Он не успел поймать миг, когда маска вскочила и, резко, выдохнув: «Ха!» – мгновенно оказалась за его спиной. Страшный удар в затылок потряс все его существо до основания. Ему показалось – у него выбиты все зубы. Он быстро наклонился, боднул головой, ударил теменем, как железным тараном, маску в живот и, подхватив руками под мышки, перекинул через себя. Красные собаки заорали, завыли: «О-о-о!.. Поддай ему, поддай, Пурба!.. Сделай из него кровавую лепешку!..» Пурба, подумал он, у него прозвище – имя тибетского кинжала. Пурба, значит, он тибетец. Может быть – один из Тибетской сотни, предавшей барона? Так, хорошо, ты зеркало мое. Я тоже тибетец. Сразимся, тибетец. Я знаю последовательность тайных боевых движений, ведущих к смерти противника. Ты тоже знаешь их.
Мы бьемся на равных.
Человек в черном балахоне подпрыгнул. Глаза сверкнули в прорези маски. В воздухе, в прыжке он выбросил ноги вбок, вытянул руки и стал похож на летящую стрелу. Доржи резко выгнулся назад, и живая стрела пролетела мимо. Маска встала на руки, прошлась колесом, внезапно согнулась в три погибели, обхватила руками колени и, пригнув к коленям голову, колесом покатилась Доржи под ноги. Лама крутанулся на одной ноге, выкинув другую, вытянутую, назад. Его пятка мазнула по скуле черного. Черный вскрикнул: «Йах!» – и, моментально разогнувшись, вскочил, шагнул вперед, опустив кулак, резким броском подбросил вверх локоть, к лицу Доржи. Красные собаки завыли пуще, пьянея уже не от краденой дворцовой водки – от восторга.
«Ты не сможешь победить меня. Я не смогу победить тебя. Но кто-то из нас, двух тибетцев, должен умереть».
– Пурба, – выдохнул он сквозь зубы, направляя удар, – Пурба, вонзись в меня.
Черный снова, издав высокий звериный визг, высоко подпрыгнул, скрестив в воздухе ноги и выставив в стороны колени, изображая летящего в позе лотоса Будду. От такого удара ногами не могло быть спасения, лама это понял. И, поняв это, сказал себе: у тебя есть последнее оружие – сознание, направь острый луч сознания в чужое сознание и разрежь его надвое.
Черный, прыгая, наткнулся глазами, сверкающими в двух узких прорезях, на глаза Доржи. Он не смог ударить ламу ногами в голову, как хотел. Как подкошенный, будто подбитый стрелой, он скорчился, сжался в комок в воздухе – и неуклюже упал на камни площади посреди людского гогочущего круга. Языки костра, горящего неподалеку, вздымались, сыпля розовыми и густо-алыми искрами, в безлунную холодную ночь.
Красные больше не смеялись. Они молчали. Кто-то пьяненько хохотнул – и умолк, хлюпая носом, утираясь рукавом.
– Так, – сказал главный красный, со щербиной между кривых зубов. Зло кинул прочь пустую бутылку. Она со звоном разбилась о камни. – Отлично. Ты победил. Твоя взяла. Значит, ты искуснее, чем он. Вы, восточные собаки, знаете секреты борьбы. Наши мужики выходят улица на улицу, стенка на стенку, с кольями в руках, и бьются насмерть, жестоко, без особых секретов. Ты победил – ступай!
Он стоял и смотрел на скрюченное тело черного, лежавшее у его ног. Повернулся. Пошел прочь. Изорванное синее дэли развевалось над щиколотками. «Вот я иду прочь, но они все равно не дадут мне уйти. Красные докшиты коварны. Все, что они говорят и обещают, – ложь. Законы войны одни и те же во все времена. Я пойду, а они убьют меня. Этот, со щербиной, медленно поднимет наган и, скалясь, с удовольствием выстрелит мне в спину. Лучше я сам. Лучше я уйду сам».
Лама встал. Обернулся. Он видел, как тот, кривозубый, уже вытаскивает из кобуры револьвер. Протянуть руки вперед. Застыть. Вот так. Он высоко вскинул голову. Глубоко, до самой тысячелепестковой чакры сахасрара, до Серебряного Лотоса Жизни, вдохнул последний земной воздух. Задержал воздух в груди. Страшным усилием воли остановил сердце.
Когда внутри него все превратилось в камень, он стал падать в разверзающуюся перед ним бездну. Вот оно какое, состояние бардо, подумал он радостно, сколько тут пространства и неба, ни телом, ни разумом не измерить вовек, – и последний белый огонь вспыхнул перед ним пронзительной белой молнией, осветив сначала далекий снежный гребень горной гряды, голубые снега его детства, потом – огромные темные, как ночь, глаза женщины, которой он так и не сумел подарить себя.
* * *
Красные войска захватили склад дивизионного интендантства в Да-хурэ.
Максаржав, правая рука Джа-ламы, изменил ему.
Улясутай пал.
Сухэ-батор и Нейман вступили в Ургу и заняли ее. Богдо-гэгэн признал революционное правительство.
Голос подглядывающего
…Он бежал, хватаясь за стены дрожащими руками. Эхе-дагини бежала за ним, и ее руки тоже, как руки слепой, шарили по стенам, цеплялись за хвосты и кисточки ковров, роняли статуи Будды и Авалокитешвары, судорожно ощупывали воздух. Скорей! Скорей! Они убьют нас! Нет, нет, Богдо-гэгэн, бормотала она, торопясь, спотыкаясь, не убьют, не должны… они уважают нас… они не посмеют…
Снаружи, за стенами дворца, раздавались выстрелы. Снова война. Снова взятие. Урга переходит из рук в руки. Но он же подписал все договоры с красными! Почему же на его дворец опять напали?! Они хотят убить его, это верно. За что?!
Руки трясутся. Живот трясется. В животе холодно и пусто. В голове холодно и пусто. Жалко жену. Жалко никчемной жизни. Не плачь, Владыка, ты переродишься, и твое новое перерождение будет гораздо счастливее нынешнего.
Ты в новой жизни родишься аристократом, потому что в этой жизни ты любил выпить изысканно, с почетом, и любил хорошую водку.
«Ну что ты медлишь, Дондогдулам?!.. Туда!.. Вон туда!..» Он оглянулся как раз в тот миг, когда жена высоко взмахнула руками, будто пыталась достать высоко висящий флаг, неуклюже, как марионетка на нитке, выгнулась, приподнявшись на носках, и, издав странный гортанный клекот, будто крик птицы, повалилась вперед – и упала, обдирая себе руки об острые медные, выдвинутые вперед ладони бронзовой статуи Будды-Очирдара, стоящей близ мраморной лестницы дворца.
Ах, Дондогдулам, родная, ты упала. Ты упала, тебя сбили влет, тебя настигли в полете, – а может быть, я слишком много выпил сегодня ночью, и это все мне только снится?! Я должен проспаться, да, да, я должен проспаться… Я… не должен отчаиваться… Эхе-дагини просто очень устала, упала и спит, она же не может умереть, она же – жена Владыки, жена Бессмертного, сама – Бессмертная… Мы же ели листья Дерева жизни… его из Тибета привозил мне Дамби-джамцан… Мы же ели эликсир бессмертия… нам тайком, помолясь, привозил его один добросердый тубут из Тибетской сотни Унгерна… не помню, как звали его… помню – попугай сидел у него на плече…
Богдо-гэгэн беспомощно оглянулся. Выстрелы раздавались уже на лестнице. По мраморной лестнице бежали, оглушительно топоча сапогами, изрыгая монгольские и русские ругательства, люди в черных кожаных одеждах, называвшие себя – красными. Красный цвет – цвет священной войны. Цвет владык во время коронации. Цвет Солнца, когда оно садится… падает за край земли… навеки… навсегда…
Цвет шерсти красных ургинских собак-трупоедов.
ВЛАСТЬ. ОНИ ХОТЕЛИ ВЗЯТЬ ВЛАСТЬ. ОНИ ХОТЕЛИ ОТНЯТЬ У МЕНЯ ВЛАСТЬ. ОНИ ОТНЯЛИ ЕЕ У МЕНЯ.
СНАЧАЛА – ГАМИНЫ; ПОТОМ – ОНИ.
КРАСНЫЕ.
БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, КРАСНЫЕ. БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ.
Он, хмелея от отчаяния, прошептал монгольское древнее проклятие, что произносили на могиле убитого родичи, понуждая себя к отмщению, и попятился от бегущих ему навстречу. Слишком много водки, о да, слишком много водки. Будда великий, спаси меня, дай мне водки. Гэсэр-хан, счастье мое, сжалься, я ведь молился тебе, дай мне сейчас водки. Хоть немного водки. Мне легче будет умирать. Я не Бессмертный. Я всего лишь человек. И я боюсь родиться поросенком или быком. Хуже всего родиться собакой. Тебя все будут пинать… гнать. Швырять в тебя камнями. Совсем ужасно родиться красной собакой-трупоедом. Красные собаки! Красные собаки! Я… мне… водки… в последний раз…
Дуло наставилось на него, и черная дыра пистолета показалась ему черной разверстой женской вагиной. Черная пустота расширялась, вбирала его в себя. Он взмахнул руками, так же, как его жена.
«Гэсэр-хан, это же ты, старик, я вижу тебя!.. Да ты совсем седой… Три белых волоса у тебя на голове, три – в бороде… Это ты, ты просишь водки у меня, а не я у тебя!.. Гляди, на нас смотрит Подглядывающий со стены, с той китайской картины, изображающей совокупление… Пятна позолоты, порочный смех, сексуальныезабавы, извращения, стыдливо называемые причудами любви… Гляди, Подглядывающий смотрит на нас с тобой, Гэсэр, подмигивает нам!.. А разве мы с тобой любовники, Гэсэр?.. Мы же просто два старика… просто ты умер давно, а я – я должен умереть сейчас… вот сейчас… вот… Подглядывающий, не гляди, на это глядеть нельзя… не гляди на наши обнаженные тела, на наши уды, на наши тощие зады, на наши худые ноги… они похожи на корни… на корни сосны… священной сосны с горы Богдо-ул… Не гляди… это страшно… не…»
Пуля была выпущена ему в рот. Он проглотил ее. Он проглотил пулю, как глотают пилюлю. Вот я и лечусь смертью от жизни, подумал он. Все вспыхнуло. Все погасло. Гэсэр-хан еще постоял рядом, покривил горестно маленькое сморщенное личико, подергал жидкую седую бороденку. Вытащил из кармана маленькую зеленую бутылку рисовой водки, поглядел на просвет, вынул пробку, приставил горлышко ко рту, закинул голову, отхлебнул, прижмурясь от наслаждения. Потом исчез, растворился в дымке, в сизом пороховом дыму.
Подглядывать было уже нечего. Прячься, Подглядывающий, в китайскую картину. Вся позолота сошла с гравюры; осталась одна пурпурная краска – та, которой красят раскрытое, вожделеющее женское лоно и срез отрубленной головы врага.
Смерть бессмертного
Все возможно для того, кто умеет.
Тибетская пословица
Ганлин играет
Бич Божий.
Человек зазнался и зарвался; человек заврался и зажрался; на человека, погрязшего в грехах и безумии, нужен Бич Божий.
Что, если я?..
Склоню колена. Я один, и я с Тобой, Бог, мой Свет Воплощенный. Свет, струящийся с тех далеких, с тех чистых как хрусталь или ключевая вода, острых как ножи гор. Мой Бог, я склонил колена пред Тобой, и я смиренно вопрошаю Тебя: что, если я? Сделай меня Своим Бичом. Подними меня на правое, неизбежное наказание. На кару великую грязным, поганым душам – меня одного подними.
И не подмени меня никем, прошу Тебя.
Ты, о Ты, что живешь в Белом Царстве между высоких синих гор, погляди на меня, верного слугу Твоего, последнего солдата Твоего! Услышь меня. Пойми меня и мое желание вернуть на выжженной безверьем земле великое Царство Твое.
Царство Света. Царство радости. Царство великой святости.
Иного не дано.
За Царство Твое я много крови пролью.
Его никогда не достичь без крови. Ибо лишь кровью человек смывает грязь свою и грехи свои. И Бич Божий свистит, разрезая воздух.
Мы все перестанем когда-то дышать. Мы все перестанем когда-то жить.
Один Ты – не перестанешь. Один Ты пребудешь.
И, если я здесь, в Азии, совсем рядом с обителью Твоею, мой великий и светлый Бог, могу я поклясться Тебе, что дойду до нее, что пройду горы и долы, и Ты, сияющий ликом, примешь меня на каменном пороге Надземного Царства Своего?
Как имя ему? Агарти? Шам-Ба-Ла?
Кто добежит до Тебя? Я – Твой лунг-гом-па. Я бегу. Я высоко воздымаю колена. Я ритмично дышу. По лицу моему течет ледяной пот. Я бегу. Я бегу через перевал.
Я все еще бегу через перевал.
Лунг-гом-па, безумный Твой лама, я все еще бегу через перевал, и там, далеко, за вереницей неприступных гор, я вижу ослепительное сияние Твое.
Голоса казаков. Осип Фуфачев
Да ить подслушал я ихний разговорец… случайно подслушал, да… Дак ить в жизни все случайно…
Барон наш с новым капитаном, с Лаврецким энтим, гутарил. У костра сидели оба. Я коня в поводу с Толы вел. Купал… мыл коня в Толе… кипятил воду в котелке, снегом разбавлял и – теплой водою – мыл животягу… Того конягу Катя особливо любила… Да ах!.. Катюшенька… одне воспоминанья… Где она сейчас?.. Господь то ведает. Не я…
Дак вот, подвожу коня к огню – и не приметил двоих-то. Думаю: бесхозный костерок горит, солдаты затушить позабыли. Ах, леш-ший, смекаю, забыли?.. а я, значитца, посижу у огонька, отдохну, руки погрею… и конь со мной постоит, на пламя поглядит… погреемся оба – да почивать пойдем, кто знает, каковы мученья назавтра нас всех ожидают, в походе, говорят, солдату похлебка – мать родная, а сон – отец родной…
Шагнул вперед. Глядь!.. – а у огня двое сидят. Я замер. И коня держу на притужальнике, шикнул на него; и он молчит, умная зверюга. Сидят-то – барон, собственной персоной, и сам-друг с энтим… как его… Лаврецким. Языками мелют об чем-то.
Я прислушался. Уши у меня – как у коня. Они меня с поисками тех злодеев, что людей из Дивизии похищали, ух как измучили!.. И туда поезжай, Оська, и сюда скачи, Оська… Эй, Оська, где Оська?!.. живо снаряжайся, по слухам, севернее лагеря три трупа обнаружили – не те ли это убийцы, что наших бойцов подмели?!.. У-у, у-у… Извелся я. Отдохнуть бы мне. Отдохнули!.. Красные – в Урге… Почитай, все, песенка барона спета… А – наша?!..
Затих я. Замер. Застыл, как облитый водою на морозе. Ушки на макушке.
Конь морду мне на плечо положил.
Слухаю.
Медленно легкий снежок с небес Божьих летит.
Лаврецкий Унгерну так бает: красные, мол, Джа-ламу ежели убьют, так они из его крепости все награбленные им сокровища себе в Ургу, в ихнюю красную ставку, вывезут! А Унгерн ему – с этакой ухмылочкой превосходительной, с гонором этаким: ишь ты, сквозь зубы цедит, сокро-о-овища невесть какие там у Джа-ламы!.. вот у меня – сокровища так сокровища!.. Я весь сжался в камень. Смерзся. Какие у вас сокровища, пытает капитан? Откройтесь, мол!.. И всякое такое… Ну, язык у нашего барона, видно, совсем в тот вечер развязался. Видно, чует близкий конец свой генерал наш, штой-то так расхристался, расстегнулся весь, нараспашку, наизнанку вывернулся?.. на него, скрытного, не похоже… Ну, бывает в жизни у всякого времячко, когда хошь не хошь, а раскроешься, сокровенное поведаешь. Люди, ежели в тайге на зимовье живут, и то – ямку в земле копают, в ямку нашептывают, птицам свистят, зверью поверяют, что на душе наболело… а тут!.. Тут – слушатель чу-у-уткий… И потом, видно, барон энтому новому капитану доверился… Уважил его, знать… Безупречно капитан у него служит… А так – ить он предателей как огня боится, все так и чудится ему, что его предадут, что самые верные его в Толе утопят… на костре сожгут, зажарят, как свинью…
И вот барон бормочет: а такие, мил-друг, сокровища! Все такие!.. Самолучшие… И камни дорогие, насквозь прозрачные, что играют по-сумасшедшему, и камни цветные, непрозрачные, с разводами да узорами, что высоко в горах находят, из них китайцы да маньчжурцы поделки драгоценные мастерят, статуи да колечки… и золото, сплошь золото, много золота, да такого, что у самого китайского императора слюна бы по подбородку от зависти потекла… древнее золото, вырытое из курганов… похищенное из дворцов… и китайское золото, и монгольское, да и русское тоже имеется… Царское… из Алмазных подвалов Царских дворцов в Москве и в Петербурге… я так богат, капитан, кричит шепотом наш Унгерн, так богат, што, ежели захочу – ежели в Америку какую с тем золотишком рвану на корабле – припеваючи всю жизню жить буду!.. И потомки мои припеваючи жить будут!.. И внуки внуков моих… А вот не бегу я с тем золотом за океан, не бегу, капитан, чуешь!.. А почему ж, пытает Лаврецкий, угли в костре веточкой ворошит. Почему ж не бежишь, генерал?.. И смотрит ему глаза в глаза – так совы глядят в темноту. И барон медленно, чеканно так – капитану: не бегу, потому как – за великую Азию хочу помереть. Вместе со всем азиатским золотом.
Лаврецкий как вскинулся: за великую Россию, может быть, генерал?.. Вы хотели сказать – за великую Россию, наверное!.. Нет, помотал головой Унгерн, нет. За Азию. Россия – часть великой Азии. Россия – азиятская земля, это ж понятно всем давно. А за великую, за царственную Азию и помереть не жалко. И пусть все золото Азии, в случае чего, ежели суждено мне тут косточки сложить, уйдет вместе со мной. Надо будет – в любой реке, в Селенге, в Толе, в Орхоне утоплю. На дно со мной целый мир уйдет. Никому не достанется.
Так и припечатал. Так и отрубил! Глядит белыми своими глазищами в глаза капитану! Да и капитан не лыком шит, очей не опустил. Эка, улыбнулся, эка хватили вы, ваше-ство! Умрете вы или не умрете, а золото все одно опасно за собою возить. Барон окрысился: а где бы вы хотели, штоб я оставил его?! Зарыл?! Закопал?! Поручил другу… верному человеку?! Все друзья – враги. Все верные – Иуды!
Как кинул: «Все верные – Иуды», – так капитан вздрогнул весь, весь белый стал, ажник шея побелела, потом – щеками потемнел… Смолчал…
Я стою, как на часах. Замерз, ажник кишки промерзли. Конь, вот дивно, стоит как вкопанный, тож не шелохнется. Как, думаю, с места-то сдвинуться?.. услышат нас, головы мне не сносить… Генерал поймет, что подслушали его, саблю выхватит, башка так и покатится в снег, в сухую полынь… Лаврецкий выручил. Поднялся, потягивается, разминается. «Костер, – бает, – догорел уж почти, генерал, пора спать, вечернюю зорю уж давно сыграли».
Встали, пошли они, негромко переговариваются, я уж никаво не слышу, дрожу весь под гимнастеркой, снег на папаху нападал, я сам навроде снежной горы стал, коня осторожно в поводу повел, конь, умница, не заржал не разу, даже копытом траву не поскреб, так и стоял, будто б из камня высеченный – таких каменных коней я около одного субургана в Урге видал, из белого солнечного камня коники, в солнечный день так сияют-светятся, инда глазам больно…
Сокровища генерала… Нож с тою бабой на лезвии… Та, Катина, пещера…
Люди, исчезнувшие из Дивизии навеки…
Урга, за кою так смертно боролись, – под красными…
Што ж это такое деется?!.. Или и впрямь Азия – черный колодец, и сгинут тут все наши малые жизнешки, бесследно потонут?!..
* * *
Осип увидел ее издали.
Увидел их обоих. Как они скакали на коне к лагерю от горы Богдо-ул, по пологому, уже заснеженному берегу Толы.
Осип сразу узнал ее. «Катеринушка», – прошептал, и губы его враз пересохли. Все его тело мгновенно покрылось испариной, и он понял, как он волновался о ней, как тосковал по ней, как беспокоился за нее, за ее маленькую драгоценную жизнь – в мешанине, в коловороте схваток и разрух.
Конь скакал свежо, резво, и всадница приближалась. Осип рассмотрел – на коне, в седле, впереди Кати, моталась непокрытая русокудрая детская головка. Девочка?.. Мальчик?..
Отчего-то у Фуфачева на миг сжалось сердце, и он подумал с тоскою: ах, да, ведь все может быть, может быть, это ее ребенок. У такой молоденькой?.. ну да, может быть, она родила в четырнадцать, в пятнадцать лет… Это ее ребенок, и она прятала его где-нибудь поблизости от себя, привезла из Петрограда и прятала у какой-нибудь сердобольной китайской старушки в Урге, и оттого, убежав в Ургу от самою же ею придуманной казни, так долго не появлялась в лагере… Она просто была со своим ребенком, вот в чем все дело…
Когда конь подскакал совсем близко, он разглядел, что ребенок-то большенький, смышленый, лет восьми-десяти. Ну чистый ангельчик, и только! Кудряшки на плечи льются, возле щечек играют. Правда, бледненький шибко. Ну, это устал, они ведь от Урги скакали, видать, без отдыха…
Катя тоже увидела Осипа. Натянула поводья. Мальчик чуть не упал вперед, через холку коня. Осип поймал глазами глаза Кати, как ловят лошадь за шею – арканом.
– Фью-у-у-у… Катерина Антоновна-а-а-а… Вы ли это… а?..
– Нет, это не я, – без улыбки сказала Катя. – Это мой призрак. Сними, Осип, с коня Великого Князя. И помоги мне спешиться.
Фуфачев, потеряв дар речи, протянул руки и принял на руки златокудрого ангелочка. Поставил на землю. Пока оборачивался к коню – Катя сама уже спрыгнула на снег, чуть не запутавшись в стремени.
– Вы… совсем к нам, Катерина Антоновна?..
– Совсем. – Губы ее дрожали. Мальчик, запрокинув голову, глядел на нее ясными, светло-серо-зелеными, как просвеченные солнцем водоемы, наплаканными глазами. Веки припухли, искусанные губы запеклись. Из-под расстегнутой бобровой шубки виднелся помятый воротник матроски. – Где Унгерн?
– Барон-то?.. Да там, у себя, в палатке. Если не пошел кондер из котла пробовать, повара кашеварят… Куда вы, Катерина Антоновна… Катя, куда вы!..
Она повернулась. Она уже бежала по мерзлой земле. Сапожки из ателье мадам Чен стучали по насту полулунными подковками. Из командирской юрты вышел высокий, как оглобля, исхудалый человек в потрепанной желтой княжеской курме, с черной тибетской трубкой в руке. Георгиевский крест лунно, потусторонне блеснул на груди, слева, где сердце. Катя как бежала – так и повалилась в ноги этому человеку, и он уставил на нее белые, с красно-фосфорно горящими точками зрачков, волчьи глаза.
– Простите! Простите меня! Прости…
Она заслонила лицо руками. Барон пожарною каланчой стоял перед ней, и его отросший надо лбом светло-русый чуб трепал ветер.
* * *
Два всадника прискакали к нему в Тенпей-бейшин.
Два всадника крепко сидели в седлах. Глядели на огонь.
Костер горел у ног коней.
Два всадника спешились, и звякнули стремена.
Джа-лама сам вышел их встречать. Два всадника прискакали из самой Урги. Он, Джа-лама, уже получил письмо из Улясутая от тамошнего хубилгана Дэлэб-хутухты – и в письме значилось, что новое ургинское красное правительство, свергнувшее косную старую власть старого алкоголика и маразматика Богдо-гэгэна, предлагает ему занять пост полномочного представителя министра Западной Монголии и выделяет его, Джа-ламы, земельные степные владения в самостоятельный хошун. Читая это письмо, он усмехнулся. Заигрывают! Он не дался в руки Унгерну; не дастся в лапы и новой власти. Красные – ядовитый вех, волчья ягода на склонах горы Богдо-ул. Красная ягода: съешь – и смерть тебе… Однако на письмо надо было отвечать, и он ответил. Ответил, может быть, не так вежливо, как полагается воспитанному в Тибете ламе.
Письмо от Дэлэб-хутухты ему привез человек в кожаной куртке, судя по его выговору, тибетец – он не знал его имени. Он уже не первый раз привозил Джа-ламе срочную и важную, а также тайную почту из Урги и из Китая; он был молчалив, как подобало суровому тибетцу, говорил мало, сухо кланялся. Джа-лама приказывал накормить его на кухне поозами – он отказывался, благодарил: «Я ел в пути, готовил себе пищу на костре». Один кожаный рукав его военной куртки, кажется, правый, был весь изодран, будто когтями. Будто он носил на плече охотничьего сокола. Однажды, когда он в очередной раз привез ему письмо от ламы монастыря Гандан-Тэгчинлин, священника Доржи, и почтительно ждал, когда Дамби-джамцан нацарапает на листе бумаги скорейший ответ, ветер отогнул от его шеи, от ключиц воротник его рубахи, и на его шее Джа-лама увидел черный шнурок, а на шнурке – черный железный знак «суувастик». «О, да ты, молодой тибетец, поклонник древних учений, – уважительно подумал он тогда о молчаливом посланнике, – может, даже Посвященный. Поэтому ты так важно молчишь».
Два всадника медленно подошли к нему. Склонились в предписываемых ритуалом поклонах. Выпрямились. Он ощупывал глазами их неподвижные, словно выточенные из темного дерева, узкоглазые лица.
– Нанзад-батор.
– Дугар-бейсэ.
– Добро пожаловать в мою обитель, – наклонил массивную тяжелую бычью голову Джа-лама. Его лоб был обвязан шелковым ярко-желтым платком. По краю платок тоже был вышит маленькими паучками «суувастик». – Вы из Урги?
– Из Урги, досточтимый Дамби-джамцан.
– Я написал Дэлэб-хутухте, что приеду зимой.
– Зима уже наступила, досточтимый, и проходит уже.
– Я просил в письме прислать мне печать хошунного князя.
– Мы привезли ее.
– Я просил также прислать мне представителя для переговоров. Вы – представители?
Два всадника переглянулись. Снова склонили лбы в поклоне.
– Мы в вашем распоряжении, Дамби-джамцан. Красные – не собаки. Красные – не звери. Красные хотят, чтобы Халха навек покончила с духовной темнотой и вековыми предрассудками и обратилась лицом к свету, знаниям, разумному хозяйству и истинному просвещению. Вы ведь хотите, досточтимый, чтобы Халха была счастлива?
«Счастлива! Вон они о чем! Если я скажу им, что разрушение вековых святынь не есть просвещение, а массовые убийства лам и священников не есть свет разума – что они мне ответят?!»
– Я считаю, что я, как восьмое воплощение великого Амурсаны, всю свою жизнь боролся за счастье моей Халхи.
Он тайком ощупал под отворотом курмы нож. Бедро холодил запрятанный в складки исподнего халата пистолет. Кто их знает, этих посланцев? Низко кланяются, а потом рванутся, выстрелят навскидку. Нет, молчат, озираются, даже вроде бы смущены, подавлены; важно, как императорские павлины, ступают по коврам; ведут себя достойно. Нет, нет, не надо думать о плохом, эти красные монголы – ведь тоже монголы, разве нет?! И ты тоже монгол. И вы трое должны понять друг друга.
В висках подозрительно часто, глухо билась кровь, будто он выпил змеиной водки или японского сакэ. Он пристально вглядывался в гостей. Нет, нет, надо им верить; надо им верить хотя бы сегодня, хотя бы на час, хотя бы – на миг.
– Пройдите в мои покои. Дугар-бейсэ, вам понадобится для удобства отдельная юрта? Вам понадобится отдельная юрта, чтобы отдохнуть, Нанзад-батор?
– Благодарю, почтеннейший. Неплохо было бы после дороги отдохнуть в тишине.
Он приказал слуге Харти распорядиться и поставить юрты в большом дворе близ главного крепостного здания. Максаржав предал его. Максаржав ушел от него к красным. Ну и что, ты хочешь сказать, что тебе отрубили правую руку? Твоя правая рука – с тобой. У тебя ее никто не отрубит.
Он провел гостей в тронный зал. Охранники стояли рядом с его троном навытяжку. Его воины стояли по всем углам зала, стояли вдоль стен, живым вооруженным, грозным квадратом охватывая его, трон и двух посланников. Нет, они ничего не смогут ему сделать. Едва их руки протянутся к оружию, как оба они будут изрешечены пулями… и стрелами. Его воины, кроме винтовок, еще вооружены хорошими степными стрелами, и у многих стрел наконечники пропитаны ядом. Нет, он не бережет свою жизнь. Никогда не берег ее. В Астрахани он сражался против революционных повстанцев бок о бок с Царскими казаками, забыв себя, врезался в самую гущу боя, взмахивал саблей над головами орущих, умирающих. Бой – священен. Умереть в бою почетно, твердил ему всегда Унгерн. То же самое он мог сказать ему.
Еще раз взглянуть на неподвижные раскосые лица. Еще раз улыбнуться – теперь уже дружественно, спокойно… может быть, даже покровительственно.
– Не хотите ли осмотреть оружейный склад?
– Будем польщены. – Дугар-бейсэ слегка поклонился.
– Не хотите ли взглянуть на мои драгоценности? Я готов показать вам собрание редчайших драгоценностей, когда-либо собранных в Азии.
– С удовольствием. – Нанзад-батор улыбнулся одними углами губ.
– У меня в крепости имеется и коллекция уникального боевого оружия. Я собирал холодное и огнестрельное оружие много лет… начал это делать, еще когда жил в России. Такой коллекции, ручаюсь, нет ни у одного крупного коллекционера оружия ни в Европе, ни в Новом Свете. Не желаете взглянуть?
– Если позволите. – Оба посланника снова переглянулись. Кожа дорожных тырлыков скрипнула. Или это скрипнули сапоги? Зачем они так часто переглядываются?
– Отлично. – Джа-лама туже затянул на затылке желтый платок. – Тогда – идемте?
И они пошли по переходам и коридорам его дворца.
Да, дворца, ибо настоящий императорский дворец напоминала его крепость Тенпей-бейшин, ибо он был здесь владыка, и ему подобало жить как владыке, как восьмому воплощению Амурсаны; и слуги низко склонялись перед ним, и солдаты отдавали честь, и денщики распахивали перед ним двери, и часовые у дверей сначала скрещивали штыки, потом их разводили, впуская в заповедные покои его вместе с гостями. О, гость – это священно. Гостя всегда надо уважить. Гостя прежде всего надо накормить, напоить, приготовить ему хороший ночлег, а потом уже водить по сокровищницам и расспрашивать о том, что творится в мире. Обычай был нарушен. Горячие поозы, жареная баранина, сладости, водка и чай их ждали потом, немного погодя. Хороший крепкий сон в наскоро разбитых юртах – тоже. Сейчас ему хотелось похвастаться.
Похвастаться перед красными владыками своими несметными богатствами, своими чудесами; своими драгоценными ножами и кинжалами, ружьями и нунчаками, своими нефритовыми четками и золотыми Буддами – всем, что он накопил, награбил, отвоевал, покорил, пока шел земным путем Дао.
– Я вручу вам девять Белых Подарков, – сказал он, остановившись перед дверью, на которой был начертан красной краской огромный иероглиф «ОМ». – Вы, новая власть, достойны девяти Белых Подарков, что любой уважающий себя владыка преподносит благородным гостям.
Посланники почтительно склонили головы. Он раздул ноздри и почувствовал, как от их потных лиц пахнет чесноком, а от пол дорожных тырлыков – конской мочой.
– На оружейный склад пойдем потом. Здесь, в этой комнате, – моя коллекция оружия. И мои драгоценности в сундуках. Извольте поглядеть.
Джа-лама поднял руку в приказывающем жесте. Стоявший у двери солдат, охранявший сокровищницу, подтолкнул в спину штыком напарника. Тот медленно, вразвалку, подошел к сундуку и открыл крышку. Из сундука в лица гостей и в одутловатое, сизое лицо Джа-ламы, похожее на первобытную личину, брызнули разноцветные, сшибающиеся лучи от золота и самоцветов, там лежавших – в грудах, в кучах. Драгоценные камни играли, соблазняя безумством. Золото тускло светилось, отблескивало кроваво-красным в свете масляных тибетских светильников. Нанзад-батор восхищенно склонился, присел на корточки, взял в руки золотую диадему-ваджру с пятью золотыми языками пламени, взвиваюшимися ввысь. В каждом огненном золотом языке торчал крупный, искусно ограненный рубин. Красные, как кровь, камни бешено сверкали, грани отливали лиловым и густо-розовым.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.