Текст книги "Зимняя Война"
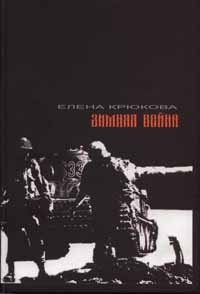
Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 31 страниц)
Настал день, когда еда исчезла в торговых рядах и на рынках.
Ты завтра сдохнешь совсем молодым. И ты – совсем молодой. А как же старики, они тоже хотят жить. У тебя кружится голова от голода. От той дыры во льду, что ты видел сегодня на реке, и над дырой вился белый дым, как табачный, будто река курила и выпускала в тебя дым, тебе в лицо. А над кремлевскими башнями полыхал огонь. Он полыхал уже который день. Старухи, не врите, что это шестикрылый Серафим жжет костры своих волос по площадям! По площадям… по стогнам… Вон Лобное место. Давай я себе на лбу напишу черной кровью: «ГОЛОД». Я есть хочу. Слышишь, я хочу есть. А я щедрый. Я сам хлеба дам – сам себя – липкую осьмушку – ржаную свечу – яростному метельному рту, железным зубьям решеток, налгавшему нам про счастье, воровскому языку.
Неумолчный, дикий вой снарядов. Наглый артобстрел – Враг мечет в тебя железные стрелы, а ты улыбаешься, стоя босиком на льду. Трудно осознать, когда голоден, что ты живой. Когда вокруг, на льду, уже лежат бревна неживых тел. Путь твой, человек, весь изольдел; вдоль снега, труб, и рельсов, и черных, пробитых бомбами крыш пойдешь ты, и я не скажу тебе – прости, ибо прощать тебя нельзя.
Ибо прощать тебя, человек, не за что. Ты ни в чем не виноват. Ты достоин любви лишь за одно только, что ты на свете умрешь.
О, Армагеддон, красный Кремль. Трудно волочь санки с водою наяву. Куда легче – во сне. Так давай сделаем все – сном. Сволота, чугунные санки – тащить их – через Ордынку – Маросейку – Волхонку – мимо разбитых, в припадке бешенства и голода, витрин магазинов – до церкви Всех Святых на Кулишках – до Николы на Курьей Ношке – опять на реку, до Замоскворецкого моста – ты слышишь, до моста! – а там и до тюрьмы – до Бутырок – до Лефортова – ты там весной сидел?.. – а камера твоя пуста – и вода в ледяном ведре расплескивает свет и серебро на весь Армагеддон – и люди на снегу, как обгорелые скрюченные спички на белой ладони зимы – они воткнуты в ее ладонь, они недвижно стоят, они голодные, они глядят на сгоревших, голодных детей, на ненужные изломанные, скрепленные проволокой саночки, на воду, застывшую в ведре серебром: они уже мертвы. Они уже на дне Времени, и не тебе, армагеддонский дурачок Рифмадиссо, разбудить их.
А я?! Я еще живу. Ведро мое, держись. Держитесь на плаву, санки. Свистят пули. По снегу катятся лимоны, орехи, нуга, шоколад – из разорванного мальчишками мешка важной старой дамы. Эй, старая дама, ограбили тебя! Не встретишь ты нынче Рождества! Ты будешь, старуха, елкой на площади. Встань вот так, с шоколадками и плюшками в сморщенных ручонках. Корми ребят. Тебе говорю, ты, карга, накорми детей. Мы-то можем и помереть уже. С нас хватит.
………………– Люсиль, безумка… Куда ты меня теперь-то тащишь?!..
– Молчи, несчастный Юргенс. Тебя не спрашивают. Сегодня будет сильный обстрел. И первые войска уже войдут в Армагеддон со стороны Каширского шоссе. Единственное спасенье – на Вокзале. Вокзал – это такое место, ну, понимаешь… оттуда можно все же, если не разбомбят рельсы, куда-нибудь уехать. На Восток, к примеру.
– Разве ходят восточные поезда?.. Армагеддон – Пекин?.. Армагеддон – Харбин?.. Я думал, их уже давно похоронили…
– Еще как ходят. Бегают просто. Поймай его за хвост. Лучше вернуться туда, в пекло, и погибнуть в бою, чем ждать здесь, как зверям в норе, бесславного конца.
– Давно ли ты задумалась о славе, голубка?..
– Не трать много слов. Шевели ногами!
Лех и Люсиль сломя голову бежали на Площадь Трех Вокзалов, чтобы выбрать там наудачу лучший Вокзал. Какие дороги, господа, еще не разрушили?.. Северные?.. На Петербург?.. На Архангельск?.. Южные все разбиты… Рельсы выкорчеваны с корнем взрывами… Восточные дороги еще живы, слава Богу. Слава Будде или слава Христу?.. А вы, дамочка, это всерьез о Втором Пришествии?.. Как же не всерьез, когда я сегодня на мешочек сухарей для внученьки… золотое венчальное кольцо на рынке выменяла…
Они вылетели, как два метеорита в дегтярной ночи, на круглую серебряную Площадь. Давно ли он встречал тут пекинским поездом Исупова и Серебрякова. Какая несчастная нищета кругом. Осыпаются, как звезды с ночного неба, развалины прежних дворцов и высоток. Он никогда не привыкнет к разрушенью Столицы. Армагеддон должен быть разрушен – так, должно быть, сладострастно, изо дня в день, повторяет Враг. Кто – Враг?! Скажите наконец! И я, я убью его.
Люсиль, запыхавшись, обернулась к нему, и ее горящие огнем бега и голода глаза были так слепяще хороши на черном, исхудалом лице, пахнущем нищетой и землей. Беленькие кудряшки по-прежнему озорно выбивались из-под шерстяной повязки на упрямом крутом лбу.
– Я в этом городе воскресла, Юргенс. И горю опять, живая, бессмысленно. К чему? Все равно нам всем каюк. Какие чресла какого Дьявола… или Бога… родили меня вновь.
Она плыла узкими лодчонками сапожек по смоляно-зеркальному, в просинь, льду. Взглядывала на Леха снизу вверх.
– Люди в предместьях уже кошек, собак едят. Ловят и едят, – мрачно шепнула она ему. – Бог швыряет на сковороду Вокзала, кипящего маслом и салом времени, всех нас, скопом. Гляди, Юргенс, какие бабы толстомясые. Из них, если их калить долго, много жира вытопится, детишек можно накормить.
– Ты что, Люсиль. Сдурела.
– Пошутить нельзя.
– Самое время для шуток.
Вокруг мелькали рыла, хари, тощие, обтянутые кожей черепа, рыдающие рты. Вокзал гудел, орал, плакал и хрюкал, подъяв клыки. Дедок прятал в голицу сухую воблу. Грызла пряник голубоглазая, как Ангел, девочка с мешком за плечами. Узкоглазые девки, смахивавшие на подкрашенных японских куклят, укутанных в яркие шелка, вразмолку с сухарем дробили зубами коломенский, можайский мат. Толпа гудела. Она была сама себе самолет. Она раскидывала черные крылья. Толпа страшилась сжимающегося вокруг нее кольца. А над головами толпы топырился, когтился, высверкивал золотыми иглами громадный золотой еж вокзальной ожидальной люстры – она свисала жестяными золотыми сосульками с потолка, катилась над затылками сусальной, жуткою ежихой, гнездом сверчков с тысячью выставленных золотых жал; внутри люстры горели сто, тысяча ламп, и лампы вонзали в лица людей внизу живые копья, и висел над баулами и слезами одинокий вопль:
– Люди! Мы все окружены!
Люсиль шла между скамей. Вглядывалась в изможденные лица. В сытые рожи. Откуда вы, сытые?! Из вашего багажа проводник украдет банку с красной икрой, с маринованной селедкой.
– Давай сбежим, Юргенс, – тихо выронила Люсиль, – еще не поздно. Я узнала в кассах, что великая дорога на Восток еще открыта. Последние поезда – сегодня, завтра. У тебя деньги есть?..
– Негусто. На два билета хватит. Люсиль, мы две реки. Маленьких речонки. Речушки. И мы течем в большую реку. Нет. В океан. На Север. На Восток.
Он вспомнил, как салажонок с санками бежал с откоса по льду, к мерцающей, дымящейся полынье.
– Вокзал еще ничей. Вокзал – он наш. Его не взяли. Его возьми-ка попробуй. Я хочу стать маленьким мальчонкой, лежать в пеленках, спать. Сопеть в одеялах. Но я не младенец Спаситель. И волхвы не придут.
Они с Люсиль шли вдоль ожидальных скамей; везде, прислонившись к спинкам, развалившись во всю длину, по-собачьи, вповалку, скрючившись в три погибели – кто как мог, спали измученные люди. Они спали на скамьях и на камнях, прямо на полу, и им было холодно, и они ежились и дергались во сне от озноба.
Он слизнул капли пота с губы, наступил Люсиль на ножку в узком сапожке, бормотнул: «Прости». Кольцо сжимается. А я еще никому не надел на палец кольцо. Все мои женщины, все мои жены были невенчанные со мной; и никто не родил мне ребенка; и гнал меня ветер по свету. Я мотался, как дорожный знак над бездной.
– Люсиль, ты слышишь гул за стенами?!.. Что это… это войска…
– Это всего лишь поезд, Юргенс. Он идет и качается. Ты никогда не занимался любовью в поезде?.. – Она хохотнула. Сильней сжала его руку. – Это забавно!.. Непорочное зачатье… Девственная измена… Состав лязгает, гремит, и в нем едут люди за военной поживой… за наживой. Тебе не кажется, Юргенс, что поезд грохочет как пулемет?!..
– Собьемся в стог, Люсиль, покуда мы живы. Погуда Бог сам не сгребет нас своими граблями. Эй-эй!.. Люди!.. Давайте теснее, в кучу!.. теплее станет…
Она, притворно-страшно округлив глаза, хохоча, зажала ладошкой ему рот.
– Тише, что вопишь, кто тебя послушает… У тебя лоб светится золотым светом. Может, ты уже святой.
– Да, может, я уже святой, Люсиль. Ну что, удираем из Армагеддона?.. или…
Он прищурился, рассматривая ее, будто впервые увидел. Там, близ глетчеров, на горном застылом озере.
– Слушай! Слушай!.. Слушай, как воет собака!..
Посреди вокзального зала, подъявши морду ввысь, выла, как плакала, огромная тощая собака. Она по виду была давно не кормлена; ей не досталось от людей ни мясца, ни завалящего мосла. Она выла, исполняя последнюю песню, на последнем издыханьи, на вдохе и выдохе, слуга людей, преданная ими, выброшенная за борт людского корабля. Она приползла на последний человеческий корабль, на ветхое дырявое судно Вокзала, отправлявшегося в никуда, и здесь пела, плакала и выла, напоминая каждому самого себя. Люсиль глядела на собаку широким, долгим взглядом.
– Она воет над нами, Юргенс, – проговорила Люсиль дрожащими губами. – Нам осталось жить всего ничего.
На ее скуле светился озерный алмаз слезы.
– Поплачь еще, собака, – шептала Люсиль, и губы ее прыгали, вспухали. – Повой еще. Ты еще не все нам рассказала про нас, собака. Поплачь еще, повой навзрыд. Юргенс!.. Иди к кассам. Бери билеты. Едем!.. Туда, к Хамар-Дабану… там – легче умереть… что ты медлишь?!..
Собака выла. Он стоял перед Люсиль, бессильно опустив руки. С изумленьем увидал, что на нем надета все та же его старая, солдатская гимнастерка, и на ней не хватает двух медных пуговиц. Это… она, что ли, привезла с собой… с того света…
– Или ты будешь посреди Армагеддона ждать огня, забившись в угол каморки, как последняя крыса?!
Он шагнул к ней. Собака все выла, и с зубов по черным губам у нее стекала голодная слюна.
– Я не крыса, Люсиль. Около поездов столпотворенье. Все хотят уехать. Садятся в вагоны, идя друг у друга по головам. Один мужик, чтобы влезть, пропорол проводнице сердце ножом. Ты знаешь, что во время голода у человека отнимается разум, и матери могут есть своих детей, а дети – убивать и съедать своих родителей? Я до сих пор не знаю… – он тяжело вздохнул, снова отыскал ее руку и крепко сжал, – настоящая ли ты.
Она со злостью вырвала руку. Люстра швыряла в них тысячью золотых копий. Собака выла, зажмурив гноящиеся глаза.
– Я настоящая! – крикнула она яростно. – И буду настоящей! Я не знаю, с кем ты меня путаешь! Путался тут со всякими! Мое имя Люсиль! Я певичка! Птичка! Голубка! И я еду! Туда! На Восток! К Байкалу! А ты тут оставайся! Фраер! Притвора! Трус!
Он вздрогнул всем телом, как от удара. Между криво стоящими тощими лапами воющей собаки, на грязном мраморном полу Вокзала, нестерпимо сиял огромный круглый синий камень. Он просиял – и закатился, отлетел меж чужих ног и баулов, узлов и сундуков, затерялся меж чемоданами и рюкзаками, и его схватил с полу, подобрал чернявый цыганский мальчик, зажал в кулаке, и он выскользнул у него из кулачка и укатился дальше, и люди не видели его, только их лица снизу, с полу, там, где он катился, озарялись бледно-синим, золотым сияньем.
Собака выла. Люсиль плакала. Сапфир катился. Блокада сжимала кольцо.
Война входила в Армагеддон со всех сторон, обнимая его, как красавица – возлюбленного.
Все было верно. С подлинным верно.
Он обнял Люсиль. Шепнул ей в ухо, позолоченное светом белой непокорной кудряшки:
– Езжай. Я помогу тебе сесть в вагон. Я подниму тебя на руки и пронесу тебя над толпой на руках. Пусть плюются, полосуют меня ножами, мордуют. Ты уедешь. Ты сможешь.
Он так и сделал. Он купил ей билет, они выбежали на перрон, посекаемый серебряными хлыстами и плетями пурги, прибились напором беснующейся, кричащей прощальную невнятицу толпы к вагону, и Лех поднял Люсиль над бездной народу в черных пальто, в безликих куцавейках, в папахах и армяках, над солдатней в пилотках и рваных ушанках, над стариками в треухах, над матерями, голосящими сумасбродно: «Ах, сыночек мой Митенька-а-а-а!.. Я там тебе пирожков в торбочке напекла-а-а-а!.. Ешь, в дороге голодно!.. Слезь на станции Балезино, запомнил?.. там тебя тетка встретит… Балезино!..» – и так, держа ее на руках над головой, как огонь, как белый факел, расталкивая народ самим собой, так, как ледокол колет слежалый, застарелый крепкий лед, понес к вагонной двери, а проводница, вжатая неистовствующим людским морем в железную вагонную обшивку, глядела потрясенно, как высокий, длинный солдат в потрепанной гимнастерке, как Царь, держит на руках белокурую девчонку, свою Царицу, и вносит в орущий и плачущий, набитый доверху, как рыбой в солильной бочке, слепой общий вагон, – и билета было не спросить, и ругательство не крикнуть вслед: он внес ее в поезд, и он усадил ее на ее Царское место, и он поцеловал ее на прощанье, – а еды-то у нее с собой не было, чтобы трое, четверо, пятеро долгих дней и ночей есть ее из дорожного мешка, – и он заплакал от горя, и она, проведя рукой по его щеке, нежно утешала его.
– Юргенс!.. Я же помню нашу любовь… Ты был со мной. Я была с тобой. Любовь – это лишь память любви. Боль – это воспоминанье о боли. Нет ничего. Есть только сон и память. Помни меня. Ты в кольце. Армагеддон не прорвет блокаду. Дай я тебя покрещу. Так меня крестил один монах.
Белое ее личико потемнело.
– Его распяли… на Островах…
Собака выла над всем Вокзалом, над огнями, над хлещущими саблями пурги, над шпилями уходящих в чернь неба башен, над дрожащим всем длинным телом, всей дымной хордой, скорым поездом, что вот-вот должен был отойти от платформы, сорваться, застучать, улететь, вырвать себя с корнем из голода и ужаса Армагеддона.
Толпа налетела, смяла его, нажала, ревя, прокатилась волной, оторвала его от Люсиль, вынесла вон из вагона, как щепку, как ореховую скорлупу в пене прибоя. Белая пена метели захлестнула его. Сквозь беспредельное окно Вокзала он видел чудовищного золотого дикобраза люстры. Свет протыкал ночь насквозь. Поезд, забросанный воплями и взрыдами, отошел. Он не видел лица Люсиль. Она была далеко, за сотней затылков и лиц, за тысячей плачущих глаз.
Он поднял руку, сложил троеперстие и тихо, тайно, подняв ладонь, перекрестил уходящий поезд и живую женщину в нем.
Собака выла. Он понял, что сидит на снегу, подняв лицо, и сам воет, воет вместе с ней.
– Где наш храбрый солдат, Ян?..
Генерал откинулся на спинку парикмахерского кресла. Его услужливо, дотошно брил лучший цирюльник, выписанный Яном из Европы, из лучшего модного салона; генерал платил ему за бритье слитками контрабандного вражьего золота.
– Думаю, что еще в Париже. Он попался в лапы к Авессалому. Коромысло работает безупречно. Они пытались от него добиться правды. У меня есть сведенья, что он вырвался. Его щедро накачали наркотиками. Он – мужик молодой, сильный. Справился; на Войне не такое видывал, в боях бывал, ранен сто раз, контужен, в газовые атаки попадал. Крепкий зверь. И сообразительный. Он им ничего не сказал. Они насылали на него сногсшибательную девочку. По прозвищу Косая Челка. Эта девочка даст сто очков вперед любому нашему мальчику.
– Включая Марко?.. – Ян издал короткий смешок.
– Включая самого Коромысло. Но у Леха оказалась в руках контрфигура. И он выставил ее, когда надо. Фигура убойной силы. Я сам не ожидал. Жаль, она погибла. Она повторила судьбу своего отчима. Я знал его по прежней Войне. Она сгорела в самолете. Жаль. – Генералу побрызгали на коротко остриженный и подбритый затылок остро пахнущими лошадиной сбруей и лимонным соком изысканными духами, и он растер затылок и шею до красноты, втирая в кожу пахучий спирт. – Очень жаль, иначе мы бы ее не упустили. Она бы замечательно работала на нас. Это была бы Мата Хари Зимней Войны. Она прославилась бы. Она…
– Вы всерьез думаете, генерал, что она могла бы даже…
– Договаривайте, Ян. Вам позволено говорить в моем присутствии все. И даже выбалтывать мне военные тайны. Те, что я и сам давно знаю.
– …остановить Зимнюю Войну?..
Генерал Ингвар грузно поднялся с вертящегося серебряного кресла, потер ладонями виски, вдохнул куаферские шаловливые ароматы. Парижский цирюльник слегка, подобострастно наклонился с полотенцем в руках, созерцая безупречное дело рук своих. Генерал оценивал свой торжественный фасад, рассматривая себя в высоком венецианском зеркале; он остался доволен искусством стригаля и обновленным собой.
– Зимняя Война, – выбросил он из впалого стариковского рта короткие и разящие, как пулеметная очередь, привычные слова. – Зимняя Война – загадка. Это условье. Это искупленье. Мы ею искупаем… что?.. Она идет всегда. Она не может закончиться. По крайней мере, она должна закончиться не так просто. И не человек должен волей своей завершить ее. Не я. Не вы, Ян. Не любой генерал или жалкий солдат. Да все мы жалкие на этой Войне. Мы даже не знаем толком, кто – Враг. Нам показали; и мы с ним воюем. Но мы никогда не могли узнать, кто он такой. Может, это всего лишь наши передислоцированные части там, за горами?! Там, за снегами и пустынями?!..
Генерал Ингвар всем отяжелевшим торсом, натянувшим галифе и китель круглым брюхом и грудью, увешанной боевыми наградами, орденами и крестами, надвинулся на Яна.
– Ян, – одышливо сказал он, держась рукой за спинку кресла. – У меня есть награды Родины. У меня орден Андрея Первозванного, у меня Георгиевские кресты. У меня, наконец, и святой Станислав, и Святая Анна, и Владимир первой степени. Меня нельзя обвинить в трусости. Но и я устал от Войны. Настанет день, когда меня убьют. И еще одно. Генералы, проигравшие Войну – не бой, а целую Войну, дорогой Ян, – пускают себе пулю в висок. У меня есть пятнадцатизарядная беретта. Я никогда не склонял головы. Но эта девочка… эта…
Ян, обернув к генералу бестрепетный, хищный птичий профиль, молча следил, как Ингвар внезапно обмякает, сгибается, как подрезанный, клонит глову в ладони, так, с лицом в ладонях, застывает перед старинным итальянским зеркалом, невесть как доставленным в Ставку, под разрывы и обстрелы.
– Эта армагеддонская девочка, Ян, русская девочка, – вы и представить себе не можете, какие чудеса он показала нам, опытным боевым мужикам! Мне отсняли ее скрытой камерой. Я был в восторге. Я понимал: такие женщины растут из тайны, что они носят в себе… глубоко… и никому, никогда и ни за что не рассказывают.
Надменная улыбка изогнула губы Яна. Он взял выхоленными пальцами с зеркальной тумбы портсигар, вынул сигарету, закурил.
– Вы преувеличиваете, генерал. Вы чересчур романтичны. Может, ей нечего рассказывать. Ничего особенного. Бойкая, смышленая девчонка, вот и все.
– Уф, до чего жестокий, крепкий табак, – отдулся генерал, и пот выступил на его щеках, на подбородке. – Что за сигареты вы курите, Ян?..
Он покосился на окурок в пепельнице. «КАРМЕЛА» – было красной краской, будто помадой, выведено на нем.
– Самодельные, – отрезал Ян. – Здешние. Их выделывает какая-то табачница в горах, в двенадцатой роте. Я забыл ее имя, мне говорили. Впрочем, возможно, ее давно убили. Война есть Война. Мы болтаем о чепухе. Перейдем к главному. Когда решающее наступленье на Врага?
– На Врага, – раздумчиво повторил генерал, и его стеклянно-выпуклые, светло-голубые рыбьи глаза потускнели. Он потрогал, один за другим, на груди все свои ордена и кресты. – Я мечтаю об одном, Ян. Если б с нами теперь был наш Царь, так позорно, так бездарно и чудовищно убитый нами же самими. Если бы вернулся к нам наш Царь. Мы бы не так тряслись перед сраженьем. Мы бы выигрывали один бой за другим.
– Но с Ним мы же проигрывали! – выкрикнул Ян насмешливо, и угол его птичье-тонкого рта дернулся. – Мы же проиграли с Ним, в конце концов, всю Россию!
– Ерунда, Ян. – Генерал тяжело вздохнул, и при вдохе в его легких обозначились старые бронхитные недолеченные хрипы. – Это не мы с Ним проиграли Росиию, а Он, в нечестной, жульнической игре, проиграл ее нам. И теперь мы сами расплачиваемся за собственное шулерство. Куда как умно, ничего не скажешь. Но девочка… эта девочка…
– Далась вам эта девочка! Вы что, генерал, влюбились? – Ян передернулся, как от булавочного укола. – На Зимней Войне есть девочки. Я прикажу прислать в Ставку…
Генерал быстрее вспышки обернулся к нему. Ян отспупил на шаг от его перекошенного, будто он подорвался на мине, обрюзглого лица.
– Да, влюбился! – крикнул он. – Если можно влюбиться в мертвую! На земле каждую секунду умирают сотни людей, на Войне или просто так, сами, и сотни людей рождаются! Она должна была жить! Она была – ветер, снег…
Ян закурил новую сигарету, медленно подошел к окну главного зданья Ставки. За окном в ночи наискосок летели мохнатые снежные хлопья, вихрились вокруг сугробов голубые петли и канаты поземки, сухие снеговые плетки, хлещущие непроглядную темень, рассыпались на яркие и мелкие белые искры. Зима, вечная зима. И Война в ней, как в серебряной короне. Сапфир не вернулся в золотой лоб Будды. Битва будет продолжаться. Бой не утихнет. Новые люди полягут на страшном Белом Поле.
– Сильный снег валит, генерал, – сухо сказал Ян, докуривая кустарную сигаретку. – Тяжело будет солдатам в наземном бою. Счастливы будут бедные летчики.
– Уж такая их участь.
– Вы знаете, разумеется, что Столица, Армагеддон, окольцован Врагом.
– Вы могли бы мне об этом не докладывать.
Лицо генерала высветилось суровой, приказной бледностью изнутри, челюсти взбугрились, сжались. Ян, затушив в хрустале сигарету, сдвинул каблуки, склонил голову, вышел. Ночь кончалась. Наутро был назначен решающий бой.
– Снимите его!.. Быстро… Крови много потерял…
– Бесполезно… Он уже готов… Дух испустил давно…
Два мужика, кряхтя и матерясь, вырывали голыми руками, как клещами, гвозди, засаженные по шляпку в гнилые доски, перевязывали грязными портянками раны в кистях и в ступнях, стаскивали распятого монаха с креста. Его запрокинутое, со спутанной ветром черной поседелой бородой, изможденное и почернелое лицо гляделось словно деревянным. Руки, ноги обжигали морозом, как застывшие ледяные, вывернутые из земли рельсины.
– Остыл!.. напрасно… не оживить…
– Экие звери… солдаты… а вроде тоже – русские люди…
Высоко, над головами крючащихся возле креста мужиков, выл тоскливый, неизбывный ветер. С моря наносило мелкий, как пшено, острый снег, сырость, особо страшную при морозе – вмиг обмораживались щеки, уши.
– Не выживет… весь выгорел табак его…
Тело распятого монаха осторожно донесли до выстуженного барака, внесли внутрь, накрыли тряпками, шубами, тулупами. Мужик, что перевязывал ему окровавленные руки, вытащил из-за пазухи четвертушку самогонной водки, разжал ему зубы, влил глоток.
– Согрейся… Ну, давай, глотни хоть чуток… просыпайся… а ежели ты мертвец – пусть Господь совершит чудо… восстань… ты же монах, ты же молился… у тебя же душа святая…
Мужик принялся неумело, ругаясь и поминая Бога сразу, растирать его грудь, руки, виски. В глубине барака бухали жестяными тарелками, доносился запах пригорелой каши – люди варили себе еду. Сквозь мужицкий табачный и потный конский дух, отрывистые приказы, едкую соль сквернословья просачивался тонкий ручей женского плача. Восстанье было подавлено. Солдаты перебили людей, как коров на бойне. Власть вела Войну против своего народа жестоко и торжествующе. Народ провинился перед Властью лишь тем, что он был и жил.
Монах не открывал глаза, лежал бревнышком, топляком. Мужик вылил остатки водки ему на лицо, растер по щекам и лбу. Спиртовая капля попала в глаз, и глаз дернулся и прищурился, и сморгнул, а следом дернулась голова, и из груди распятого вылетел, как большая черная птица, стон, повис в мареве барака, загас под балками.
Мужик кинул в угол, на кирпичи, пустую бутылку, она разбилась вдребезги; перекрестился и заревел быком.
– Восстал!.. Восстал!.. Восстал из мертвых, робяты!.. Счастлив Бог его!.. Эка мы молодцы, что его с пытальных досок сдернули… ну и силен же ты, брат… выдюжил… второй раз родился… не каждому везет… а ну скажи хоть слово!..
Губы монаха не разлеплялись. Глаза, раскрывшись, глядели жарко, черно, сумасшедше. Из углов глаз на кучерявый, в колтунах, овечий мех, на испод тулупа, расстеленного под ним во всю шиль лавки, катились беспрерывные просящие, прощающие, умоляющие безмолвно о жалости слезы.
Стася сидела в лодке на берегу Ла-Манша с простреленной насквозь рукой. Кровь унялась, и время остановилось. Ее бедное время, ее жалость и боль. Она подняла шубку со дна лодки и укуталась в нее с головой, чтоб было теплее. Дрожь била ее безостановочно. Сквозная рана в плече тихо, сладко ныла. Человек переживет любую боль. Любую утрату. Человек переживет все, кроме собственной смерти.
Во лбу у нее стала звучать тихая, умиротворенная музыка, поющая ей о птицах, о кружевных белых платьицах и пелеринках, о вишневом варенье в саду, в медном тазу, о веселом смехе девочек с ракетками в руках, играющих на Солнце в теннис, о жемчужном ожерелье на белой нежной шее Матери. Она закрыла глаза и легла на дно лодки. Море покачивало скорлупку, привязанную к железному береговому колу. Море баюкало ее. На нее напали. Ее ограбили. Ее ранили. Ее выбросили на берег, как выеденную печеную мидию. Как обглоданный рыбий хребет. Лежи, стынь под белым жемчугом Солнца, гляди на несущиеся в вышине над тобой серые меховые тучи, старые шубы, ветхие тряпки, свадебные вуали. И, может быть, небо на тебя накинет плащаницу. И оплачет тебя. А тебе пусть снится золотая музыка, золотой ковчежец в руках батюшки в Петергофской нарядной красной церкви, прозрачная газовая вуаль Мамы Али, деревянное ружье Леши, что он вздергивал: на пле-чо!.. к но-ге!.. – и заливался хохотом, как майский соловушка в березовых ветвях.
Спи, усни. Угомон тебя возьми. Как это Люська пела на Островах. Котик, котик, коток, котик серенький хвосток. Приходи к нам ночевать, мою деточку качать. Ее деточка. Где она. Она замерзла. Или Глашенька спасла ее, выкормила. Где Исупов. Она порезала ему битым стеклом щеку крест-накрест. Он крещен ею. Он теперь носит ее крест. Где Люська. Она показывала ей свой живот. Стася клала руку на живот, замирала и слушала, как в животе у Люськи тайна перекатывается, бьется, всплывают из незримого моря выступы пяточек, локоточки, бычья упрямая головка. Как ты назовешь его?.. По-православному. По-церковному. Как Иакинф захочет, так и назову.
Музыка все звучала в ней, заливала ясным светом все темное и страшное внутри нее, разливалась золотым, голубым вешним разливом, и льдины плыли по синей реке, и пели в синем бездонном небе птицы, жаворонки рассыпали трели, соловьи не смолкали в нежной тонкой роще, выпустившей навстречу Солнцу первую робкую листву, и лодка качалась на морских чужбинных волнах под ветром, и Стася засыпала сладко, как в детстве на руках у Мамы; сначала ей было холодно, и одна дрожала под шубой, потом неизъяснимая теплота заполнила ее, как жаркое красное вино заполняет пустой жадный сосуд, и она улыбнулась от счастья, и музыка зазвучала сильнее, радостней, – и над лодкой, в полном Царском военном облаченьи, в парадном вицмундире, в золотых эполетах и веселых аксельбантах, в фуражке с околышем, в белых лайковых перчатках, склонился Отец, и он улыбался ей, и синие, серые, зелено-озерные глаза его были полны великой любви – к ней, Стасе, к миру, к весне, к России, к небу и Богу, – и она засмеялась от радости, рассматривая его родное лицо со светлотой глаз, с русыми бровями и подстриженной русой бородкой, с золотыми усами, загорелое на первом весеннем Солнце, и спросила: «Папа, это весенний парад?.. Уже кончилась зима?.. Кончилась Зимняя Война?.. А Мама велела мадам Лили испечь праздничный торт?.. Это Пасха, да?.. А где же твоя Золотая Голова?..» – и он, улыбаясь, грозя ей пальцем, достал из-за спины могучий, тяжелый золотой шлем, круглый, как солдатская каска, и показал ей: гляди, он весь пробит пулями, я много воевал, но я устал воевать. И мой народ устал. И зиме пришел конец. Это Пасха, Стасинька. Христос воскресе.
И она прошептала с закрытыми глазами, улыбаясь и протягивая к нему ладони: «Воистину воскресе!..» – и огромная светлая река весеннего неба подхватила ее, завертела в сияющих мощных водоворотах, утянула, понесла на синей зверьей спине между плывущих, мерцающих льдин, и она захлебнулась светом и счастьем, и плыла в счастье, раскинув руки, и Отец плыл, во всей военной парадной амуниции, рядом, вместе с ней, и золотая каска Солнца плыла над ними в вольном, без конца и краю, родном васильковом небе, – и там, далеко, на краю земли, река сливалась с небом в одно ослепительное Северное море Божьего света.
Кольцо блокады сжималось. Армагеддон погибал. Музыка воздушных тревог резала уши. Лязгали стальные сплавы танковых гусениц – с площадей Столицы отправляли резервные танки на прорыв осады, но железных быков поджигали с воздуха меткими бомбами, и танкисты сгорали внутри танков, не успевая помолиться напоследок. Земля напоминала кровавую кулебяку с бело-серой подливкой снега, окутанного дымами пожарищ. Никто не думал, не гадал, что напрочь сгорит в Кремле Грановитая палата; что бомбой будет разрушен до основанья Успенский собор, где венчались от века русские Цари. Огонь гулял по улицам, как гуляет ночная рыжая проститутка. Люди в домах точили ножи, чтобы зарезать себя – от отчаянья. Ножи могли кромсать направо и налево, ища брешь в орущей, рукастой, глазастой стене. Кровь текла по белому снегу Великой Рекой – извилистой, дымной; а кольцо все сжималось, и в людей стреляла людская рука, недавно так нежно любимая. И в людей стреляли не пулями, не снарядами, а живыми расширенными от ужаса глазами, а слепыми голодными криками, а немыми слезами матерей, сколачивавших для детей гробики из ящиков из-под проросшей картошки, похищенной ночью из разбитых, разрушенных в прах рыночных лабазов.
Никто не думал, что Война так обернется. Что людям в Армагеддоне будет уготована не битва, а блокада. Уж лучше бой, чем стонать в стальных, медленно сжимающихся объятьях. Вы, правители. Вы жрали сельдей и осетров на куртагах-фуршетах. Вы не мыслили, что будете жаться, промерзая, на мазутном Вокзале, мечтая удрать из Армагеддона куда угодно – на Волгу, на Ладогу, на Ветлугу, на Енисей. За Байкалом шла уже настоящая Война; и где были границы страны, ревущей в черных сетях безумной беломорской белугой?! От какого ужаса все прятали куриную голову под крыло?! Мне было сыто. Счастливо. Тепло. Слепо. И – другим незрячим. А теперь все прозрели. И ужаснулись.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































