Текст книги "Зимняя Война"
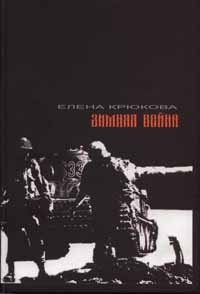
Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 31 страниц)
И пронзительней ВИДЕЛ сей мир безумец Рифмадиссо; и его знал, любил и ненавидел уже весь голодный, наполовину спятивший обреченный Армагеддон, потому что Рифмадиссо приходил к Кремлевской стене, садился на снег, вывернув сухие лытки, поворачивал голые красные ладони к голодной безлюдной Красной площади, – по грязному снегу изредка, туда-сюда, проползали то железные городские повозки, то оглушительно грохочущие танки из кремлевских воинских частей, то, все в черном, сгорбясь, шли обожженные голодом и Войною люди, волоча за спиной санки с детским гробиком, с ведром ледяной воды, с пустым, из-под последней картошки, мешком, – и возглашал, и глас его несся над безлюдьем, пугая серых ворон, заставляя взмывать с зубцов Кремлевской кровавой стены стаи голодных голубей:
– Сей Град обнимаю объятьем!.. Сижу, голый, над горем!.. Вижу, вижу все Замогилье, Заблудье, Забудье, Беспределье, Бессилье!.. Нас будут убивать, медленно наводя на нас не дула, а лица!.. И будут литься с лиц вниз, на белую землю, соленые красные дожди!.. И в лицах будут зиять улыбки, и в улыбках – красные и черные пустые зубы!.. И рты будут в трубы трубить, и Суд начнется, и мы все ниц падем!.. И затрясемся, как побитые щенки… И заплачем! И взмолимся: Господи, голодно без хлеба-крови Твоея!.. И захотим заплакать, люди, – а взамен слез у нас по щекам, по морщинам потечет ржавая сукровь, красное пойло, черное сусло… Прощай, земля наша! Ты носила вериги в пол-руки, а теперь кольцо сожмется, и в рукопашном бою тебе в живот штык воткнут. И твои галчата больше не разинут клювы на заморские прельстительные яства. И твои ветра на задуют в грудь нам, осажденным. Ты попила, наша земля, поела вволюшку. Все отняли. Твой ларь пустой. На твое иссыхающее зимнее тело глядит с небес Царь Небесный, последний. Да, Царь, и Ты слабак!.. И Ты б не спас… Ты ведь не Спас… А Спас – где?.. Снег в моей бороде… Меня убьют, знаю!.. Посадят в тюрьму… Еще не сдохли тюремщики последние… Меня расстреляют на стогнах Града моего – еще не окочурились солдаты последние… И я стану свечою Ада в молельном кулаке моей Зимы… Кольцо сжимается все туже, люди!.. И вам страшно!.. И вы голодны! Вы вопите! Брюхо ваше поджато! А поодаль – гроб ваш, а в гробу – лишь снег, небесный старик!.. И вы озираетесь: ни яда! Ни петли! Ни ножа! Одна последняя Война. И ты, человече, дрожа от голода и страха, вместо того, чтоб смачно плюнуть в харю солдату, что выстрелит в тебя, вместо тяжелого сиянья презирающих, веселых глаз своих – что сделаешь?!.. протянешь солдату руку – ЗА ПОДАЯНЬЕМ, ЧТО ХУЖЕ СМЕРТИ: И НА ВЕКА БУДЕШЬ ЗАКЛЕЙМЕН ПОЗОРНОЙ МИЛОСТЫНЕЙ СВОЕЙ!..
Площадной пророк орал это все в самозабвеньи, и он не видел, не заметил, как подкрались к нему четверо людей в черном, в гладко-кожаном. Люди были без лиц – вместо лиц на них были черные очки, а подбородки их были затянуты черными женскими чулками. Черные подобрались к Рифмадиссо, как волки подбираются к добыче, и накинули сзади на него пустой картофельный мешок. Он стал вырываться, кричать и верещать, бить снег ногами.
А, ты знаешь Тайну Мира?!.. знаток нашелся!.. Ты не хочешь погибать вслепую?!.. Хочешь видеть, как вылетит в тебя из черного дула верная гибель твоя?!..
Я зрячий! Я не слепой!.. Я хочу видеть все и всегда – до конца!.. Скиньте с башки моей грязную тряпку!..
Редкие, клонящиеся криво, к земле, от голода, закутанные в черные пальто и шарфы прохожие подбредали к борющимся, жалостливо глядели, как вяжут их любимого пророка, как срывают у него с головы грязную мешковину.
– Я был мертв и ожил!.. Труд напрасен ваш!.. Вы выстрелите – а я в ином, в живом воскресну!.. Так всегда было. Кольцо сожмется, а отрубленный палец сгорит, рассыплется в серый, пепельный снег и полетит по ветру, заметая вашу поганую быль, слетая на лица, что видят сон о любви, о золотой весне!.. Стреляйте!.. Ваша пуля – картонная!.. Ваш револьвер – спичечная коробка!.. И сами вы…
Он выгнулся в руках палачей. Прохожие люди, прижав руки ко рту, плакали без слез. Мальчишка, в продранных на коленях шароварах, сунулся было к пророку, да один из черных ударил его рукоятью револьвера по голой, без ушанки, головенке, и мальчик бессловесно свалился в снег, затих.
– …куриный помет!..
Черные встряхнули его, как старый половик, приподняли за шиворот, приставили спиной к краснокирпичной стене Кремля. Тот, что выше всех ростом вышел, поднял руку, наставил черный револьвер, и рука его поднялась, и вздернула черные очки на лоб, и стащила черный бабий чулок с подбородка, и юродивый, изумясь до белизны щек, узнал человека.
– Авессалом!.. И ты… убьешь меня?!..
– Да, я убью тебя, – вычеканил Авессалом и, целясь в пророка, отер другой рукой пот со взмокшего лица. – Я убью тебя, ибо наша земля устала от кровавого пути к Тайне Мира. Никакой Тайны нет. Есть люди, вроде тебя, идиоты, больные, смутьяны, смущающие живых людей и нарушающие непреложный ход вещей. Ты распял своим пророчеством всех нас! Ты накликал Зимнюю Войну! Ты навел на нас блокаду! Ты заклял синий Глаз паршивого восточного Будды, вынул его из короны русских Царей, швырнул в бешеный танец метели, чтоб мы все ловили его, синюю рыбу, уповали на него, как на чудо! А чуда нет! Есть обман! Один обман! И мы убьем… я сам убью последнего пророка! Ты, пророчишко, молился ли ты на ночь?!.. хочешь, стой у стены, хочешь, преклони колени… и выкрикни еще что-нибудь!.. ну!.. что-нибудь такое: вы убьете меня и все тут же погибнете!.. Воздастся вам!.. Ну, напугай нас напоследок!.. Ну!..
Он брызгал слюной, наводил дуло, нацеливал его в лоб Рифмадиссо, и револьвер застывал в его кулаке мертвым черным вороном.
Пророк раскрыл беззубый, безумный рот, сморщился, улыбнулся и тихо сказал:
– Вы убьете меня и все скоро погибнете. Кольцо разорвется. Блокада кончится. К небу воздымется огонь Последнего Боя Войны.
Он вскинул руки, поднял их над головой, прижал к красному кирпичу. Авессалом оскалился и дернул курок. Пуля разнесла череп Рифмадиссо на мелкие красные осколки, красный свет брызнул в стороны, на камень кладки и на снег, на стрелявшего Авессалома и на сбившихся в кучку кожаных черных, и в тот же миг невыносимый гул вырос из неба, наплыл, обрушился и взорвался, и из земли навстречу черному небу выросли столбы огня, взмыли огненные руки, и огромный, как золотое море, флаг огня взвился над Армагеддоном, и черные упали на снег и закрыли затылки руками, и огонь плясал на снегу, и вырывался из окон, и расплавлял стека, и выжигал людские глаза, и обнимал склады и крыши, памятники и храмы.
Огонь схватил жадными красными руками тело своего пророка и поднял его высоко, к небу.
Так начался в Армагеддоне последний бой, предсказанный маленьким сумасшедшим бурятским нищим.
…………………мне холодно. Глаза мои закрыты. Я сплю. Я дремлю. Лодка тихо покачивается на синих ледяных волнах. Пахнет кедровой хвоей, смолой. Волком подвывает ветер. А может, это собака воет, подняв голову, на последнюю звезду, на старую Луну.
Я сплю и вижу сны. Я – Стася?.. Нет, меня уже зовут по-иному. Я – девочка, которую она, Стася, держала на руках на каторге на лютых Островах, в долгом этапе на Восток. Каждый из нас был кем-то, кого уже нет, и станет тем, кого еще нет. Судьбы людские спутаны, как волосы на зимнем ветру. Я – Люсиль?.. О, нет. Люсиль разорвало на куски вражеским снарядом. Она пела песню и плясала на дощатой военной сцене, и это была легкая смерть – с музыкой, с песней, в азарте наслажденья. Почему в лодке так пахнет табаком?.. А, это сигарета лежит на сыром дне, около моей щеки. Маленькая самодельная сигаретка, самокрутка, туго набитая плохим китайским табаком. Солдаты любят такие курить. На Войне любое дерьмо съедят.
И красным на сигаретке, сбоку, начертано: «КАРМЕЛА». Красивое имя. Жалко, что я так не назвала малютку. Я не успела ее никак назвать. А называла тысячью красивых женских имен. Боже, как я только ее ни называла! И Аннита, и Дездемона, и Корделия, и Маргарита, и Лючия, и Инезилья… Я тетешкала ее, целовала… А может, это я – малютка, и я уже выросла, и это я лежу здесь, в лодке, и это не чужое северное море, а хрустально-синее холодное озеро в горах Сибири, и Война надо мной и подо мной, и я лежу и сплю в ладонях Войны, и вместо колыбельной она поет у изголовья свистом пуль, грохотом взрывов. Я русская, отдайте мне мой нательный крест, мою рванину-платье. Я была богата – я стала нищей. Я была дочь Царя – я сижу на рынке в сугробе, продаю за копейку стакан облепихи. В моей земле лед обжигает, как огонь. Но ведь огонь обнял меня и вобрал в себя. Отчего же я тут?!.. в этой старой просмоленной рыбацкой лодке… здесь, на Муксалме… и Иакинф склоняется надо мной, находит губами мои губы, целует меня, раскрывает меня молящей лаской для новой жизни…
Туман перед глазами. Веки тяжелы. Мне их не открыть. Мне сладко спать. Мне отрадно. Отрадней спать, сладко и покойно дышать, когда весь век вокруг идет Война, когда вокруг стыд и преступленья, кровь и стрельба. Я сплю. Я вижу сон. Я не живу. Я замерла. Застыла, как сливки на морозе, огромное стылое колесо сливок на гомонящем и гудящем Иркутском рынке.
– Он в Париже!
– Говорю вам, он давно смылся оттуда.
– Вы хотите, чтобы мы вам доставили его труп?!
– Я хочу убедиться, что он в безопасности. Что вы не будете охотиться за ним. Поэтому я предпочел бы…
– Ваша плата!
– Моя цена – цена всей Войны. И вы прекрасно знаете это.
– Дешево же вы, генерал, оцениваете вашу любимую Войну!
– Этот солдат показал мне, чего стоит вся моя Война со всеми потрохами. Один-единственный солдат. Он стал для меня смыслом Войны. Смыслом бессмысленной, вечной бойни.
– И вы, генерал, хотите его вознаградить?.. Посадить на свое место?.. В Ставку?..
– Я видел, Коромысло, как солдаты на Войне хладнокровно убивают обнимающихся сына и мать, потом обливают их бензином, поджигают спичкой и равнодушно, посвистывая сквозь зубы, уходят от костра. Я видел, как солдаты, согнав в кучу людей, убивают их не выстрелами в затылок – крестьянскими молотами по головам, и те безропотно, как животные, подставляют голову под удар. Я видел всякое на Войне, Коромысло, что делали солдаты. Я никогда не мог подумать, что у меня на Войне отыщется такой солдат, как Лех.
– Его зовут Юргенс! Это его настоящее имя.
– Я сам его так назвал. Я крестил его вновь и дал ему другую жизнь. Он выполнял мой приказ. Вы не имеете права его убивать, Коромысло.
– На Войне каждый миг убивают тысячи!
– Мне нужен один этот человек.
Генерал Ингвар, отдувшись, выхрипнув кашель из навек простуженных легких, тяжело поднялся с кресла. За окном наливался молочной сладостью зимний рассвет. Утомительно висел в ушах вязкий гул истребителей и самолетов-разведчиков. Снежные азиатские горы, возвышавшиеся за спиной, за плечами говорящих в оконном стекле перед Ставкой, дышали близкой смертью и ожиданьем развязки.
– Вы ждете конца? Его не будет, – голос человека в черном, по имени Коромысло, выплеснулся в обрюзгшее, одышливое лицо генерала стаканом ледяной воды. – Эта Война кончится только вместе с человечеством.
– Врете, – спокойно, медленно проговорил генерал и щелкнул пальцами. Люк, стоявший за креслом, протянул генералу рюмку с водкой, подал на изящном расписном блюдечке маленький бутерброд с крупными сердоликами кетовой икры. – Врете, – повторил он уверенно, воздел белесо-голубые, озорные глаза к потолку и зажевал бутерброд. – Война кончится тогда, когда совершится назначенное. Ни вы, ни я не в силах ни повлиять на ход времени, ни предотвратить события.
– События делает человек!
– О, да вы голый материалист, как я погляжу, Коромысло. Или натурфилософ. А я всего-навсего православный. Меня крестили, когда мне стукнуло два месяца. Все эти два месяца я, по словам матери, сильно и беспрерывно орал, вопил, не смыкая рта. Домашние устали, взмолились Богу. Старушка бабушка посоветовала меня окрестить скорей. Понесли в собор. Когда священник окунал меня в купель, он сказал моей матери: «Так блажит – будет генералом». Батюшка всунул мне в рот чайную ложку кагора и кусок просфоры. Крестик – вот, у меня на груди. – Ингвар вытащил из-под кителя крестик, повертел им перед носом у Коромысло. – Я верующий, в отличие от вас. И я верю…
Он захрипел, закашлялся, кашлял долго и надсадно. Откашляв мокроту, промокнул нос и рот батистовым платком, отдышался и промолвил:
– …верю, что и Война неслучайна, и мы в ней – не просто так. Иначе все это не имело бы смысла. Смыслы, Коромысло, есть в бессмысленных, с виду, вещах. Бог знает, что делает.
– И то, что мы убили Царя, – в этом тоже, по-вашему, глубокий смысл?!
Самолетный гул за окном становился громче и безысходней. Стекла в оконных рамах сотрясались.
– И то, что мы убивали и продолжаем убивать свой народ, – в этом тоже бездна смысла?! И то, что мы с вами давно перепутали, кто друг, кто враг, и ни вы, ни я толком не знаете, против кого…
Генерал стоял лицом к окну. Его китель, как шкура рассерженной росомахи, встопорщился на плечах. Кулаки сжались. Не оборачиваясь, он произнес:
– Я знаю. Я всегда отличал Врага. Но я понял, что именно я должен приблизить последний бой и обозначить конец. Лех должен был мне помочь. Этот солдат хорошо чувствует нюхом, где конец, где начало. Он полон жизни. Он чист и смел. Он не гнушается грязи, видит в ней алмазы. Он умеет хорошо драться и великодушно прощать. Он сам алмаз. Я молю Бога, чтобы он довершил начатое. Если его убьют – прервется нить, связывающая нас с небом. А земля без неба, Коромысло…
Он так и не обернулся, глядел в окно, заросшее ледяными узорами – хвощами, лилиями, морозными водорослями. Люк за креслом молча положил недоеденный бутерброд на рюмку сверху – так кладут покойнику на рюмку водки ломоть ржаного хлеба.
– …земля без неба – это все равно что мужик без …
Узкие глаза Коромысло над скуластыми, угластыми щеками взорвались белесым фугасным светом, поджатые конской подковой губы дрогнули.
– Я не убью вашего любимца.
– И на том спасибо.
– Вы не предлагаете мне сыграть с вами в карты на Армагеддон?
– Если Армагеддон весь сгорит в огне битвы, идущей в нем сейчас, то не вы станете человеком, который завладеет им и отстроит его заново.
– Уж не вы ли, Ингвар, им будете?
– Об этом спросите золотого Будду в ваших горах. А Христа не спрашивайте. Вы восточный человек. Вам негоже Его тревожить зазря.
– Я отдам вам жизнь Леха. За Армагеддон.
Генерал медленно, с натугой поворачивая занемевшую обритую шею, обернулся. Вместо лица у него сияла, застывая в свете морозных узоров, спокойная и устрашающая посмертная маска.
– Хорошо. Берите Армагеддон. Оставляйте Леха в живых. Он сделает последний шаг. Он увидится в Париже с Анастасией. Он вернет ей русскую корону. Она станет царицей России, и Армагеддон восстанет из пепла, как Феникс… как он уже не раз восставал. Если я буду жив тогда, я помогу найти ей и вас, и Авессалома, и тогда-то она уже не пощадит вас.
Коромысло, не торопясь, вынул из кобуры вальтер.
– А если я не пощажу вас сию минуту?
Ингвар качнулся к окну. По его губам скользнула морозная, надменная усмешка.
– Стреляйте!
Люк, ринувшись вперед из-за кресла, выхватил из-за пазухи тяжелый кольт.
Грозный самолетный гул рвал небо, кромсал слух, разрезал душу и жизнь надвое – до битвы и после битвы.
Роскошный раут гудел и колыхался огнями, веерами, гибко склоненными женскими шеями, обкрученными нитками отборного жемчуга в три ряда. Мелкие алмазики сияли в высоких прическах дам. Мужчины выглядели жуками-плавунцами среди цветущих озерных лилий. Никто не знал цели и назначенья раута; ходили слухи, что на нем должны появиться представители европейских Царствующих домов. Приглашенные звезды театра и синематографа блистали, дарили многозубые покровительственные улыбки, брали с подносиков у согнутых в сутулых почтительных поклонах слуг бокалы с топазовым, пенящимся шампанским, поднимали их высоко: «Ваше здоровье!.. И ваше!.. И ваше!..» Звезды желали всем здоровья, а глаза их сверкали зло, метались, выискивая в толпе, шумно колышащейся взад-вперед по белоколонному залу Депардье, одному из лучших аристократических старых залов Парижа, соперников и соперниц. Жаль, прошли времена Цезаря Борджа, и нельзя было на рауты и приемы захватывать с собой кинжалы или склянки с ядом. О, почему нельзя?.. Это ваше право. Кинжал под лацканом пиджака… пузырек с синильной кислотой, крошка цианистого кали – за корсажем… Людская злоба безгранична, а наружу выплескивается в людских улыбках, в сияньи белых зубов, радостных глаз, в пожатьях украшенных тяжелыми перстнями рук.
Мурлыкал, мяукал в углу, за беседующими оживленно парами, белый рояль, как огромный белый кит, плывущий в пахнущей тысячью терпких духов толпе. Рояль – северная льдина; такие плыли в Северном Ледовитом Океане, когда… О, когда. Это неважно. Зачем теперь об этом. О, какая на вас изумительная брошка, мадам!.. О, спасибо, мадам. Эта брошь – наследство моей покойной бабушки, герцогини де Шеврез. Глядите, сколько здесь гранатов, и алых, и черных, и ярко-зеленых, и розовых. Ах, розовые гранаты. Я видала такие… в Сибири. Мадам бывала в Сибири?.. в этой ужасной, укрытой снегами и льдами стране?!.. Там же везде шастают белые медведи… как они вас не загрызли, деточка!.. Моряки на корабле, на котором я плыла, убили медведицу. А медвежонок остался жить. Он поднял морду к звездам и завыл. О, какой кошмарный сон вы рассказываете, мадам. Это… правда?.. О, конечно, нет. Всего лишь пересказ одного нашумевшего романа. Я на ночь обожаю читать. Мой муж привозит мне в замок из своих заграничных поездок множество книг, и я глотаю их одну за другой… как мандарины. В постели. Знаете, очень люблю читать в постели… и кофе пить в постели… со сливками… из молочника… прямо из дудочки…
Как он сюда попал? Он смутно помнил. Он тогда напился в кафэ, в том кабачке с певичкой и слепым пианистом. У него в жгут закрутились мысли, а явь предстала перед ним большим котлом на солдатской кухне, куда сваливают всю дрянь, чтобы сварить отменный суп и накормить всю роту. Кто его подобрал на улице, мертвецки пьяного, под монмартрским каменным старым забором? Он не помнил. Не знал. Он отлеживался на белоснежных крахмальных простынях в чужом доме, где нежно бормотали над ним по-французски женскими соловьиными голосками. Его поили с ложечки, кормили жюльеном с грибами и лионскими кенелями. Однажды в дом пришел человек. Он присел у его постели и долго глядел на него. Ничего не сказал ему. Шептался с француженочками, молодой и пожилой – хозяйками дома. Когда он поднялся с кровати, старенькая мадам сунула ему в руку записку с адресом и числом. Записка была написана по-русски. Он не дрогнул ни единым шрамом. Спрятал записку в карман рубахи. О, месье так порезали лицо!.. Месье такой храбрый… на месье напали разбойники?.. Месье просто-напросто воевал на Зимней Войне. Слышали про такую? Француженочки прижали уши. Кормили его пирогом с абрикосами. Восхищенно взирали на него, когда он ел. Молоденькая осмелилась и погладила его один раз, на прощанье, перед сном, по шрамам, по искромсанной щеке. Он схватил ее ручку в свой кулак, поднес к губам. У месье есть девушка?.. Хотите, я буду вашей девушкой?.. У месье есть девушка в России. Она красива, как Царская дочь. О… как жаль. Miserable.
Он наизусть выучил число, день, время и адрес. Когда он спросил, где в Париже найти особняк Депардье, его хозяки только потрясенно и безмолвно всплеснули руками.
Он здесь. Он на самом блестящем приеме Парижа, а то и всего светского мира. Он, простой солдат Зимней Войны. Вон они как живут, оказывается, аристократы. Какие знакомые лица. Он видел их в синема. Вон, вон с зачесанными гладко на затылок черными волосами, с длинными египетскими глазами, густо подкрашенными сурьмою к бровям, с сочно намалеванным пухлогубым ртом, гордо ступая по навощенному до ослепленья паркету, движется, несет себя знаменитая актриса София Лоретти, итальянка. На ней длинное платье, оно бьет ее по щиколоткам жестким, как блестящая жесть, алым шелком. Красное платье! Кровавое платье. Надеть такое, когда люди умирают на Войне. Цвет крови… цвет встающего ТАМ, из-за снегов, из-за розовых Хамар-Дабанских зубцов, холодного Солнца. Как она играла многодетную мать в том жутком фильме, где голодные дети приползают к ней, и она, лежащая на печи в крестьянском доме, выпрастывает из сорочки пустую грудь и дает им, пытается, плача, всунуть сосок в голодные, кусачие детские зубы, в плачущие рты! Какая она красивая… богатая. А играла беднячку. А он бедняк. Солдат. А должен сыграть богатого. Безмолвная записка не разъяснила, зачем он должен слоняться в душных облаках дамских арабских духов на этом званом рауте в Париже. Иди себе, смотри. Запоминай. Сожмись внутри пружиной. Готовься каждый миг к нападенью. Знай, что Война еще не закончена. Помни о…
Помни всегда. Вечное ПОМНИ.
Я помню все, Господи. Я помню свою жаркую молитву о Твоей последней пуле.
Он глядел на блеск и лоск, тоскуя. Господи, какая тоска. Я вижу, как тоскливо и безысходно живут богатые. Как они натужно веселятся, как напряженно улыбаются, как театрально едят и пьют. И за каждым блестящим, расшитым перлами одеяньем – ночные засады и выпущенные из многозарядного оружья пули. И за каждым рассыпанным – по полным белым, смуглым, шоколадным плечам, гибким шеям, обнаженным, дрожащим от прохлады спинам – звездчатым алмазным ожерельем, за каждым густо-травяным изумрудным колье, за виноградной кистью хризолитового кулона – нанятые задорого убийцы, анонимные подметные письма, шантажистки под черными вуальками, обокраденные банковские счета, бессонные ночи, револьвер, трясущейся рукой подносимый к виску. И это – жизнь?! Да проживи он в родном Армагеддоне хоть весь век на дне бедняцкого медного нечищеного котла, в трущобах и дворницких каморах, он был бы счастлив, если б еще… Условье. Какое ты себе еще придумал условье. Ты молод, силен, отважен.
Уже не так молод. И силы подорваны Войной. И шрамы, шрамы – вдоль по всей душе.
Ты был бы счастлив вместе со своей любовью.
Где твоя любовь, Лех. Даль. Горы. Солдатик стоит на вышке, мерзнет. Винтовка у него на плече. Тяжелая. Ему хочется ее сбросить. Заходящее Солнце озаряет снеговые, стесанные ветрами рубила хребта Хамар-Дабан, и они становятся цвета розовой крови. Ты стоишь и куришь сигарету, и твои глаза встречаются с глазами солдатика на вышке, и он ежится от пронизывающего ветра, и ты стряхиваешь ладонью с рукава гимнастерки пепел и снег. И твоя любовь кричит тебе издали, сложив руки рупором и приставив их ко рту, побеждая криком закат, мороз, буран: «Юргенс!.. Ю-у-у-ургенс!..»
Он, оглядывая исподлобья беседующих, фланирующих, хохочущих, вальсирующих – в другом конце огромного зала, расположившись под раскидистыми заморскими пальмами, тихо и грациозно наигрывал легкую танцевальную музыку струнный оркестрик, – шел вдоль белых, толстых, как слоновьи ноги, лаково блестящих мраморных колонн, заложив руки за спину, и ему казалось, что все в зале, все важные господа и дамы, родовитые отпрыски и надменные премьеры, и слепящие выхоленной красотой звезды, и веселые, нарядно одетые, завитые и надушенные дети в наутюженных брючках и кружевных панталончиках – все смотрят на него и примечают, как не по-праздничному, мрачно, странно и смешно он одет – пиджак и штаны с чужого плеча, рубаха хоть и впору, да на воротнике пуговицы не достает, и вдобавок эти сапоги, эти военные сапоги, черные, тяжелые сапоги. Откуда они. Зачем они на нем. Кто их на него напялил. А, да это надел он сам, собираясь на блестящий бал – мадмуазель, смутясь и порозовев, поставила рядом с его кроватью старые, намазанные свиным жиром тупоносые башмаки: о, вам будут впору!.. ваши совсем истрепались!.. – а он засмеялся и напялил сапоги, что заприметил за этажеркой: вот эти на балу будут хороши, в самый раз. Мадмуазель хохотала и прижимала к щекам ладошки, он хохотал вместе с ней. Теперь, в сыплющем на него отовсюду алмазные россыпи света и роскоши, сияющем великолепном зале, он застеснялся. Все в нем, внутри, угрюмо потупилось и потемнело. И от его темноты, тайной и страшной, что пряталась глубоко, меж ребер, еще ярче казался тысячеокий свет люстр, еще громче звенел вокруг женский обвораживающий смех.
Он стрелял глазами туда, сюда. Нет, нет, он ошибся, никто на него особо не глядит. Никому он не нужен. И черных здесь тоже нет. И… Ему почудилось: за колонной – Люк. Ему помстилось, что в толпе мужчин в черных смокингах, оживленно, жестикулируя, обсуждающих мировую проблему – о, подойди поближе, и ты услышишь, как рьяно они судачат о прелестях Аннет Жерар или Джиневры Валентини, – мелькнул острый, костистый, с усиками, профиль Яна. Успокойся, Лех. Их здесь нет. Если б здесь они были, ты не расхаживал бы по залу так спокойно. Как прекрасно знать иностранные языки. Гляди-ка, он не только уже все понимает в Париже до словечка, он может трещать по-французски, как истый парижанин – со всеми парижскими motes, торчащими в болтовне, как чернослив в круассане.
– О, pardonnez-moi!.. господин… прошу прощенья… я наступил вам на ногу… у господина вполне респектабельная обувь для раута!.. я не хотел повредить ваши сапоги…
Он отшатнулся. Перед ним раскланивался маленький серый человечек.
Вот оно. Вот.
Тихо, Лех. Тихо. Погляди на него внимательней. Ты видишь, он же не узнал тебя.
Да тебя и немудрено не узнать. Верней, узнать мудрено.
Шрамы сводит судорогой. Шрамы прорастают в мышцы контрактурами, идут по коже медленными морскими волнами, меняют лицо. Твои шрамы, Лех, – твое зеркало. И глядишься в него только ты.
– О, господин может не волноваться. Мне совсем не больно. Это маскарад. Простите за сапоги. Я хотел повеселить и удивить шуткой мою даму. Вон она, за колонной. Ее зовут графиня де Монсоро.
– Простите еще раз великодушно за мою неуклюжесть. Приятно повеселиться!.. О, вы, французы, такие шутники, просто ужас… Я-то сам русский, я недавно здесь… у меня с языком еще неважно, mille pardon… Я бы познакомился с вашей дамой, avec plaisire… но я ищу одного человека… он здесь… простите… простите!..
Еще поклон. Еще улыбка. Его французский не так уж плох, пусть не прибедняется. Его карман нагло, тут, на светском приеме, оттопырен наганом. Идиот. Только русские могут себя так ставить перед людьми: вот тебе сразу шах и мат, и выстрел из-за колонны. Укатился по гладкому паркету. Скрылся из виду. Пронесло.
Он может выкатиться на тебя из-за любой колонны, Лех, из-за рояля, из-за портьеры. Берегись. На тебе же нет ни маски, ни шляпы, ни черных очков, и ты не баба, чтоб закрыться веером. О, сколько дам с веерами!.. Они обмахиваются ими, чарующе улыбаются из-за растопыренных перьев. Они складывают, раскладывают их. Павлиньи, страусиные перья щедро сбрызнуты цветочными благовоньями и туалетной водой от Коко Шанель.
Лех повернул голову. Локти, плечи, затылки, рукава смокингов, нагие синевато-розовые, холодно дрожащие узкие спины раздвинулись, блеск ожерелий на голых влажных шеях померк. Люстра померкла, свет ее пригасился, помутнел. Завеса печали и боли легла на живые веселые лица, набросилась черным крепом на широкие, в пол-лица, улыбки, на высоко поднимающиеся, в задыханьи волненья, танца, флирта нежные женские груди, поднимающиеся из кружев корсажей, из низких вырезов черных стильных платьев. В пустом проеме высокого пространства, в узком средоточье света, открытом для зрячего глаза, Лех увидел ее.
Она была красива. Она была красива так явно, что рядом с ней растворялись и исчезали все женщины, и так незаметно, что мужчины, беседуя с другими дамами, не обращали на нее особого вниманья. Одна она шла или с кем-то? Стояла она, болтая со знатной швалью, или танцевала с кавалером? Или она застыла посреди зала, как застывает струящаяся с крыши под натиском Солнца вода на внезапном морозе?.. Он не знал. Он видел ее, и он шел через весь зал к ней.
Русые, золотистые, очень нежные и тонкие, будто летящие волосы ее были убраны на затылке в старинную прическу – в маленький пучок, а вокруг пучка поднимался валик вздыбленных волос, наподобье золотой короны. Она, не видя его, идущего к ней, отвернулась от него, повернулась к нему боком, и он едва не закричал, и, чтобы не закричать, прижал руку ко рту, вдавил пальцы в зубы.
В ее роскошно уложенных, пушистых золотых волосах горел, испуская острые стрельчатые лучи, огромный, кругло обточенный синий камень, сапфир-кабошон. И она подняла к нему тонкую руку, – нет, не к нему, конечно, а чтоб поправить волосы. Пальцы тронули выбившуюся из прически прядь и тайком, быстро и ласково, ощупали камень, будто это было живое существо, маленький зверек. Между пальцами зияла дыра. Не хватало безымянного.
Иди к ней быстрей, Лех. Она может исчезнуть. В любой миг в нее, как и в тебя, могут выстрелить из-за колонны. Мир населен врагами. Мир нацелен на тебя, как одно большое черное дуло. Черная дыра нацелена на синий яркий Глаз. А он все глядит на тебя с любовью, все смотрит тебе прямо в сердце.
И, пока он пробирался к ней сквозь плечи и лопатки, сквозь бархаты и шелка, и беглые смешки, и возмущенные возгласы, и незначащую бальную болтовню, он успел рассмотреть ее всю – ее пышущие нежным розовым румянцем щеки, ее длинные тонкие пальчики, сужающиеся к концам фаланг, как на старинных портретах; из-под белой широкой юбки до колен у нее выглядывала исподняя, кружевная нижняя юбочка, и снежная, метельная пена кружев била по коленям, обвевала их кружащейся поземкой. Серые, в зелень и ледяную голубизну, прозрачные глаза звездно светились, дышали северной ширью и всей испытанной ею на веку болью. И еще – прощеньем. Эта девочка, с лапками морщин под бездоньем глаз, с серебряными нитями в золоте пышных волос, любила и прощала всех, кто ее замучил.
Он шел к ней, шел, он знал, что вот сейчас дойдет, что сейчас оборвется под ногами паркет и закончится длиться тягостный зал, – но она все недосягаемо сияла вдали, все, летя, удалялась от него, и он преодолевал пространство, время, людей, себя, чтобы к ней дойти, чтобы она наконец повернула голову, увидела его, узнала.
Лех, ты дурак. Как она может тебя узнать. Откуда она могла знать тебя. Кто ты для нее.
Когда он оказался рядом с ней, он задохнулся. Он не знал, что сказать.
Она глядела в сторону, не на него – к ней кинулся господин в галстуке с алмазной булавкой, восклицая и восхищаясь, и она хотела ответить ему, и пойти с ним, и уйти от него, – но он был уже рядом, и он тронул ее за руку, и она обернулась, и увидела его.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































