Текст книги "Зимняя Война"
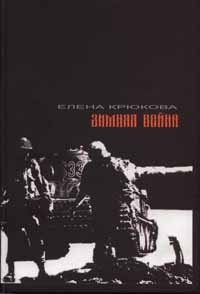
Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц)
– Выпьем за твое боевое крещенье, славный солдат Зимней Войны! – напыщенно сказал генерал, наконец прокашлявшись, и высоко, театрально поднял рюмку с ярко-красным вином. Каберне, – подумал Юргенс равнодушно, или «медвежья кровь». Пусть хоть человечья. Он выпьет. Он впервые в Ставке. Он, простой солдат. Гордость расперла его изнутри, как опухоль на месте плохо зарастающего раненья. – Выпьем, господа! Пока с нами такие солдаты, Россия…
Он не дослушал – опрокинул бокал в глотку. Когда начинались разговоры о России, о ее высоких судьбах и великих миссиях, он как будто глох. Он стоял, как глухарь, ничего не слышал о великой России, о себе самом, какой он хороший и пригожий, и какие подвиги он еще совершит, и куда его отправляют на самолете сегодня ночью прямо из Ставки, и пил вино, пил залпом, и просил еще налить, и снова пил, и не пьянел. Это ему всегда удавалось с большим трудом – опьянеть. Пьянел он только с Кармелой, когда всей тяжестью набухшего желаньем тела входил в нее, сосредоточиваясь всеми силами молодой жизни на живом таранящем женщину острие. Табак, женщины, вино. И еще деньги. Он забыл о деньгах на Войне. Он забыл, как они выглядят, как они шуршат и пахнут. Неправда, что они не пахнут. У них есть запах. Они пахнут чуть-чуть бабьими духами и кровью. Подсохшей, солоноватой кровью, застывшей сукровицей. Они, конечно, дадут ему деньги, если он полетит в Европу отсюда, из Азии. Или в Америку. Много денег. У него будут карманы, оттопыренные от пачек денег. Он не будет знать, куда их девать. У генералов всегда много денег. Ведь это они ведут эту проклятую Войну. Мы гибнем, а они жиреют. Обрастают деньгами. Нет, врешь, они тоже гибнут. Как ты так о генералах можешь. И в Ставку попадает снаряд… бомба. Этот генерал весь исчеркан шрамами, не хуже него самого. Не обижай его. Он ведет твою Войну. К черту! Она не моя. Она всехная. А всем она сдалась. Все в гробу ее видали.
Скорей Она увидит тебя в гробу, чем ты Ее.
Лакеи унесли пустые бутыли. Свет в ярко горящих люстрах был припогашен. Люди во френчах откинулись на спинки кресел, лениво ковыряли зубочистками в зубах, перебрасывались мурлыкающими ручьями позабытых мирных словечек. Ах-ах, какая благодать. Он – стрекоза. Он вылетает из Войны вон. Его выпускают. Им выстреливают по мирному миру, как живой катапультой.
Когда со стола уносили горы посуды и сдергивали скатерть, генерал подошел к нему, стоящему, вытянутому во фрунт.
– Эх, парень, – тихо сказал генерал. – Что ж ты все пил да пил. Захмелеть, что ль, хотел. А пирога с рыбой так и не попробовал.
Генерал взял с забытого посреди стола блюда отрезанный одинокий кусок и в слегка подрагивающих руках протянул Юргенсу.
– Ешь, – сказал он тихо, внятно и властно. – Отныне тебя зовут Лех. Это твое имя для мира. Для того мира, где ты будешь скоро. Ты привыкнешь. Многие люди имеют по два имени. Не пугайся. Это не страшнее, чем поднимать взвод в атаку.
– Лех, – повторил он и закусил жадно кусок пирога, приняв его из генеральских дрожащих рук, как священную еду.
Он ел пирог, плакал – наконец-то – пьяными легкими радостными слезами, улыбался и повторял про себя: Лех, Лех. Вот его и крестили. Он теперь, как монголы говорят, дважды рожденный. Значит, ему и умереть дважды.
Он вылетел в Иной Мир на самолете уже на рассвете. Звезды серебряными россыпями, грудами золотого песка, озерными желтыми крупными кувшинками стояли над Ставкой, над розово сверкающими в звездном и лунном свете гольцами Хамар-Дабана. Он влез в брюхо самолета, согнувшись в низко прорезанной дыре двери в три погибели. Там было черно и страшно. Так входят в смерть, подумал он весело, и едва не рассмеялся. Дважды мертвый. Дважды рожденный. У него еще будут здесь сраженья. Он еще вернется.
Раздался рык моторов. Он, привязавшись к креслу ремнями, закрыл глаза и вспомнил Кармелу. Военная жена. Что может быть хуже. Ее изнасилуют без него. А потом ей это все понравится. Жизнь. Это жизнь, Юргенс. Это лучше, чем смерть. Юргенс?! Брось врать себе. Ты Лех. Ты просто Лех. Просто дикий Лех, дикий волк, Лех с Хамар-Дабана, и все тут.
Самолет набирал высоту, он мучительно хотел спать в неудобном кривом кресле, он забыл развязать ремни, он повторял все время, как заклинанье, как древнюю песню: Лех, Лех, Лех, – будто молил кого-то именем, как монгольской молитвой, мантрой, умолял, призывал.
Они появлялись в горах Войны редко, перед большими сраженьями – призраки, воины, всадники в черных башлыках, в мышино-серых шинелях. Они ехали верхом, мерным и медленным шагом, качаясь в седлах, молча, серые, черные, белые, почти прозрачные, бесплотные. И все же из плоти и крови были они.
Они ехали рядом – офицер и офицер, офицер и денщик, и генералы впереди, и длинная молчаливая вереница солдат. Солдаты Зимней Войны верили, что виденье предвещает страшный исход боя. Страшный для кого? Каждый думал про себя. И в любви, и на Войне каждый думает лишь про себя. Серые шеренги безмолвных всадников ехали мерным шагом в горах, по узким тропам, и кони ступали неслышно, и копыта не звенели о камни. Снег дул им в лица, бил по щекам. Заносил башлыки, серое, болотное сукно шинелей, набивался в папахи, в бурки. Ложился серебряной крупой на погоны. А у многих и погон-то не было: сорвали. Зачем? Чтобы враг не узнал об Армии.
Армия умерла. Да здравствует Армия.
Мохнатые шапки плотно сидели на головах всадников, наползали им на глаза. И мрак глаз было под шапками не видать. Шинели офицеров, сидящих, как влитые, на конях, были подпоясаны широкими кожаными поясами, именными ремнями. Лица, будто высеченные из камня, сурово глядели в ночь. Призрачное войско чаще всего появлялось в горах ночью.
Ночь, и бесконечное людское серое вервие, и молчащие морды коней, и каменные лица, и мрак неразличимых глаз, и россыпь звезд вверху, над головами. И мороз, Адский мороз поджигает уши, рвет носы, подирает когтями щеки и скулы, дубит и деревенит ноги, – если ты упадешь с лошади в сугроб, ты застынешь навек очень быстро, полчаса, и ты готов. Будешь молиться морозу неподвижными белыми губами. Эти всадники мертвой Армии все едут и едут, и нет им конца. Солдаты и офицеры Войны, кому доводилось видеть всадников в горах, втыкали кулаки в рот, чтобы не закричать: они все ехали и ехали, все слетал и слетал снег на дрожащие крупы коней, на островерхие, как гольцы, башлыки. И, светясь, горя оранжевым, бешеным угольным огнем поддувала, по ветке железной дороги, невесть когда и кем проложенной в горах, – по ней и не ездили уж давно поезда, рельсы были разобраны там и сям, – на страшной, немыслимой скорости мимо мертвой конной Армии несся бычий, толстолобый бронепоезд и выл, как волк, как снежный барс в горах над телом убитой подруги. Как воют псы, когда заключенных ли, пленных ведут ко рву, на расстрел.
Поезд мчался мимо всадников, бешено, неудержно воя, обдавая их смрадом, сажей и черным дымом, и всадники вскидывали мертвые головы, и улыбались надменно, и нельзя было прочитать во мраке глаз, что они думают о нынешней Войне – они, погибшие на Ней же, вечной, век назад. Люди наивно думают, что война – это так; раз, два, немного лет мученья, перебьют много народу, зарубят и взорвут мальчишек, соберут в котелки, наподобье супа, материнские и вдовьи слезы, – и выдох облегченья, и баста, и снова мир. Нет. Война идет все время. Она идет сокрыто от глаз; она идет зимой, она идет в горах. Чтобы всегда холода, и чтобы меж скал и ущелий никто не увидел, как погана и гадка смерть, как она проста, чудовищна и обыденна – как глоток водки, как зачерствелая горбушка в судорожно сжатой мертвой руке.
Этот самолет летел высоко. Очень высоко.
Юргенс стоял, задрав голову, глядел в зенит. Ого, парень, высоко же ты забрался. Ты обогнал звук. Свет ты не обгонишь. Свет человеку никогда не обогнать. В казарме им давали уроки; учили, что, если человек, по каким-то там причинам, задвигается так же быстро, как свет в небе, он станет тяжелым, недвижным, чугунным, он превратится в чугунную смерть. Так стремительность внезапно переходит в косность. Счастье – в ужас. Как высоко он летит!
В темно-розовом чистом небе, ясном и холодном, зажглась первая лучистая звезда. Летчик летел в истребителе на звезду; нос его машины был направлен на малый пучок иглистого света в бездонье вечернего неба. Как далеко… то исчезает, то появится опять. Летает кругами над зимней землей, изрытой, избитой взрывами. Горы, как секиры, гильотины, острые сколы. И самолет высоко – быстрая черная птица. Летает, заслоняет крыльями то Солнце, то Луну – вот, вон она, раскосая бурятская, монгольская Луна, толстощекая, желтая, срез апельсина ли, лимона. Заныла шея, он потер загривок. А может, летчик – призрак? Летучий Голландец Зимней Войны. Зачем он кружит над землей в такой высоте, что, если выпустит руль и станет падать – будет падать так долго, что закутается во всю свою целую жизнь, как в овчинную шубу. О как ему холодно там, в выси!
Не бойся, Юргенс, на нем теплые краги, теплый шлем, теплые высокие военные сапоги с заклепками и плотной шнуровкой. Он не замерзнет. Он Ангел Зимней Войны. Он летит прямо на звезду, видишь. Он никогда не долетит. Он черная птица, широкие крылья. Он уходит, ввнчиваясь штопором в зенит, все выше и выше. Туда, где истончается до предела пожарищный, пропахший кровью земной тяжелый воздух. Ангелы швыряют друг другу апельсины, лимоны. Ловят огненные шары, смеются. Кусают цедру, и сок, и спирт брызжет им на румяные щеки, в рот, на подбородок. Не съешь нашу Луну, летчик, зимний Ангел. Она нам еще пригодится. Хотя людям и их земля что-то не очень-то пригождается уже. Надоела, может? Из земли вышли, в землю уйдем. Веселого мало. А уйти в небо – о, это совсем другое. Это Ангельское, высокое счастье. Не каждому достается такой сладкий пряник. Не каждый кладет руки на посмертный веселый штурвал.
Он помнит свое первое сраженье на Войне.
Боже, как страшно ему было.
Дым поднимался за оббитыми снарядами скалами. Оплавленный остов взорванного моста через белопенную, весело бормочущую невнятицу горную речонку поднимал к пустому серому небу обрубленные пальцы железных каркасов. После оглушительного грохота наступила тишина – он упал в нее, как в пропасть. Огонь горел везде, куда ни глянь: на обугленных плато, на срезанных взрывом быках моста, на лесистых склонах ближней высокой горы с трехзубой снежной вершиной. Кострища, одно, другое, третье. Он ощупал себя. Ранен. Под рукой теплое, текучее, лизнул языком – соленое. Пуля попала в плечо. Где его командиры? В ушах еще стоял, сквозь гул и грохот, непрерывный вопль бессмысленных команд: огонь!.. батарея!.. товсь!.. пли!.. Огонь. Вот он, огонь. И у него в плече пуля. Смоляные клубы вонючего дыма забивали ноздри. Воронки черными подземными глазницами слепо глядели на него. А он не знал ничего. У него память отшибло от страха, от грохота, от взрывов. Он не знал, что взрывной волной его бросило на землю, и он больно ударился лицом, головой, и так долго лежал, и лицо его заливала кровь, и земля набилась ему в рот; не помнил, как потом очнулся, как поднялся на ноги, упал опять, затравленно озираясь в дыму, закаменевшей ладонью размазывая по лицу едкий пот и кровяные сгустки, выплевывая землю изо рта. Он не знал, что остался один. Что долго лежал на земле, сутки, а может, и больше, и его сочли мертвым, пропавшим без вести, и его рота по приказу отошла с утраченных позиций.
Он один остался. Выжил. Вспомнил, что его зовут Юргенс. Мать называла его так. Простая русская семья; зачем в материнских губах играло лимонной долькой иноземное имя? Какая кровь, какие крови текли в ней?.. Какая кровь течет в каждом из нас?.. Мы ничего не знаем. Он не знал ничего. Когда после призыва их согнали в кучу в пахнущем известью и аммиаком актовом зале старой казармы, его еще выкликали по фамилии, и потом тоже, когда за грязные сапоги или за оставленную второпях в умывалке зубную пасту ему давали увесистого пинка в зад, и когда он бежал по жестокой жаре в чугунных непреподъемных сапогах, голый до пояса, бесконечно, мучительно бежал под приказные вопли все вперед и вперед – и вдруг падал без сил, и еще потом, когда по тревоге их всех, дюжих молодцов, построили в жестко-аккуратные шеренги – без паники, четко и весело, час пробил, время настало, кто, если не мы, будет сражаться на почетной Зимней Войне, проглотит, не поморщившись, кашу из цианистого калия и водку из сулемы, – и спровадили сюда, в логово Войны-волчицы, а шерсть ее торчала на загривке торчком, и каждый волчий волосок излучал серую смерть, – но фамилию он уже не помнил. Крепко он ударился головой. Воздух из легких весь вышел. Он вдохнул мороз, и черноту под пустыми ребрами затопила ледяная волна страха.
В горах свистел ветер, вздымал смерчи пепла, снега и пыли. Сегодня превратилось во вчера. Серая кровь подступила к горлу. Сейчас он ее выхаркнет, утрется и засмеется. Первый бой! Да ведь он совсем не страшен. Вот, он же жив. Почему же так черно и пусто под ребрами?! Он остался один, и он будет драться за жизнь опять, но не за чужую, а лишь за свою.
Он вдруг понял, что драться надо за свою жизнь. Его жизнь – это жизнь гор, и звезд, и белых пограничных фонарей, и голодных воющих волков, и воюющих солдат, и Солнца, и Луны. Пока он жив – живо все это. А, пуля… здесь, в плече! Как горячо плечу. Надо идти. Надо искать часть. Мужиков из взвода… убило, что ли?!.. Он оглядывался. Искал тела. Эхо выстрелов отгромыхивало далеко в гольцах.
Один. Никого, кроме него. Глянь, Юргенс, в зеркало автоматного барабана! – улыбнись – знакомый частокол зубов, борода, зарос, давно небрит, на месте глазного зуба – черная дыра, невидимая награда давней, детской драки. Выдерни из чехла селедку ножа, прищурься. Твои, твои собственные глаза – в черно-серебряном тумане лезвия. Он поглядел на свою ладонь. Бред. Ему почудилось, что ладонные линии складываются в отраженье его лица. Ладонь – зеркало?! Ты сошел с ума, Юргенс. Погляди вокруг. Переведи дух. Вон Солнце в сером дыму, вон кровавая рыжая Луна за развалинами моста. Луна похожа на красный высохший череп коня. Монгольской послушной лошадки. Здесь, на Востоке, и женщины и лошади так послушны, ласковы. А собаки?! А собаки здесь дикие, как волки. Иначе им не выжить, собакам. И мы ведь тоже псы, Господи. Мы псы Войны. Мы рвемся и лаем. Мы кусаем врага до крови, перегрызаем ему горло. И пьем его кровь, иначе мы сдохнем с голоду.
Будь неладна эта Война. И все же это его первый бой. И ему надо найти своих. Свои, наши. Все перепуталось. За что боремся мы? За что дерутся они? Раньше на войнах твердо знали, за что мужики дерутся. Теперь…
Вперед, мужик. Руки твои целы, ноги целы. Ты в силах идти. Ты немного подранен, это да. Да это гиль, царапина. Пошел, пошел! Ать-два, левой! Ать-два, правой!.. – идут. Ноги идут. И только Господь, ну, перекрестись, Юргенс, рука не отсохнет, ведь на тебе же крестик нательный, он там, под гимнастеркой, – если Его не распнут снова – черными гвоздями снарядов на белом кресте снежных высокогорных плато, насквозь продуваемых дикими ветрами, – может остановить этот злой четкий шаг.
Камни прыгают под ноги – прочь их, отшвырнуть. Ты можешь идти, и иди. Не хнычь!
Никого кругом. Их всех убили. Он один. Это конец.
Что дальше конца, Юргенс? (Ноги идут. Ноги идут). Человечек, да как же ты устроен дешево – занавес падает, а Петрушка просовывает кукольную головенку в дырку, пляшет над ширмой на бечевках и пищит: а дальше что?.. а дальше что, дяденька, что!.. – а суровый тощий кукольник задирает ему пестрое платье, обматывает веревками и мешковиной и с размаху бросает в походный сундук: все, конец! А жалобный писк и со дна сундука доносится. Он жив. Что это меняет? (Ноги идут. Ноги идут, печатают шаг). Его губы шевелятся. Они бредят сами по себе. В голове стоит гул боя. Крики раненых. Он видел и слышал, как умирали люди. Уж лучше бы он умер сам.
Перестань болтать сам с собой. Прокуси себе губу. Красный сок потечет по подбородку за ворот маскировочного балахона. Балахон весь в блестящих молниях, замках и заклепках. Армия не жалеет денег на амуницию – слава непобедимой Армии!.. Где она теперь, Армия?.. Спит. Она на дне пропасти. Она разбилась, расшиблась. Юргенс – один из ее снов. Он Армии снится, и она ему снится. И Война ему снится тоже. Все есть его сон. Тряхни головой, пробудись, ковыляющий по горам потрепанный человечий воробей. Железо, камень, ветер, пыль. И тишина. Странная тишина, когда не стреляют.
Ноги идут. Ноги идут. Идут размеренно и неколебимо. Так кажется ему. Может, на самом деле он спотыкается, бредет, ползет бессильно, падает, кряхтит, упрямо карабкается вперед. Все вперед и вперед. Его так учили. Его учили бить врага в зубы и в висок; говорить с врагом на его языке. Ему вбивали в голову: враг! Враг! Война – с ним! До конца! До победы! А победы все нет и нет. И люди уже разучились отличать врага; люди уже лупят по своим, люди подносят револьвер ко лбу и стреляют в себя. Он в себя не выстрелит. Не дождетесь. А Луна-то не одна в небе, а две Луны – красная и синяя. Синяя – круглый обритый череп убитой в бою женщины. Царицы Ай-Каган. Она с белыми, серебряными, набеленными щеками, синяя, молочная, круглорожая, серебряная, степное блюдо, казан, таган. Она Царица здешних гор и зимних степей, и она родила своего сына, царевича Мир-Сусне-Хума, для Войны. Он, Юргенс, видел царевича на Зимней Войне. Сегодня в бою видел. Царевич пролетел над ним на черно-синем коне с серебряной гривой, его доспехи были усыпаны холодными звездами, как каплями слез. Луна красная – это череп его коня. Луна синяя…
Зачем ему две Луны! Одну надо пристрелить!
Он не выбрал, какую – переспелый гранат или сизую сливу. Он вскинул автомат. Он целился. Он хохотал. Ноги идут. Ноги идут неотвратимо. Он кричит во все горло – оно пересохло, оно забито горькой пылью: ты, Царица! Я убью тебя снова! Я буду есть и пить из твоего голого синего черепа!
Выстрел раскатился в горах.
…………………Господи, я убийца. Я убийца, Господи. Я убил человека. Я убил сегодня людей в бою. Все давно мертвы вокруг. Холод. Мороз. Я не хочу убивать. И я хочу. Что со мной. Как входит штык в дергающееся тело. Как ловят ноздри последний воздух. Как глядят выжженные глаза. Как выдергиваются серьги из женских мочек. Как в предсердии оружья бьется слепящая кровь убийственного огня. Я убийца. И я обречен. Никто теперь не убьет меня. Никто не пригвоздит меня к земле прицельными, сухими выстрелами. Я остался один, Господи. Пошли мне, Господи, пулю в новом бою! А боя все нет, нет и не будет. Зимняя Война – кончилась?! Пошли мне смерть, Господи. Много огня в моем оружии. Я – создатель чужих смертей. Я буду мстить людям их смертями – за отсрочку своей. Но кого теперь убивать мне, Господи, когда я – один?! Я – убийца, и я один в этом мире. Вот она, пытка Твоя!
………………грешник я был, что ли, великий, уж я и не знаю теперь, хотя, Господи, я Тебе насолил лишь одним тем, что я в Тебя не верил, все солдаты стояли босиком на ледяном полу в казарме и молились, а я не молился, я лежал, скрючившись, под верблюжьим одеялом и, при свете карманного фонаря, закрывая зевок измозоленной прикладом ладонью, рассматривал лубочные, аляповатые календари с обнаженными девицами, и по всему жилистому, высохшему, как у сушеной рыбы, телу моему перекатывались бугры слепого звериного желанья, – а солдаты, мои соказарменники, стояли босые на сквозняках и возносили Тебе упорные благостные молитвы: «Сохрани нам жизнь!.. Не убей в бою!..» – Господи, Ты видел все нечестивство мое, и Ты воздал мне сполна! – я не помышлял о Твоем воздаянии сегодня, когда расстреливал в упор засевших в Твоем разрушенном храме вражеских лазутчиков, и дырявились под напором моего огня стены Твоего дома, а я скалил зубы, сумасшедший и наглый от постигшего меня ужаса убивать, пьяный от удачи в первом бою, – Господи, милый Господи, да в Твоем ли расстрелянном храме тут дело, меня учили убивать, меня послали сюда, на Зимнюю Войну, – а снег идет, валит и валит, метель обвивает нам шеи и лопатки, мороз тычет кулаком в нос, приставляет железные брусья к голой щеке, к голой, без рукавицы, ладони, – а каждая человечья жизнь разве не есть Твой самый святой храм, Господи, и расстрелять ее – все равно что расстрелять Солнце, чтоб оно более не светило никому, и Ты с высоты своей сам все прекрасно видел, как………
Он видел огонь. Огонь обнимал людей и горы, зданья и ангары. Огонь воздевал к небу красные руки. Что болтали буряты про статую золотого Будды?.. Зачем они паломничают к ней, поклоняются ей?.. Золото в огне не горит. А плавится ли?.. а если окалина…
Он впервые видел на Войне огонь, так много огня, и сердце его сперва замирало, потом ожесточилось, потом обгорело. Он уже не боялся огня. Огонь на снегу красный, как кровь. Господи, лучше пулю в лоб, чем сгореть живьем.
Что это маячит впереди? Это рельсы блестят. Здесь, в горах, где разреженный воздух режет горло, как битое стекло, – железная дорога? Для высокогорья она – бесполезная, чудовищная игрушка. Кто ее забросил сюда?
Рельсы двумя ножами были брошены между гранитных уступов, под остро стесанными рубилами гольцов.
Взлетала белыми воробьиными перьями, леденистыми вихрями сухая снежная крупка. Ветер бился о плоские щеки отвесных скал, хрипло клокотал в базальтовом горле ущелья. Юргенс, как ребенка, притиснул к груди автомат. Он ступил на шпалы, чтобы перейти рельсы, как реку – и тут же отскочил, как ошпаренный: навстречу ему по блестевшим под звездами в горной ночи рельсам на всех парах неслась дрезина. Сперва он сощурился, хотел стрелять – ему показалось, в дрезине кто-то сидит. Он сразу понял свою ошибку. Дрезина была пуста. Она летела по рельсам в железной тишине могучих мускулистых гор – преисподняя повозка, не запущенная никем, не ведомая. Она летела из никуда в ничто, и он не сплоховал, смекнул, напружинился, оттолкнулся пятками, изловчился – впрыгнул в нее.
Дрезина неслась, безумная телега, пропарывая синий хрусткий воздух морозной ночи. Над горными пиками белели звездные шрамы и ссадины. Мороз всаживал иглы в щеки, скулы; уши мерзли под утепленной каской, оклеенной изнутри бараньим мехом. Плохая была у них, солдат, экипировка. Владыки поскупились выдать Армии того, сего тепленького обмундированья на время долгих зимних сражений. Люди недавно наивно думали: если они изобрели смертоносное оружье, способное убивать сразу тысячи, тьмы тем народу, – значит, обычной войны уже не будет вестись, не будет ружей, автоматов, гранат, пулеметов, зениток. Ничего подобного. Все сохранилось. Все осталось как есть. Люди боялись умертвить сразу всю землю скопом и себя самое. Они поняли, что нужна длинная борьба, долгий измор. Оказалась нужна обычная война. Просто война. Зимняя Война. Дрезина, как ты быстро несешься. Какие гладкие, серебряные рельсы. Юргенс стоял не шелохнувшись, как собака в стойке на опасной охоте, вцепившись в поручень рукой в толстой меховой рукавице, голице – если б он впился в железо голой рукой, он бы отодрал ее от поручня вместе с кожей. Вокруг катящегося по рельсам солдата пламенела, мерцала, сухо осыпалась звездными листьями морозная ночь. Над головой зияла кромешная пасть пустоты. Он в беззвучной стальной колымаге несся в пустоту, криво усмехаясь углом рта и зная доподлинно, что рельсы сейчас оборвутся, – ну и пусть, и здравствуй, пустота. Он стоял в дрезине, как завороженный, и напряженно ждал, когда же он полетит в пропасть, и исступленно желал этого мига, и панически боялся его. Но бесконечны были гладкие тела двух блестевших под синей раскосой Луной – красная куда-то исчезла, закатилась за гольцы – железных змей, и звезды над ним мигали, подмигивали ему отчаянно и весело, как заговорщики.
А с окрестных гор глядели, усмехаясь зло и щербато, голые черепа разбомбленных обсерваторий, искрились снежные голубые костяшки намертво сжатых каменных кулаков, – мир умирал один, без людей, и один человек, по имени Юргенс, один умирал в одиноком мире. Они были братья. Они были квиты. Юргенс подумал о том, что вот он ляжет на камни, полежит немного, застынет, задрожит, замерзнет, и небо укроет его роскошной звездной плащаницей. А дрезина все неслась, все мягко подпрыгивала на рессорах, все вонзалась железными крючьями боковых треугольных фар, похожих на раскрытые клювы древних птиц, в угольный пласт ночной шахты.
Что же так побаливает живое сердчишко, Юргенс? Не стал ли ты колдуном на мировых похоронах? Последним горным черным шаманом? Где люди? Где твоя Армия?! Вот так первый бой. Вот так первую шутку сыграла с тобой Зимняя Война. И последнюю. Ты пришивал людей к земле огненными силками. Ты… что это?! Что это там, слева по ходу железной таратайки?! Дом. Окна горят. И музыка – еле слышна. Уж не спятил ли ты, Юргенс?! Дом в горах! И свет в окнах! И…
Там живут люди. ТАМ ЖИВУТ ЛЮДИ!
Дрезина мчит оголтело. Скорей! Времени на раздумье никакого. И так же внезапно, как он впрыгнул в стремительно несущуюся под звездами дрезину, он резко, рискуя сломать шею, втянув голову в плечи, прижав руки к животу и плотно, как младенец в утробе матери, подобрав колени к подбородку, вывалился из повозки – и покатился, сцепив зубы, застонав, по крутосклону, обдирая об острые камни ладони, локти и щеки, разрывая балахон о кусты горных цепких колючек.
Снова красная Луна глянула из-за каменных зубцов. Синяя, нахальная ее сестра, Ай-Каган, смеялась, мертвенная морда ее расплывалась в широкой змеиной ухмылке, дырявые глаза мерцали светляками, вспыхивали и гасли. Краснорожая раззявила на полнеба красный орущий рот. Между Лун тек и струился звездный снегопад. Юргенс подмигнул обеим Лунам и свистнул.
Он сдернул рукавицы. Цепко сжимая мгновенно коченеющими на морозе пальцами ствол оружья, Юргенс подобрался поближе к горящим окнам дома. О, дом ходил ходуном! Ему почудилось, что ободранные, потемневшие под натиском горных метелей доски источают жар, пыль и пот. Он прижался щекой к ставню, по-гусиному вытянул шею и заглянул в дыру окна. Там танцевали!
Господи, одинокий дом в горах. И там пляшут. Уж не бредит ли он. Куда завезла его сумасшедшая дрезина. Юргенс всунул голову поглубже в окно. Пары неслись по бесконечному кругу, визжа и вереща, тяжело притопывая, жарко сплетаясь, кольца дрожащих от любовного голода рук свивались на спинах и шеях, мужики зарывались губами и носами в перепутанную темь женских расплетенных кос, наступали пудовыми башмаками на цветные вихри подолов, трогали грубыми руками обнаженные, в прорезях юбок, женские белые ноги, и женщины зазывно, истомно прикасались острыми пирамидками грудей, шепча бессвязные жаркие речи, к холодным бляхам и колючим нашивкам мужских военных комбинезонов и охотничьих, пропахших порохом и мокрой собачьей шерстью курток. А это кто?! Он сглотнул. Кто – эта, вот эта, за стойкой бара, заслоненная пустыми бутылками из-под мартини и кальвадоса с отбитыми горлышками?! Ее отраженье то исчезает, то появляется в грязных, засиженных мухами зеркалах. Амальгама обшарпана – из зеркал льется свет синей Луны. А красная Луна где?! А где же белая Луна, еще довоенная, одинокая, – где ее тихий свет?! За дымно несущимися вдаль, в ночь и смерть, зимними тучами?!
«Красотка!.. Эй! Две бутылки „Консорто“ и хороший, крепкий стакан, не щербатый».
«Душка, дай поцелую шейку, носик, – губки жалко, жадина?!.. Два одеяла в номер мне, – в ваших чертовых горах такой колотун!..»
«Что ты, стерва, кобенишься. Что выкаблучиваешься. Видали мы таких цац. Быстро!»
«Два хереса, ром и „Мальдивский водопад“. Пойдешь за меня, если позову?..»
«О, я-то думал, ты дура, а ты знаешь приемы!.. Где ты училась джиу-джитсу?.. Обучи и меня!.. За отдельную плату!..»
«Три рюмки коньяка, ласточка!.. Лимончик положи!..»
Он глядел на девушку за стойкой бара не отрываясь. Впалые, измученные убийством, страхом, одиночеством глаза его горели на бледном, грязном лице. Перевязанное наспех портянкой плечо болело. Он не сводил с девушки глаз. Мирный дом на Зимней Войне гляделся редкостью, как павлинье перо. А девушка за стойкой сверкала ярче всех на свете павлиньих перьев. Молодец дрезина. Правильно его привезла. Какая судьба.
Он напружинил тело, по-волчьи готовя его для прыжка.
Что было в твоей жизни, Кармела? А ничего особенного. Ты молчала. Улыбалась. Глотала слюну. Глотала обиды и бранные слова. Глотала коньяк втихомолку, забивая взрывом перцовой крепости в глотке и груди готовые вылиться слезы, приседая под уставленной прозрачной стеклянной утварью стойкой, чтоб никто из посетителей не заметил и не наорал: а барменша-то – пьяница!.. Утирала губы и глаза ладонью, юбкой. Вставала. Опять улыбалась. Зубы блестели под розовинкой подмалеванных губ двумя платиновыми подковками. Резала лимон. Дольки лимона с тарелки улыбались ей. Она клала кислые лимонные улыбки на края граненых рюмок, несла улыбки на подносах на столики, колченогие и увечные, заваленные горками табачного пепла. Ее улыбки запихивали в неистово жующие рты, кололи мохнатыми усами, швыряли на замусоренный пол одним щелчком мозолистых пальцев. Ее улыбки смаковали и выплевывали. Просили повторить. Ее улыбками рыгали и блевали.
И однажды – редко – кто-нибудь – она никогда не знала, кто – не ел, не пил, не сплевывал, не обсасывал, а тихо, незаметно, в сполошном полумраке и терпком табачном дыме, глубоко вдыхал и осторожно целовал. А может, ей это снилось? Она, набегавшись за долгий день, бывало, от усталости валилась там, где стояла – прямо под стойку бара, сворачивалась клубком, как котенок, и мгновенно засыпала. Ей снилось, что она богачка. Что она владеет всем. Что у нее много, много денег и самоцветов – все карманы полны, и из-за пазухи вываливаются, падают на доски пола, в пыль дороги. Она владелица постоялого двора! И всех окрестных гор! И всех птиц в небе! И всех самолетов и пушек Зимней Войны! И всех мужиков, что в безумье угара, табака и вина нежно пялятся на нее – она теперь над ними царица, и пусть только мизинец ее кто посмеет тронуть!.. Да уж я всю ее давно перетрогал, брат. Теперь ты попробуй. Закуска что надо – с кислинкой.
Она выросла в зимней стране. Ее отец умер давно. Они с отцом когда-то жили в большом страшном городе, называемом Армагеддон. Отец забросил ее в эту гостиницу в горах, когда она была еще девчонкой, а сам ушел на Зимнюю Войну и погиб. Она прокляла сначала свою жизнь, потом постаралась полюбить ее. Ей казалось, ей это удалось.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































