Текст книги "Театр Богов. Цветы для Персефоны"
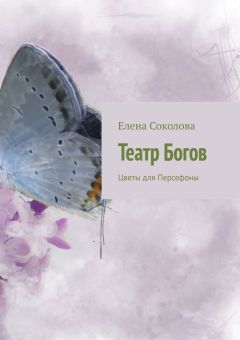
Автор книги: Елена Соколова
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Глава VII
НасущноеКак всегда после скандала с Герой, Зевсу требовалось время, чтобы прийти в себя и получить – если не добрый совет, то хотя бы возможность побыть там, где его ни о чем не просили.
Такие местом были покои Деметры. Впрочем, она редко бывала на Олимпе и еще реже принимала у себя. Хранительница жизни предпочитала общество своих подопечных и управлялась со своим долгом в одиночку, не отвлекаясь на междоусобицы, разногласия, взаимные придирки и сплетни. Мало кто пользовался ее любовью и уважением, и мало кого она признавала ровней. Она была не столько доброй, сколько добродушной. Истинная доброта подразумевает искреннее участие, а Деметра, по сути, была всегда равнодушна к тому, что не было определено жребием. Любовные связи тоже были отображением главной задачи, и брак с Зевсом не стал исключением, но вот его итог оказался тем пожаром, в котором сгорело её сердце.
Деметра не любила визиты царя богов, но терпела. Утешать она не умела и не желала, однако же, предоставляла ему и место для уединения, и свое сочувствие, хотя, в действительности, её симпатии и сожаления почти всегда принадлежали жертвам его прихотей и его гнева. Но самовлюбленный владыка так упивался всем этим ритуалом, организуемым ею – всей этой утешительной выверенностью мелочей – что был на редкость невнимателен к остальному. Даже её ехидные «шпильки», произнесенные, впрочем, тоном хотя и строгим, но заботливым, даже они – совершенно не настораживали Громовержца. В погоне за умиротворением он не обращал внимания на истинный смысл речей, довольствуясь аурой показных чувств.
Как правило, он предупреждал Деметру о своем приходе заранее, и она успевала подготовиться. В её просторных покоях всегда царили прохлада и солнечные лучи. Сквозь ничем не прикрытые оконные проемы лился свет, оставляя золотые прямоугольники на темно-мраморных полах и ступенях. Камень стен был охряным и коричневым. Впрочем, коричневость эта тоже была светлых тонов – от кремовых до золотистых, и лишь кое-где мрамор прорезали узкие извилистые линии кирпично-красных оттенков.
Треножники, заправленные маслом, были расставлены по углам, куда не добирались солнечные лучи. Они не гасли и днем, горели неспешно и неярко, а вечерами еще вспыхивали факелы – густо-багровым, ровным пламенем. Тени пускались в пляс по стенам, остро пахло травами и увядшей мякотью плодов. Длинные низкие скамьи с гнутыми спинками стояли меж оконными проемами. Затканные вышивкой валики служили подушками, темные, шерстяные одеяла свешивались со спинок скамей до полу, везде было неуютно, но зато надежно; величественно – но и аскетично. В корзинах – низких, плоских, и широких – были насыпаны и высились конусообразно зерно и семена, плоды и орехи – каждый вид в своем поместилище. Но нигде не было видно ни цветка, ни лепестка, как будто их не касалось попечение Матери Плодородия.
Строгость убранства, чередование темных и светлых тонов, простор и тишина действовали успокаивающе. К приходу владыки Олимпа Деметра готовила ложе, устилала его теплыми мягкими тканями, окружала вазами с благоуханными плодами, подобранными по цветам и оттенкам так, чтобы услаждая взор, унимать тревожные чувства и мысли. Чаши с амброзией стояли наготове, курились любимые Зевсовы благовония, щедро добавленные в масло треножников и факелов.
Его нужно было теперь встретить, усадить на ложе, подать чашу и – слушать. Слушать не прерывая, слушать не возражая, слушать пока он не начинал хрипеть от ярости, задыхаясь. Тогда наставал её черед – говорить. Слова рождались в воздухе, напоенном пряными ароматами, потоки прохлады, вторгаясь сквозь оконные проемы и открытые галереи, уносили их прочь, за пределы стен и колонн. Стайки слов пронзали облака душистых воскурений, исполненных то звонкой, хищной горечи, то сладости, нежной и терпкой одновременно, и рассеивались затем легкой дымкой, смолкали, теряясь вдали. Участь ласковых речей была незавидной, но заслуженной, ибо весь смысл их был лишь в звучании – они баюкали, утешали, но ничего не меняли – ни в той, что произносила их, ни в том, кто их слышал.
Постепенно слушавший смирялся, дыхание становилось ровнее и тише. Напруженные жилы, оплетавшие мощные руки, шею и грудь, переставали пульсировать в бешеном ритме, пропадали багровые сполохи в глазах, хрипы стихали, кулаки не сжимались конвульсивно, алое свечение вокруг его фигуры медленно гасло.
А потом он засыпал, и Деметра, дождавшись этого момента, гасила светильники. Руки её взмывали вверх, очерчивая круг, и ничто живое не могло теперь проникнуть внутрь. Повелитель богов спал; ему снились блистающие зеленые луга, седые плечи гор, и мрамор лестниц и фонтанов в Палатах Забвения. Эти картины несли умиротворение – пробуждаясь, он уже не помнил ни своих сновидений, ни своего оглушительного гнева.
Иногда он уходил, не дожидаясь возвращения Деметры, иногда ждал, чтобы разделить чашу амброзии и поблагодарить за гостеприимство. После того, как приступ ярости проходил, они почти не говорили друг с другом. Зевс кратко осведомлялся, не нужна ли помощь, всё ли благополучно – и исчезал. Правда, иногда он вспоминал, что у них с Деметрой помимо общих дел, есть еще и общая дочь – тогда он осведомлялся и о ней тоже, просил передать приветы и пожелания, и прощался.
Дочери его интересовали намного меньше сыновей, исключение составляли разве что Афина с Артемидой, ибо были схожи с Громовержцем воинственностью и прямолинейным характером; последняя имела вдобавок столь же капризный, как у него, нрав и такую же бешеную тягу к властолюбию. А малютка Персефона с самых первых дней ни в чем не походила на него – нежная, как ветерок, и ясная, как прозрачный ручей в летний полдень.
Узкая стопа, легкий шаг и нежно-белая кожа – кажется, это было всё, что Персефона унаследовала от матери. В остальном она была на удивление схожа и лицом, и статью со своей теткой – богиней любви Афродитой, и это совпадение бесило Зевса до белых глаз. Те же пышные локоны, подобные водопадам и свету молний, похожие на танцующий огонь и корону вокруг чела, только не золотые, как у Пенорожденной, яркие как Гелиосов огонь, а переливчатые серебряные, поблескивающие как серп молодой луны, отраженный в темном зеркале вод. Глаза васильковые, в гневе или задумчивости становящиеся почти черными, великоватые для нежного, округлого лица, губы припухлые, но четко прорисованные, и шелковистые как лепестки роз. Маленькие ступни с длинными пальчиками, гибкие руки и тонкий стан. От шелковистой кожи пахло то розами, то ирисами, смотря по настроению, порой можно было уловить ароматы гиацинтов и фиалок, или лаванды, или лотосов и лилий – они менялись в течение дня, а ночью стихали, и тогда от Персефоны веяло ночной прохладой, речной волной, и терпкой сладостью скошенной травы. С Пенорожденной её роднила ещё та же смешливость и беспечность, и такая же любовь к музыке и танцам. Деметра потакала Персефоне, её прихотям и радостям, и собирала вокруг дочери свиту из харит и сирен, деливших с ней и смех, и угощение. Сыновья и дочери олимпийцев часто бывали на этих встречах. Деметра привечала всех, кто был мил Персефоне, а та любила всех, кто любил её.
И еще Персефона, или Перси, как ласково именовала её мать, очень любила цветы, все без исключения. Но особенным её пристрастием пользовались нарциссы и розы. Гибкие, зеленоствольные нарциссы, с нежно-лимонными венчиками, что просвечивали под лучами солнца, были очень похожи на неё саму – также нежны и горделивы, а шелковистые розы влекли Персефону не одним своим благоуханием, но упоительными красками, мощью стеблей и остротой шипов. Ей казалось невероятным это сочетание смертельной опасности и томной неги, и она часто повторяла, что ей бы хотелось стать такой, как они – прекрасной и пугающей одновременно. Мягкость черт и хрупкость облика сочеталась в ней с переменчивым нравом, редкой сообразительностью, и неуемным любопытством. Она могла быть безмерно добродушной в одно мгновение, и настойчивой до жестокости – в следующее за ним. Однако не было в ней ни малейшей тяги к мщению или злопамятности и ни на волос властолюбия – словом, ничего из того, что лежало в основе характера Зевса и его любви к самому себе.
В этом крылась одна из причин его холодности к дочери. Но самой главной из них было именно то, что она действительно была слишком похожа на Афродиту. И внешне, и по характеру. Две Афродиты – это было уже слишком, Зевсу вполне хватило бы одной. Он не любил богиню любви. Он ей завидовал. И боялся. Она была той, кого он не смел преследовать, той, которая переспав со всем почти Олимпом и прочим божественным (и не божественным тоже) сонмом, не удостоила его, владыку богов, своим вниманием. Она была той, которую он унизил, влюбив насильно в смертного, но она никогда и вздохом не дала ему понять, что затаила обиду. Он считал, что месть удалась, но всё же его не покидали сомнения. Иногда ему казалось, что Пенорожденная попросту презирает его. Стоило ему один раз, нагрянув к ней в покои, кинуть алчущий взгляд в её сторону – и она обратила свой взор в сторону ларца с Дарами. Взяла его за руку, как напроказившего мальчишку, привела в пыльный зал, полный старого хлама, и поставила перед потрескавшейся от времени шкатулкой, которую просто разрывали изнутри невероятная мощь и темная угроза. Ни слова не было произнесено тогда, но в этом и не было нужды. Он был верховный бог, он был Хтоний. Он был адепт Великих тайн – и прекрасно знал, что видит перед собой.
Это было её предупреждением, и более чем недвусмысленным.
«В следующем эликсире будет другой состав».
Он знал, что она способна на это. И можно было не затевать кардинальных изменений: достаточно было не долить одной только капли, или наоборот, перелить, или переставить слова Силы местами, или даже просто поменять высоту тона при их произнесении, и неумолимый Рок, неподвластная никому цепь причин и последствий, неминуемо привела бы его к падению. И никто не рискнул бы предсказать, как именно. Он мог исчезнуть, а мог остаться, не в этом дело – он бы перестал быть самим собой, он бы перестал быть Зевсом. И в этом крылась суть, в этом была смертельная опасность. Он не мог противостоять Афродите – ему был нужен этот эликсир. Им всем был нужен эликсир; он, Зевс, был не единственным; при желании она могла изменить состав не только для верховного владыки богов, она могла проделать это с любым из них. Она, именно она, Афродита Урания, Афродита Пандемос, богиня и шлюха, символ и воплощение целого и гармонии, именно она, Пенорожденная, была гарантом существования мира. На ней, не на нем, держалось мироздание. Он не знал и не хотел знать, почему так. Это было бы слишком. Он считал, что больше неё подходит для этой роли. Но высшие Силы думали иначе. Его бунт против отца был жаждой стать первоосновой. Если не случилось быть Хаосом – стать Первопорядком. Ему удалось – почти удалось – сделать это здесь, но там, в Мире Истинных Сил, его победа над отцом не изменила ничего.
Когда-то он попытался свести счеты с Пенорожденной, наказав Прометея – по сути, ни за что, за чужую вину. За свою собственную – если точнее. Он думал, что вопрос закрыт, но богиня любви обманом вырвала у него разрешение говорить с Прикованным.
Посланная им стрела вернулась. Он снова проиграл ей схватку.
Его уже трясло от воспоминаний.
А теперь эта история с Гекатой! И снова Гера, её проклятая ревность, упреки… и как не надоест ей эта дурь! Он не может и пальцем тронуть Гекату – она же в союзницах и подручных у Афродиты, она тоже служит Дарам и она единственная, на кого он может надеяться в случае чего. И еще она – Хтония, это важно. Для него важно. Там внизу – его злейшие враги, бессмертные, как и он. Она не просто так имеет право свободного прохода везде, среди всех миров и дорог, просто так ничего не бывает. Гермес – проводник в Царство Мертвых, но даже у него нет доступа к некоторым местам, куда ходит Геката – есть вещи, которые нельзя доверять сыновьям. Например, присмотр за врагами отца, даже если они побеждены и бессильны. Он хорошо выучил тот урок, который сам же преподал своему родителю, Крону. И кстати, не стоит забывать, что последний – там же, где и враги Зевса, в мире Мертвых. Там, внизу, опаснейшее для него место, и Геката-вестница, единственная, кто держит его в курсе подземных дел. Он хотел бы доверять Гадесу, но Гадес – тоже сын Крона, и нет в мире злее врагов, чем ближайшие родственники, это аксиома. Он не может, он не вправе допустить, чтобы Гера причинила серьезный вред Гекате. Мало того, что ему самому это невыгодно, так тут еще и Афродита – она за свою помощницу горло перегрызет… с нежной улыбкой. Она может. Ещё как может.
Хватит. Нужно что-то делать.
Нужно идти к Деметре. Иначе он за себя не ручается. Иначе кто-то пострадает. Очень сильно пострадает.
Сказать, что Зевс был в ярости – значит, не сказать ничего.
Он не предупредил о своем визите. Он просто пришел. Покои были пусты. Значит, она внизу, на земле.
Внутренний взор показал ему дорогу на цветущий луг. Там он нашел Деметру и Персефону. Он очень давно не видел свою дочь так близко, и не говорил с ней.
Хрупкая блондинка в нежно-зеленом хитоне потрясла его до глубины души.
Ее переполняла сила. Мощь первозданного Хаоса, спрятанная, спеленутая, завернутая как в слои-обереги, чтобы не вырвалась до срока, не рассеялась на мимолетное и неважное. Он почувствовал, как раздулись ноздри, как сжались кулаки, как подобралось все его тело. Он должен был забрать эту силу. Её нужно было забрать, пока она не обернулась против него.
Он всегда так реагировал на опасность – реальную или мнимую. Единственным способом преодолеть угрозу, было подчинить себе её носителя. Став лицом к лицу с дочерью, отец в Зевсе уступил место завоевателю – воину, хозяину, владыке. И так было всегда.
Все считали, что смертные для Зевса были лишь игрушками и капризами, однако втайне именно так укреплял он свою власть – набирая из них будущее войско героев, войско своих детей. Он знал, что они станут его адептами: в начале пути – привлеченные возможностью обретения бессмертия и причисления к сонму олимпийцев, позже – желая сохранить этот статус, ибо тот, кто мог дать им бессмертие, был властен и отнять его. Став небожителями, они становились неуязвимыми для всех, кроме своего отца и создателя. Их божественность была вторична, они не были той же, что и он, породы – смертная природа сидела в них как тень. Он знал, что никто из них не способен противостоять ему – ни вместе, ни тем более, по отдельности, и они знали об этом. Никто из них никогда бы не посмел бросить ему вызов, как он своему отцу, Крону.
А собратья-боги и богини были опасны, и не важно, кто был с кем и в каком родстве. В их сонме могли зреть зерна бунта, они могли рискнуть, могли попробовать обманом привлечь героев на свою сторону, пообещав бессмертие безоговорочное. Они могли рискнуть и преуспеть, и потому Зевс не мог позволить себе рисковать. И действовал соответственно.
Тех, кого никогда не притеснял Зевс, можно было перечесть на пальцах. В их числе были и богини, пожелавшие остаться девственницами, как Гестия, Геката или Афина, но стоило учесть, что подобный выбор определял отказ от страстей и влечений не только любовных. Неуемное честолюбие и страсть к переменам никогда не принадлежали к достоинствам богинь чистоты. Схимниц не прельщала власть, их уделом было служение, где не было места личным прихотям. Исключением была разве что Артемида, но он знал – эта девочка всегда будет на его стороне. Её служению – истовому и кровавому – защита была нужна как воздух, она была слишком близка ему по характеру, в её верности он не сомневался.
А с теми, кто ему мешал, Зевс не церемонился. Мужчин-богов он подчинял или сокрушал, женщин – соблазнял. Он покорял их тела, сердца, души, забирал их силу, заручался их покорностью – навсегда или временно, привлекал их на службу, вступал в выгодные ему союзы, избавляясь от них, когда исчезала необходимость. И получал немыслимое наслаждение от всех этих сопряженных друг с другом побед. На самых сильных противницах он женился, и они приносили клятвы верности, отдавая ему власть над собой. Вернуть утраченное можно было лишь разорвав эту связь, но тень подчиненности оставалась. Оставалась снисходительностью, дружескими уступками, иногда равнодушием и невмешательством, как у Деметры – но она была всегда и порождалась уязвленностью, обидами, гневом обманутых надежд. Тень была изъяном, платой за осознание себя и подлинной силы, которое приходило лишь в сопряжении тел и душ, благословленных свыше, и тень делала их слабее, чем они были до брака с Зевсом, впрочем, не для всех, но лично для него.
А теперь ему нужна была сила его дочери, Персефоны, но здесь таилось одно «но».
Он мог бы прибегнуть к обольщению, но он совершенно не хотел ссориться с Деметрой. Это было непрактично, невыгодно, это было глупо, наконец. Деметра была его поддержкой, его опорой, без нее служение смертных богам было невозможно. Связь миров держалась на эфирной силе трав и ароматов. Смертные разговаривали с богами дымом жертвоприношений. Кровь и плоть животных были лишь внешней данью, банальной демонстрацией преклонения и признанием божественного верховенства. Истинным же языком переговоров были воскурения. Плоды, травы, цветы, попадая на алтарь, уносили вверх, в мир Сил, моления и обеты.
Легконогая фигурка с разбегу налетела на него. Он схватил её за руки. Звонкий, счастливый смех взлетел как стая певчих птах, вверх, в голубую беспредельность, нежный голос прозвенел колокольчиком:
– Мы так давно не виделись, отец!
– Ты изменилась, Персефона! Ты так повзрослела, так выросла. И так похорошела!
Деметра, оказавшаяся рядом в мгновение ока – и когда успела? – метнула на него свирепый взгляд. Он ответил миной безмятежности и снова повернулся к дочери:
– Почему ты никогда не бываешь на Олимпе? Ты могла бы приходить с мамой.
– Она не берет меня с собой. Говорит, там решаются важные дела, и ты всегда занят. Говорит, что это не место для игр.
Деметра прервала их:
– Я должна отлучиться. Перси, дождись меня, пожалуйста. И не уходи никуда. Даже с отцом.
Персефона склонила голову.
– Конечно, мама.
Деметра бросила взгляд на Зевса. В её глазах отчетливо виделись вызов и предупреждение.
– Надеюсь, вы оба меня не разочаруете. Я сегодня и так не в настроении.
Персефона опустила голову ещё ниже. Их утренние ссоры с матерью давно стали привычными для обеих, но не становились от этого менее болезненными. Спор был вечен, как мир и касался границ «я хочу» и «я могу». Персефона пыталась расширить сферу дозволенного, Деметра стояла на страже оговоренного ранее. Строгость опеки питалась беспокойством о будущем, жажда перемен и любопытство юности дарили Персефоне силы противостоять. В последнее время ссоры участились, почти каждое утро начиналось с конфликта, потом они кое-как примирялись, причем уступать приходилось, конечно же, Персефоне – дочерний долг никто не отменял! – и вечером, отходя ко сну, они прощались друг с другом в надежде, что новый день наконец-то принесет им желаемое – каждой своё. Но завтрашний день вновь ничего не менял и если Деметра каждый раз находила себе оправдание в мыслях о родительском долге, то Персефона всё реже искала поводы обелить мать и всё реже упрекала себя в вольнодумстве. Ей хотелось свободы, ей хотелось решать свою судьбу самой. Что-то подсказывало ей, что этот час может скоро наступить, и она торопила его со всем наивным пылом юности. Всеобщая любовь и восхищение только крепили её тягу к бунту. Что-то говорило ей, что её судьба будет куда как непростой: в ней будет место и великой любви, и великому отчаянию, и возможно даже великому подвигу. Она виделась себе героиней, титанидой времен Утра Мира, одной из тех, кто пришел вместе с первым всплеском Хаоса, с первым лучом Света Вселенной. Она была мечтательницей, эта маленькая, хрупкая девочка с серебряными волосами, она была нежна как воздух, и крепка, как земная кость. Сказать по правде, именно это сочетание и беспокоило так Деметру, от этого и проистекало большинство ограничений, наложенных ею на дочь. Здесь она чуяла залог судьбы – пусть высокой, но пока неясной и оттого пугающей. Приходить к таким вызовам следовало полностью готовой – принять их раньше времени значило потерпеть поражение. Деметра не сомневалась, что Персефоне уготовано великое служение, она знала это, но пока не было известно, в чем оно будет состоять – не было возможности и подготовиться к нему.
– Ты поняла меня, дочь?
– Да, мама.
Деметра поджала губы, хотела что-то ещё сказать, но передумала. Мгновение спустя она сделала шаг в сторону и исчезла из виду.
Персефона освобожденно выпрямилась и улыбнулась радостно. Зевс погладил её по мягким волосам. Два желания рвали его на части, и он не мог решить какое из них сильней – взять её прямо здесь, сейчас, вынудив поделиться с ним частью силы, или просто убить и забрать всю эту мощь целиком.
– Твоя мама права, девочка. У меня много дел. Но мне жаль, что мы редко видимся.
– Я знаю, что ты не принадлежишь себе, отец. Знаю, что судьбы мира на твоих плечах, вожжи мира в твоих руках. Мне жаль, что у тебя нет времени бывать здесь, внизу, но я горжусь тем, что я – твоя дочь.
– Твоя мать хорошо воспитала тебя, дитя моё.
– Я скучаю по тебе, отец. Тебя очень, очень давно не было здесь. Мама редко говорит о тебе, а я сама не спрашиваю, боюсь, что ей это будет неприятно. Вы ведь теперь не вместе.
– Твоя деликатность делает тебе честь, девочка.
– Мама зовет меня Перси. Говорит, что я похожа на персик. Это такой золотистый плод, с очень нежной шкуркой, мягкий и бархатистый, как кожа ребенка. Он овальной формы и чем-то похож на девичье тело. Я его ни разу не видела, он не растет здесь. Ты знаешь, как он выглядит?
– Если ты захочешь, я попрошу Гермеса принести его тебе.
– Да, отец. Благодарю тебя. Но, может быть, ты придешь ещё раз, и принесешь его мне сам?…. Знаю – это нахальство с моей стороны, знаю, что ты занят, я помню, но ещё разок, пожалуйста, отец, мы так редко видимся! Здесь всё уже такое знакомое, я тут все цветы знаю – и в лицо и по именам, и каждого мотылька, и каждый колосок. Если бы не мои друзья, которые изредка приносят с собой что-то новое, я бы умерла с тоски.
– Твоя мать рассердится. Она не любит, когда делают то, что не входит в её планы.
– Я не скажу ей. Ты можешь придти, когда её не будет. Она часто отлучается и оставляет меня с друзьями, а они не так строго следят за мной.
– Твои спутницы сирены всегда рядом…
– Ну что ты, отец! Они такие легковерные и так любят смех и танцы! Если здесь будет звучать музыка, а я скажу, что хочу нарвать цветов, вон там, на той опушке, они не пойдут со мной. Они не любят тень и лес. А я люблю. Там растут нарциссы, огромные, белокожие, они пахнут так сладко…
Пламя похоти терзало царя богов. Бесхитростные речи дочери, её нежная и тревожная красота, её благоговение перед ним подливали масла в огонь; сходство дочери с Афродитой, так бесившее его прежде, сообщало теперь его страсти пряный вкус мести и туманило разум. Впрочем, идти на совсем уж откровенный инцест ему не хотелось. Невинная дочь могущественной Матери Плодородия, соблазненная собственным Отцом. Сколько раз уже было. Не звучит.
«Гера!» – вспыхнуло в сознании. Как он мог забыть о ней! О нет, только не это! Если она узнает, тогда разразится настоящая война. С такой противницей как Деметра, это будет битва не на жизнь, а насмерть. И не важно, кто в итоге станет в ней победителем, он знал одно – это точно будет не он.
А Персефона всё щебетала – о чем-то своем, важном, девичьем, но он уже не слушал.
А что, если выдать её замуж? Замужняя дама – совсем другой статус. И отношения с матерями другие. И совратить замужних легче – они уже познали и язык, и вкус любовных утех и уловок. Отдай свою дочь другому мужчине – и она перестанет быть твоей дочерью, она станет чужой женщиной. Вот именно. Чужой замужней женщиной. Чем это отличается от тех ситуаций, когда он соблазнял чужих жен? Да ничем. Для нас, богов, кровосмешений не существует, но в данном случае, прямой путь опасен. И невыгоден. Как бы ни пылала его плоть, это не в первый раз, и это не та ситуация, когда стоит поспешить. Мощь, скрытая в Персефоне, требует уважения к себе. Нет, здесь нужно бить наверняка. Попробуем вначале, хм, законным путем.
Мысли неслись вскачь, пришпоривая друг друга.
Нужно спросить Деметру о видах на брак. И, в конце концов, пора отойти от этой девчонки, иначе он за себя не ручается. Нужно услать её куда-нибудь. Пусть наберет ему цветов. Вон тех нарциссов, у ручья, там, на границе леса и луга. Ей, кажется, нравится там, так она говорила? Там топко и прохладно, собрать большой букет будет непросто. Пусть соберет побольше.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































