Текст книги "Новые забавы и веселые разговоры"
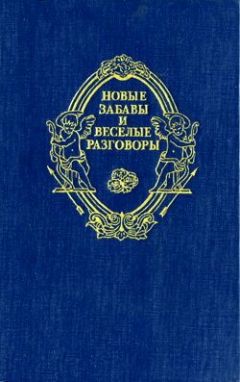
Автор книги: Франсуа де Бельфоре
Жанр: Зарубежная старинная литература, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 46 страниц)
История третья
Нет яда опаснее, чем тот, который таит свою горечь под мнимой сладостью, и, точно так же, всего гибельнее зло, прикрытое наружной добротой, ибо видимость благожелательства усыпляет нашу бдительность, а когда мы спохватываемся, бывает уже поздно. О, если бы Каталина,[467]467
Катилина (ок. 109 – 61 гг. до н. э.) – древнеримский политический деятель, боровшийся с Сенатом; участник знаменитого заговора, разоблаченного Цицгроном.
[Закрыть] Сулла,[468]468
Сулла (136 – 78 гг. до н. э.) – древнеримский политический деятель, вождь аристократической партии.
[Закрыть] Юлий Цезарь и им подобные умели прятать свое честолюбие столь же искусно, как Август,[469]469
Август. – Имеется в виду римский император Октавиан Август (63 г. до н. э. – 14 г. н. э.); тонкий политик, он установил в Риме единоличную императорскую власть.
[Закрыть] тирания в Риме (называемая монархией) началась бы куда раньше! Но нет! доблестное сердце (где не может жить притворство, поскольку лев не имеет ничего общего с лисом) не позволяло им уподобляться крокодилу, который льет слезы, желая пожрать тех, кто из жалости придет на его плач.
Едва ли не каждому случалось испытать это на себе, и если кому-нибудь такое зло выпадает на долю, он должен находить утешение в том, что у него много друзей по несчастью. Стоит припомнить судьбы некогда процветавших республик, чтобы убедиться: все они погибли от одного и того же внутреннего врага, зовущегося лицемерием, а орудием их сокрушения и разрушения неизменно был обман. Да и Францию это бедствие не обошло стороной: мы знаем, что те, кому наши короли оказывали наибольшие услуги, были заклятыми нашими врагами. В самом деле, история наполнена рассказами о том, как Франция неуклонно исполняла свой долг, защищая пап (Карл Великий восстановил права двух из них,[470]470
Речь идет о папе Адриане I (понтификат – 772–795 гг.), которого Карл поддержал в его борьбе с лангобардами, и о папе Льве III (понтификат – 795–816 гг.), провозгласившем в 800 г. Карла императором.
[Закрыть] разгромленных королем Ломбардии), – но что в награду за эти благодеяния сделали папы, когда нужно было спасать их мать Францию от разорения и гибели? Разве не они наносили ей самые жестокие раны? Разве были у нее худшие враги, чем эти неблагодарные дети (сколь ни горько мне так говорить, еще горше то, что все это знают)? Утвердив попирающую стопу не только на горле принужденного ими к раболепию императора,[471]471
Намек на «Каноссу», эпизод борьбы императорской власти с папством, когда император Генрих IV после безуспешного противоборства с папой Григорием VII вынужден был признать свое поражение и публично (и унизительно для себя) признал верховную власть папы; это произошло в 1077 г.
[Закрыть] но и над всеми христианскими коронами, они открыто враждуют со своими спасителями французами. Тому пример и папа Пий,[472]472
Имеется в виду папа Пий II (понтификат – 1458–1464 гг.), который помог Неаполитанскому королю Фердинанду I (1458–1494) вновь занять неаполитанский престол. Фердинанд (или Ферран) назван здесь бастардом, так как был незаконным сыном короля Арагона Альфонса V, захватившего в 1416 г. Неаполь.
[Закрыть] отдавший королевство Сицилию бастарду Феррану, а герцогство миланское – Франциску,[473]473
Речь идет о герцоге Миланском Франческо Аллесандро Сфорца (1401–1466).
[Закрыть] к великому ущербу орлеанского и анжуйского домов, его законных сеньоров; и Бонифаций VII,[474]474
Бонифаций VII. – Ошибка Ивера; речь идет о папе Бонифации VIII (понтификат – 1294–1303), который вел безуспешную борьбу с французским королем Филиппом Красивым.
[Закрыть] который своими коварными отлучениями погубил бы французское государство, если бы напал не на могучего духом Филиппа Красивого, а на какого-нибудь Карла Простоватого.[475]475
Карл Простоватый – французский король Карл III (879–929), вступивший на престол в 896 г., а в 923 г. с него свергнутый.
[Закрыть] Впрочем, достаточно назвать папу Юлия:[476]476
Юлий. – Имеется в виду папа Юлий II (понтификат – 1503–1513), воевавший с французским королем Людовиком XII.
[Закрыть] не довольствуясь духовными орудиями (порицаниями, угрозами, отлучениями и проклятиями), он отложил ключи святого Петра ради меча святого Павла и обрушил на Францию гораздо более мощный удар, пойдя войной на отца народа, доброго короля, который подарил ему Болонью,[477]477
Болонью и другие итальянские города, которые перечисляет Ивер, Людовик XII вернул не Юлию II, а папе Александру VI.
[Закрыть] Чезену, Равенну, Имолу, Фаенцу, Форли и другие прекрасные домены, но так и не мог унять честолюбие этого ненасытного папы, мечтавшего омыть землю человеческой кровью и зажегшего ненавистью к французам весь христианский мир. Он осадил их в Милане, однако, хотя все государи покорно служили его священному гневу, ничего не добился, ибо ему противостал всевышний бог. Во времена, когда его святейшество сеял смуту, и произошел один весьма памятный случай, о котором я вам расскажу так кратко, как позволит эта удивительно печальная история.
Надо вам знать, прекрасные дамы, что свирепый папа, каждодневно расставлявший сети и приманки, дабы улавливать и привлекать на свою сторону всех государей, какие, по его мнению, могли хоть чем-нибудь вредить французам, нашел средство заключить союз с молодым принцем Умбрии, чье имя я не стану называть, так как мой рассказ не служит к его чести. Этот принц – из почтения ли к папе, или из любви к воинской славе, – воевал столь ревностно, что не было такого сражения, где он не показал бы себя одним из лучших бойцов. И случилось так, что, побывав во многих опаснейших схватках (куда его влекла и стремила ненависть ко всем французам), он был вынужден после снятия миланской осады отправиться на отдых в Мактую. Там со всеми почестями, подобавшими его роду и сану, был он принят в доме маркизы Гонзага,[478]478
Маркиза Гонзага – Елизавета д'Эсте (1474–1539), жена герцога Мантуанского Франческо Гонзага (1466–1519).
[Закрыть] вдовы знаменитого Франческо Гонзага (последнего, кто носил это имя), оставившего ей, в числе лучших сокровищ, единственную дочь пятнадцати лет, наделенную столь дивной красотой, что Италия по праву могла гордиться, произведя на свет такой цветок. Эта девушка, принадлежа к знатнейшему роду и будучи предметом исключительного попечения родителей, с младых лет воспитывалась в добродетели и была весьма тщательно образованна, так что при сравнении красот и совершенств, которыми ее щедро одарило небо, с остротой ума и благородными знаниями, которые она стяжала ученьем, трудно было решить, чему она обязана более: науке или природе; однако нельзя было усомниться, что ей нет равных в Италии. И если папа подчинил и поставил на службу множество людей благодаря своей власти и деньгам, то она пленила не меньшее число сердец прекрасным взором, нанимая и оплачивая свое войско одной надеждой на возможную ее благосклонность, – и мало было таких, которые ради этой надежды не согласились бы умереть, доказывая силу своего чувства.
Неложный свидетель мне в этом наш принц, которого мы будем называть Адилоном: только что сражавшийся за папу, во мгновение ока перешел он в стан божества, превосходившего папу могуществом. О, ему хорошо было известно, чего стоит удар пики, но не знал он, насколько опаснее внезапно брошенный взор. С честью выходил он из самых гибельных переделок, а теперь был сражен, увидев единственный раз эту красоту; уж лучше бы ему родиться слепым, чем терпеть такой урон от собственных глаз. Увы! это зрелище произвело в нем столь неизъяснимую перемену, что он не мог узнать самого себя. Но так же, как молодой лев (полный веры в свою кипящую силу и готовый схватиться с кем угодно), ощутив первый удар, собирает всю ярость и с сугубой отвагой борется за победу, этот новобранец Амура вознамерился отразить приступ, которому его собственные чувства открыли путь, начав распрю, словно мятежные горожане, восстающие друг на друга. И все более уверяясь, что нужно сопротивляться этому нападению, он в одно время и наносил себе рану, и врачевал ее.
– Пока этот новый недуг еще не прижился внутри, – сказал он себе, – я должен изо всех сил гнать его вон; ведь самое действенное лекарство – это своевременное предупреждение болезни. Проще погасить едва затеплившийся огонь, нежели тот, что уже пылает во всю мочь.
Легко сказать, да трудно сделать! Недаром те, кто пылко хвалит добродетель, бывают холодны, когда нужно следовать и повиноваться ее велениям. Мы видим, что бедный влюбленный лишь дает себе добрые советы, но вовсе не думает ими пользоваться и, ловя себя на обмане, не краснеет от внезапного угрызения совести. Крепость сдана врагу. Он хочет стряхнуть непонятное безумие, но тщетно: как спотыкающийся и оступающийся олень со стрелой в боку приближается к смерти тем вернее, чем быстрее он от нее бежит, ломясь сквозь густые ветви и вгоняя острие все глубже в свое тело, и как попавшая в сеть птица запутывается тем больше, чем отчаянней бьется, стараясь вырваться, – так этот злосчастный государь (новый слуга и раб Амура), силясь укротить неотвязную хворь, лишь бередит и растравляет свою рану. И в конце концов он чувствует себя настолько покоренным ласковым приемом, что душа его, покинув прежнее жилище, устремляется по назначению фурьера любви к лику прекрасной Кларинды (ибо так звалась эта мантуанская инфанта).
Ах! если один вид этого совершенства, как слишком яркое сияние, помрачил очи его рассудка, что же, спрошу я вас, сталось бы с ним, когда бы он изведал очарование ее любезной речи, или, познакомясь с ней ближе, постиг мудрость и кротость ее нрава, узнал на опыте, сколь необыкновенна ученость, обогатившая ее тонкий ум и изливающаяся из медоточивых ее уст, дабы напоять слух мудрейших людей; ибо в знаниях, как я уже сказал, ей не было равных по ту сторону гор, кроме, быть может, Кассандры,[479]479
Кассандра. – Имеется в виду Кассандра Фидели (1465 —?), знатная итальянская дама, славившаяся в свое время отменным вкусом и ученостью.
[Закрыть] дочери сеньора Анжело Фидели, венецианца, которая выступала с публичными чтениями о семи свободных искусствах и была сведуща в обоих древних языках и в богословии.
Но молодой принц после недолгого созерцания инфанты удалился, не помня себя, домой, где, впрочем, не обрел желанного успокоения, потому что вновь подвергся нападениям врага. Если страсть, зажженная в нем лицезрением сладчайшей гибели, была мучительна, то отсутствие красавицы, чей образ живо напечатлелся в глубине его сердца, было стократ тягостнее: так рана в минуты покоя причиняет больше страданий, чем в пылу битвы. И когда он, рассеянно блуждающий в дебрях раздумий, лег (прикоснувшись к ужину разве что для отвода глаз) в свою постель, чтобы прийти в себя и отдохнуть от терзаний, все пошло наперекор его надеждам: мягкий пух изголовья стал твердой наковальней, на которой ковался один безумный помысел за другим, и все эти помыслы, едва он успевал их обдумать, таяли и исчезали в воздухе вместе с бурей вздохов, раздувавшей горн его больного воображения. И чем усерднее тщился он разорвать любовные путы, тем туже затягивал на себе отнявший у него свободу силок. Так возрастает напор воды, если перегородить течение запрудой.
– Увы! – восклицал он, – на какие бедствия обрекла меня жестокая судьба! Неужели я счастливо уцелел в превратностях войны и невредимым вышел из грозных сражений только для того, чтобы так пострадать от женского пола, который никому не страшен? О, почему не могу я дать нежным девушкам такой же отпор, какой давал суровым рыцарям? Почему небеса заставили меня покориться столь слабой силе? Если уж дали они женским очам оружие для нападения, то почему не укрепили мою грудь защитным доспехом? Какой же удачей для меня было бы пасть вместе с цветом Италии от руки неприятеля! Или я спасся лишь затем, чтобы, влача тяжкие узы, зачахнуть от тоски здесь и, подобно Ахиллу среди дочерей Ликомеда,[480]480
Имеется в виду один из эпизодов древнегреческой мифологии: у Ликомеда, царя долопов на острове Скирас, скрывался Ахилл, которому была предсказана гибель в Троянской войне. Дочь Ликомеда Деидамия имела с Ахиллом любовную связь.
[Закрыть] бесславно кончить молодость, истаяв как снег под лучами этой красоты? Ах, для моего блага и спокойствия вовек нельзя мне было ее видеть; если же видеть ее мне было суждено, вовек нельзя мне терять ее из вида. О доблестные рыцари Франции, отвагой своей повергающие в трепет вселенную! не завидуйте отныне превосходству принца Адилона и знайте: по милости мантуанской принцессы, отнявшей у меня покой и возвратившей его вам, я более не могу чинить вам вред, – хотя она не убила меня и не нанесла мне увечья, но лишь взяла в плен и заточила в крепкую темницу. И пусть мой пример покажет всем, как плохо награждается подчас учтивость: ибо может ли ожидать большей неблагодарности, чем столь дурное обращение, тот, кто приходит как гость, желая изъявить почтение и уважение даме? Видно, бог решил погубить несчастную Италию, в одно время велев родиться кровожадному первосвященнику, губящему тела, и несравненной красавице, губящей души.
Так, все более воспламеняясь, безутешный принц провел в слезах и воздыханиях целую ночь: то решал он отдаться своему чувству, говоря себе, что даром ничего не дается и что дело стоит труда; то думал, что лучше ему все бросить и понапрасну не мучиться из-за столь сомнительного предприятия, ибо неоткуда ему почерпать не только уверенность, но и самое безумное упование. Если вы видели когда-нибудь, как путник, пришедший к скрещенью двух дорог, вдруг останавливается и не может сделать выбор (обе его влекут и обе внушают опасения), то поймете, как страдал несчастный влюбленный. Наконец, после долгих раздумий и колебаний между надеждой и страхом, так и не сомкнув глаз, принц вскакивает с постели и одевается с ног до головы. Затем, решив раз и навсегда покончить с новым чувством и убежать от любви так далеко, что она не сможет его настигнуть, садится он в седло и направляется прямо в Пьяченцу, где в то время находился папа, стягивавший к этому городу войска. При этом полагается он на своих слуг и коня: ведь когда человек не в себе и сам себя не слушается, трудно ему повелевать и управлять другими. И хотя он уезжает, душа его, покинув немилое ей обиталище, остается в мантуанском гарнизоне, – в то время как брошенное ею тело, словно статуя, движется единственно оттого, что его гонит ветер, и уже не одушевлено ничем, кроме снедающей сердце тоски.
Прибыв в Пьяченцу, принц отправился свидетельствовать почтение святому отцу, которого и нашел в его покоях, где тот обдумывал новые козни против французов. После обычных лобызаний Юлий спросил:
– Ну, дитя мое, где вы так долго прятались, не давая никакой вести о себе? Поверьте, я был весьма испуган мыслью, что потерял вас, и ни о чем ином не мог говорить; но теперь, когда вы вновь с нами, у меня отлегло от сердца.
Принц, знавший, как он дорог папе, рассыпался в извинениях, из почтительности скрывая, что произошло. Но поскольку нетрудно было прочесть на его лице, что он измучен страстью, и увидеть, что некий тайный червь подточил его обычную веселость, один дворянин, которого принц предпочитал остальным и лучше знал, стал так настойчиво его расспрашивать, что ему пришлось, несмотря на крайнее нежелание и досаду, рассказать о случившемся.
– Мой друг Люцидан (так звали этого дворянина), – сказал принц, – благодарю за беспокойство, внушившее тебе мысль, что меня томит какая-то болезнь, порожденная избытком чувств. Твоя догадка и в самом деле не далека от истины: мне нанесли столь жестокую рану (и как раз в том месте, где я искал покоя и безопасности), что я не жду иного исцеления, нежели медленная смерть. Да будет тебе ведомо, что после того как неприятель вынудил нас снять осаду с Милана, я отправился в Мантую, намереваясь отдохнуть: там-то зажглось во мне пламя, внезапно разгоревшееся с такой силой, что угасить его не могла бы и вся вода морская. Но я прошу хранить это в секрете, памятуя мое доброе о вас мнение, которое и побуждает меня ничего от вас не таить.
И, открыв свое сердце, принц подробно рассказал о том, как он был сражен и покорен ласковым приемом принцессы Кларинды, и о том, каких немыслимых пределов достигли ныне его мучения.
– Однако, господин мой, – сказал Люцидан, – если судьба сулит вам такое счастье, в чем повод для сетований на нее? Почему вы так криво рассудили свое правое дело и сами себе вынесли обвинение и приговор? Почему ожидаете встретить суровость и немилость там, где нашли одну нежность и учтивость? И почему, не имея никакой причины для разочарования, вы не верите в свои силы и достоинства, которые всегда будут оценены благородным сердцем? Смелее же – и, ручаюсь, вы вскоре будете наслаждаться тем, к чему вполне справедливо стремитесь, или весь мой опыт и искушенность ничего не стоят: поверьте уж вашему испытанному другу и преданному слуге. Единственное, о чем я вас прошу (поскольку возраст доставил мне некоторые знания, вы же при всем вашем уме ослеплены теперь любовью), – послушаться моего совета. Паче всего должны вы стараться (если хотите идти самым коротким и верным путем) снискать милость матери, ревностно и со всевозможным тщанием ей угождая; ибо как только вы заручитесь ее добрым мнением, можете считать благосклонность дочери вашей. Разъясню, в чем здесь дело: девушка подобна белой стене, на которой можно чертить все, что вздумается; если же по начертанному провести рукой, все сотрется. Сейчас она любит, мгновение спустя забывает о своей любви. Цветы умирают каждый год, и каждый год возрождаются, а девичья любовь рождается и умирает каждый день; в ней нет ничего постоянного, кроме одного незыблемого закона: последующий всегда вытесняет предыдущего, как волна гонит другую волну, – настолько мила ветреницам любая перемена. Иначе говоря, девушки вообще не испытывают любви, ибо слишком черствы душой для столь нежной гостьи; безвольно влекутся они то к одному, то к другому, всякий раз принимая такой вид, какой сочтут для себя удобным, хотя бы их сердце и восставало против этого, – и узнают, что такое склонность или предпочтение, лишь тогда, когда матери связывают их привычными узами брака. Да вы и сами, должно быть, замечали, что в выборе жениха девушки всецело полагаются на волю родителей, не осмеливаясь вымолвить «я люблю» прежде, чем свяжут их брачные узы. Так садовые мухи равнодушно перелетают с цветка на цветок, наслаждаясь разнообразием и повинуясь своей изменчивой прихоти, однако остаются на одном не долее, чем на другом, чтобы успеть вкусить от всех, и мечутся там и тут, пока не остановит их паучья сеть. Итак, следуйте моему наставлению и твердо помните: если вы добьетесь любви и уважения матери, дочь будет ваша. Недаром пословица гласит: «Когда берут город, сдается и замок».
Эта дружеская речь, внимательно выслушанная и принятая к сведению юным принцем, пролила бальзам на его сердечные раны и заживила их так хорошо, что, я думаю, и утешение исповедника едва ли когда-нибудь приносило столько радости отчаявшемуся грешнику.
А между тем как принц наслаждался действием этого целительного бальзама, было получено известие, что французы, ободренные удачным отражением миланской осады, используют свой успех и наступают, разоряя и опустошая земли Церкви. По этой причине папа немедля приказал Цезарю Борджиа,[481]481
Цезарь Борджиа – итальянский политический деятель и военачальник, сын папы Александра VI; он был убит в одном из сражений в 1507 г. и не мог принимать участие в описываемых событиях.
[Закрыть] под началом которого были все войска Умбрии и Апулии, выступить вместе с венецианцами и испанцами навстречу, чтобы соединенной мощью дать отпор дерзкому врагу. И, сойдясь близ небольшого города Луго,[482]482
Луго. – Имеется в виду битва под Равенной 11 апреля 1512 г.
[Закрыть] две армии ринулись в бой с такой яростью, что в первой же атаке были уничтожены лучшие силы Юлия и венецианцев. Потери же французов оказались невелики. Однако они не хотели довольствоваться своей победой и первенством в ратном деле и решили истребить всех врагов без остатка, ибо сражались не только ради чести, но ради свободы и жизни. И потому их главнокомандующий, племянник короля Гастон де Фуа, герцог Немурский (государь, с которым никто не мог сравниться отвагой), подстрекаемый желанием славы и кипучей юностью, пустился в погоню за оставшимися в живых и преследовал их с таким рвением, что удача, излишне подгоняемая и понукаемая, изменила ему, подобно тому, как лошадь, когда ее пришпоривают сверх меры, начинает вдруг брыкаться и сбрасывает седока. Поистине мудр был военачальник, говоривший, что довести врага до отчаяния значит дать ему орудие для обороны и что гораздо разумнее оставлять ему путь к бегству. Ибо закон необходимости, по словам божественного Платона,[483]483
Имеется в виду Аристотель.
[Закрыть] настолько суров, что ему не могут противиться и боги; ученик же Платона называет необходимость матерью мнимых добродетелей и, более того, мнимых чудес. В самом деле, известно, что немой от рождения сын Креза,[484]484
Крез (ок. 560–548 гг. до н. э.) – последний царь Лидии, славившийся своим богатством.
[Закрыть] видя во время взятия Суз, как воин изготовился убить его отца, громко закричал: «Спасай корону!» – такова была сила естественной любви, восполнившей природный изъян необходимым чудом. Потому-то великому воителю герцогу Немурскому следовало использовать свою славную победу под Равенной более рассудительно, не доводить бегущего неприятеля до крайности и не принуждать его к сопротивлению, вспомнив, как незадолго перед тем сами французы (теснимые лигой,[485]485
Эта лига, направленная против французского короля Карла VIII, была образована в 1495 г. императором Максимилианом, королем Арагона, Миланским герцогом Лодовико Сфорца и Венецианской республикой.
[Закрыть] что выступила против Карла Восьмого) победоносным оружием проложили себе дорогу из окружения, которою враг всеми силами старался закрыть. На сей раз итальянцы отплатили им, как говорится, той же монетой: обращенные после страшного разгрома в бегство, они, видя, что французы, несмотря ни на что, гонятся за ними и преследуют их по пятам, собрали силы и с отчаянной отвагой перешли от отступления к нападению, столь яростно поражая наиболее горячих преследователей, что убили герцога Немурского (одного из самых рьяных), сеньора де Монкароэля, д'Алегра-отца[486]486
Имеется в виду Ив д'Алегр, один из видных французских военачальников.
[Закрыть] и других знатных рыцарей; молодой же сеньор д'Алегр отделался дешево: получив ранение в руку, лишившее его возможности защищаться, он был взят в плен мессером Фердинандо Гонзага,[487]487
Фердинанда Гонзага. – Ошибка Изера; речь может идти о Франческо Гонзага, так как в момент описываемых событий его сыну Фердинанду было только четыре года.
[Закрыть] и тот немедля увел его с поля боя. И разумно поступил – ибо французы, которые на свою беду занялись обшариванием мертвецов (наслаждаясь плодами верной победы и не спеша следовать за своим добрым герцогом), услышали шум пальбы, и, догадавшись, что неприятель перешел в наступление, примчались большим числом на помощь; но чересчур поздно, поскольку герцог Немурский, как мною сказано, был уже мертв. Потому, не видя возможности помочь ему чем-нибудь иным (словно врач, пришедший после смерти больного), они обратили свою скорбь и печаль в суровое мщение врагу. И, не щадя никого, учинили бесчеловечную резню; а когда узнали, что некоторые из бежавших спаслись в ближайшем городе Равенне, то с неукротимым бешенством пошли на приступ этого города, ворвались в него и, забыв всякую жалость и снисхождение, напечатлели в нем жестокие знаки своего праведного гнева.
После того как ими были дотла разрушены лучшие итальянские города (особенно в Ломбардии), папа, желая изгнать врага из своей земли, восстановил против них англичан, которые высадились в Кале и осадили Теруан.[488]488
Это произошло в 1513 г. Теруан был крупной крепостью в проливе Па-де-Кале, и около него не раз велись военные действия.
[Закрыть] Тогда Франция, вынужденная защищаться от этого нападения, прекратила наступление в Италии. Властители, пользуясь затишьем и возможностью перевести дух, начали переговоры о выкупе и обмене пленных, и было решено, что молодого сеньора д'Алегра обменяют на маркиза Пескерского.
Д'Алегр же, избавленный от смерти мессером Гонзага (о чем я уже сказывал), был увезен этим сеньором в его укрепленный замок, что находился в двух, или около того, милях от Мантуи. Там ему оказывали высокий почет, как требовало его положение среди французов и знатное происхождение, которое не было для итальянцев тайной. И в один из погожих дней страж д'Алегра, желая вполне соблюсти долг вежливости, повез его на охоту в ближайший лес, где они вдвоем погнались за вышедшим из своего логовища оленем, да так увлеклись, что незаметно для себя растеряли всех своих людей, думая только о том, кто первый настигнет и убьет зверя. И они были весьма удивлены, когда, плутая в лесу, оказались невдалеке от красивого, прелестного источника, так хорошо укрытого ветвями деревьев, что к нему не мог проникнуть ни один солнечный луч. В этом приятном месте как раз отдыхало несколько дам, наслаждавшихся прохладой, которую дарила древесная тень. Как только наши охотники заметили это милое общество, сеньор Гонзага, на расстоянии узнавший свою сестру маркизу и сопровождавшую ее дочь, сказал об этом пленнику, и оба они, обрадованные, пришпорили коней. Подъехав и спешившись, они приблизились к маркизе и свидетельствовали ей свое почтение. Здесь же обнаружили они принца Адилона: получив отдых только от ратных, но не от любовных трудов, он приехал, чтобы применить к делу добрые советы Люцидана, и увивался вокруг матери с таким рвением, что дочь видела в его тонкой затее одну лишь глупость, которую объясняла ребяческой или деревенской застенчивостью, и, глубоко обиженная его неуважением, обходилась с ним насмешливо и презрительно.
Воздав маркизе все должные почести, сеньор д'Алегр стал оглядываться по сторонам, но внезапно был лишен всякой свободы действий, ибо его блуждающий взор приковала к себе красота юной принцессы. Сразу догадавшись, что общество, увлеченное беседой, забыло о ней и оставило ее без внимания, он поступил по обычаю французов: немедля, как велел ему долг, подошел ближе и обратился к ней со столь изысканной речью, что принцесса искренне обрадовалась своевременному его появлению, вознаградившему ее за неучтивость Адилона. И хотя благородная осанка и отменные манеры д'Алегра, говорившие о знатном происхождении и хорошем воспитании, равно как его платье и уважение, которое оказывал ему сеньор Гонзага, отличали его перед всем обществом (находившим довольно странной ту поспешность, с какою он, нарушив местные обычаи и, паче того, рассердив ревнивого принца, подошел к инфанте), – все же очарование его прекрасной юности внушало приязнь каждому и настолько пленяло любое сердце, что зависть волей-неволей должна была склонять голову.
Весьма весело проведя эту часть дня, маркиза стала просить брата и сеньора д'Алегра ехать в Мантую вместе с ней. Те охотно согласились, движимые разными чувствами: мессеру Гонзага хотелось, чтобы пленнику было о чем рассказать во Франции, а д'Алегру – продолжить успешно начатую беседу. И когда они пустились в путь, Амур, не покидавший очей прекрасной Кларинды, ранил нежное сердце ее нового подданного так глубоко, что исцелила эту рану только смерть, о чем вам и предстоит узнать. Но хотя бедный влюбленный имел множество собратьев по несчастью (ибо сраженным любовью к этой красавице не было числа), он обрел право утешить себя тем, что никто не разделил его славы: только ему, самому счастливому и удачливому, довелось нанести ей ответный удар.
И если удар, потрясший грудь рыцаря, был сокрушителен и опасен, то не осталась невредимой и юная принцесса; обходительность нежданно встреченного ею д'Алегра поразила ее столь глубоко, что она поневоле начала понимать, что такое любовь. Внимательно отмечая про себя несметные достоинства и доблести этого французского дворянина и тайно их сравнивая, она не знала, чем больше восхищаться, – однако ясно видела, что нельзя помыслить более высокую степень человеческого совершенства. И, не имея сил утаить благосклонность, выражавшуюся на ее лице (которое, к счастью д'Алегра, не было закрыто), она, хотя не сказала и слова, внушила ему смелость поведать ей о начинающемся недуге, чтобы исцелить его скорым врачеванием. Тогда, влекомый надеждой на снисхождение, которое сулила ему эта нежная красота (причина его мук и вместе с тем единственный источник возможного избавления от них), он, ободряясь красноречивым ее взором, придававшим ему некоторую уверенность, расторг узы, коими связала его язык робость, враждебная всякому успеху, и, глубоко вздохнув, сказал:
– Ах, сударыня, где мне найти слова, чтобы должным образом возжаловаться на мою жестокую судьбу! Мало ей было разлучить меня со всеми родственниками и друзьями, не оставив никакой возможности узнать, чем кончилась для них грозная битва, в которой едва ли могли они спастись (ведь там пали все лучшие бойцы); мало и того, что сам я, раненый, был увезен на чужбину человеком, искавшим моей гибели: сегодня, решив добить несчастного, она лишила меня последней надежды на счастливое освобождение, которое могло бы возместить мои утраты. Ибо вот уже несколько часов, как она без всякой жалости отдала меня в рабство вашей блистательной красоте, и, до сих пор быв пленником лишь телесно, я отныне пленен не только телом, но и душой, причем плен этот так крепок, что я уже не жду избавления и готов довольствоваться той свободой, какую ваше нежное сердце почтет за благо мне всемилостивейше даровать. Я настолько зачарован вами (простите мою откровенность), что, как человек, которого перед отсечением больного члена усыпили мандрагорой,[489]489
Мандрагора – таинственное растение, якобы обладавшее различными замечательными свойствами (оно считалось надежным приворотным зельем, усыпляющим средством и т. п.).
[Закрыть] вовсе не ощущаю страданий; напротив, в бедствии моем нахожу я высшую отраду, и мне кажется, в этом мире нет более высокого наслаждения, чем моя мука, нет свободы восхитительнее, чем суровое заточение под надзором моей прекрасной стражницы, и нет в жизни удовольствия, сравнимого с тем счастьем и блаженством, какие провижу я в гибели, уготованной мне любовным служением.
С этими словами он устремил на принцессу столь жалобный взор, что, утратив дар речи, она не могла молвить и слева, как те, у кого от неожиданности перехватывает дух. И, не имея сил отвечать, пылкая инфанта нежно сжала его руку, вполне ясно выразив этим немым языком, каким смятением объята ее душа. Тогда влюбленный, снискавший первую милость, ощутил в боках шпоры и, переведя воспаленное страстью дыхание, продолжил свою речь:
– О боже, сколь диковинный случай – и неожиданный, и благоприятный – привел охотника (кому предуказано ловить) в такое место, где он сам был пойман прекрасными сетями, расставленными могущественной охотницей, которая своей божественной властью заставила меня уподобиться несчастному Актеону,[490]490
Актеон – герой древнегреческой мифологии, охотник, случайно увидевший Артемиду (Диану) обнаженной, за что был превращен в оленя и растерзан своими собственными собаками.
[Закрыть] – с тем различием, что Актеон, увидевший Диану нагой, был превращен, а я, хотя увидел вас одетой, – порабощен. И поэтому я думаю, что узревший вас без одежд стал бы недвижным камнем, как те, кто смотрел на Медузу.[491]491
Речь идет об очень популярном древнегреческом мифе об одной ив Горгон – женщин-чудовищ, чей взгляд превращал в камень.
[Закрыть] Право, я никогда не верил прежде, что возле источников можно и в самом деле встретить нимф и дриад, и не мог предполагать, что такая встреча грозит бедою. О сеньор Балеас, не бойтесь отныне, что я выскользну из-под надзора и убегу на родину: красота вашей племянницы надежно приковала меня к этим местам, и я не нуждаюсь в ином стороже, нежели ее взор. Некогда греки, отведавшие на чужом острове лотоса, пристрастились к этому яству и утратили желание возвратиться домой; точно так же и я, вкусив сладких чар, струящихся из ее прекрасных очей, предпочту смерть разлуке с нею. Вот как дорого заставляете вы меня платить за ваши благодеяния, ужесточив условия моего освобождения вопреки военному закону, да и собственному вашему слову, которое были обязаны держать. Ведь от вас я мог уйти, отдав какой-то денежный выкуп, а из этого плена (молвил он, глядя на принцессу) я буду вызволен и спасен только ценою жизни. Ах, сударыня, могло ли меня, несчастного, постигнуть более страшное бедствие? Не испытываете ли вы ко мне хоть небольшую жалость и сострадание? В вашей власти утешить меня, и я умоляю вас сделать это как можно скорее, если вы хотите сохранить жизнь верному рабу, которым, напав из засады, завладели ныне, словно птицелов птичкой, погубленной непроворными крыльями.
На это прекрасная инфанта отвечала с ласковой улыбкой:
– Но, монсеньор, я не понимаю, почему, попав из-за превратностей войны (где ничего не случается только с трусами да подлецами) в плен к моему дяде, вы так сетуете на судьбу: в лучших руках вы не могли очутиться. Неудача эта, мне думается, лишь умножает вашу славу, потому что вас, как и других отважнейших и доблестных французских воинов, взял в плен тот, кто лучше всех в Италии владеет оружием. И еще более непонятны мне ваши жалобы на меня, ибо я отнюдь не намереваюсь давать к этому повод; напротив, я возблагодарила бы судьбу, если бы она позволила мне показать вам мою благосклонность, которую вы сможете оценить при удобной возможности; я же буду искать такую возможность всю мою жизнь, и когда бы она ни представилась, не сочту, что это случилось слишком рано. Ибо ваша удивительная любезность, которую я смогла узнать и в это краткое время, властна преодолевать злонамеренность самых бесчеловечных людей и покорять самые варварские сердца; так что не знаю, какой епитимьей или, лучше, какой казнью я покарала бы (будь я судьей) того, кто осмелился бы причинить вам даже малое огорчение, – если, конечно, сыскался бы в мире такой изверг.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































