Текст книги "Тем более что жизнь короткая такая…"
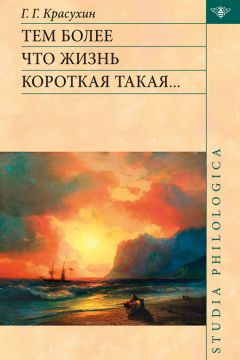
Автор книги: Геннадий Красухин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
2
Я всегда оживлялся, когда в газету приходил прекрасный критик Станислав Рассадин. Вычитав гранки очередного своего блистательного фельетона и дождавшись конца моего рабочего дня, он вместе со мной выходил из здания. Мы шли по Цветному, Рождественскому, Тверскому, Суворовскому и говорили, говорили, говорили. Сворачивали к Библиотеке Ленина, где Рассадин садился на троллейбус, который вёз его на Ленинский проспект, а я шёл домой на Арбат.
Говорили, конечно, не всухую. Покупали пару четвертинок и по пути заходили в подъезды домов, отхлёбывая водку.
Рассадин жил на Воробьёвском шоссе, которое окрестные жители называли «Воробьёвкой». Потом его переименовали в улицу Косыгина. И в полном соответствии с речевыми и психологическими законами её окрестили «Косыжкой».
Нас связывали не просто профессиональные интересы и приятельство, нас связывала дружба.
Я и сам не заметил, как оказался в сильнейшей зависимости от его манеры мыслить и выражать эти мысли. Для меня он был Мастер, и я охотно пошёл к нему в подмастерья.
Я помню, как однажды Лёня Миль привёл меня в комнату Юрия Домбровского на Сухаревке, где среди прочих гостей сидел писатель Юрий Давыдов, только что издавший какой-то исторический роман и подаривший его Домбровскому. Юрий Осипович надел очки, полистал книгу и, сказав: «Слушай, да ты же написал прекрасную прозу!» – стал её читать вслух. Проза звучала действительно очень поэтично. Я посмотрел на Юру Давыдова. Он побледнел и сказал Домбровскому: «Хватит паясничать!» «Ну, как хочешь», – согласился тот и снял очки. Оказалось, что Юрий Осипович Домбровский читал не текст Давыдова, а отредактированный им самим – на лету.
Сказать Рассадину так же, как Давыдов Домбровскому, у меня не хватало духу. Как правило, мы с ним уезжали работать вместе. То есть в свой зимний отпуск я брал путёвку в тот же Дом творчества, куда и он с женой Алей (чаще всего это были Дубулты). Он писал помногу – иногда до печатного листа в день! И при этом по нескольку раз в день заходил в мой номер, читал написанное мною, зверски меня ругал, а чаще всего – вырывал лист из машинки, вставлял чистый и переписывал мои мысли.
Я ощущал себя третьеразрядником, которому ставит руку гроссмейстер. Я малодушно принимал всё им написанное, объясняя самому себе, что лучше всё равно написать не смогу. И в результате стал так же в нём нуждаться, как наркоман в дозе. Да, у меня началась самая настоящая творческая ломка. Любую реплику, любую маленькую заметку я прочитывал ему по телефону и нередко послушно рвал, слыша от него жёсткое: «Выкинь это в корзину!»
Всё написанное мною до нашей встречи со Стасиком мне казалось ужасным (это так и было!). А подтянуться до уровня его профессионализма я не только не мог, но ощущал, что не смогу никогда. Наше странное (очень-очень мягко говоря) «соавторство» стало приносить душевные муки. Сам удивляюсь, что меня оно не сломало психически. Но поломало изрядно.
Однажды в тех же Дубултах на совещании молодых критиков, куда я, только что принятый в Союз писателей, поехал помощником руководителя семинара, на обсуждении какой-то моей статьи критик Иосиф Львович Гринберг сказал, что она очень напоминает ему по стилю статьи Станислава Рассадина. Я усмехнулся про себя: напоминает? Да она практически вся им переписана!
В своё оправдание скажу, что я любил Стасика. И моя любовь к нему была совершенно бескорыстна. Я восхищался им, гордился дружбой с ним и прощал присущую ему по отношению к друзьям (и значит, ко мне тоже!) хамоватость не потому что зависел от него, а потому что объяснял себе это бронёй, в которую человек вынужден облачать свою очень легко ранимую душу.
Оглядываясь назад, я ничего, кроме благодарности, к Рассадину не испытываю. Его жёсткая, даже жестокая школа помогла мне в обретении профессионализма. И мне трудно представить, что было бы со мной, не встреться на моём пути этот глубоко когда-то во мне заинтересованный человек.
Правда, его хамоватость постепенно подтачивала нашу дружбу. Если ему не давали отпор, он мог распоясаться не на шутку.
Помню, как мы с Беном Сарновым и Лазарем Лазаревым поехали в Дом творчества «Малеевка», где Стасик жил с женой Алей и куда он пригласил нас на своё сорокалетие.
Жива была ещё Галя Балтер, вдова недавно умершего Бориса, и мы втроём заночевали у неё в деревне Вертошино, рядом с Малеевкой, в доме, который построил Борис. Всех удивил Булат Окуджава. Приехал на своём «жигулёнке», поцеловал Стасика, подарил ему забугорную книгу со статьями русских философов и не стал дожидаться, когда все рассядутся вокруг стола, попрощался и поехал обратно.
– Трогательно! – сказала Инна Лиснянская.
– Понимает значение юбиляра! – отозвался Семён Израилевич Липкин.
И когда стол был наконец накрыт и все уселись, Семён Израилевич встал и провозгласил:
– День рождения Станислава Борисовича Рассадина – праздник на улице русской литературы.
– Примерно такой же, как день рождения Белинского, – уточнил Лазарь.
– Поднимай выше, – не согласился Бен, – как день рождения Пушкина!
За столом смеялись. Липкин пожал плечами, выпил и сел. Аля строго смотрела на гостей, а Стасик веселился. Пил он много. Друзья считали, что ему повезло с женой, у которой почти отсутствовало обоняние. Стасик наливал себе водку в рюмку и, скосив глаза на жену и убедившись, что она не видит, – в фужер для воды. А потом осушал и то и другое. Осушал и становился не то, что агрессивным, но сверхнасмешливым. Произносил тосты. Предлагал выпить не просто за «здоровье такого-то», а за «здоровье такого-то, у кого побледнели щёки». Или «кто так надсадно сегодня кашлял и шмыгал носом», или «кому давно уже нужно обратиться к врачу, потому что – что поделаешь, мы не вечны!» Перебивал гостей, становился невероятно шумен. «С бородавкой на носу жрёт чужую колбасу», – показывал он на сидящего за столом человека с бородавкой на носу. «Лысину как ни зачёсывай, всё равно не зачешешь», – говорил он о другом госте. «Облевал мне весь диван», – рассказывал он давнишнюю историю о юношеской попойке со своим товарищем, который сидел тут же. За столом воцарилась напряжённая тишина. Но Стасик её не слышал. Выпив ещё несколько рюмок водки и запив их ещё несколькими фужерами водки, он веселился всё пуще, цеплялся к друзьям, которые, по его мнению, рассказали только что историю «на троечку» или «ха-ха-ха! Да ты у нас, оказывается, юморист! Я чуть не умер от смеха». И только по возрастающей шумности мужа Аля понимала, что Стасик выпил.
А на следующий день, когда мы трое собирались в Москву, Стасик отозвал меня в сторону и тихо сказал:
– Я на тебя в обиде.
– За что? – удивился я.
– Липкин произнёс замечательный тост. Бен и Лазарь обхамили и его, и меня, а ты, мой лучший друг, за меня не вступился.
Я понял, что Аля рассказала ему о том, что было вчера.
– Ну, ты им сам воздал сторицей, – сказал я.
– Завистники! – прошипел Стасик.
Но этим дело не кончилось.
Приехав недели через полторы из Малеевки, он пожелал встретиться у меня дома с Юрой Давыдовым, который – не помню почему – не смог быть у него на юбилее.
Стасик и ему пожаловался на Бена и Лазаря.
– Жаль, что тебя не было, – сказал он Юре. – Ты бы им показал!
– Да, я бы сказал: ребята, вы что с ума сошли! – неуверенно проговорил Юра. Я понял его неуверенность. Ничего бы он говорить не стал: друзья Стасика попросту скопировали Стасикину хамоватую манеру общаться.
Эта манера очень смешила его жену, Алю, но отталкивала от него друзей. Первым не выдержал Вася Аксёнов. Он опубликовал в «Литературной газете» рассказ «Ранимая личность»:
Ничем особенным не выделялся среди нас Стас Рассолов. Ну, талант, ну, физическая сила, ну, внешние данные… Никого из нас этими качествами природа не обидела. Одно только было у него особенное, личное, своё – невероятная, жгучая ранимость. Без кожи был человек; разумеется, фигурально, на самом-то деле кожа у Стаса была отменная, хоть подмётки штампуй.
Помню пикник. Над лазурными водами Кратовского водохранилища это было. Леночка Рыжикова, юная балерина, вся сияла, вся трепетала, никак не могла успокоиться: вчера у неё был дебют в одном из крупнейших театров республики. Все её расспрашивали, шумно восхищались, все трепетали синхронно. Один лишь Стас Рассолов, красный от смущения, налегал на сорокапроцентные сырки «Новость», на охотничьи сосиски, на морской гребешок, на копчёную глубоководную нототению, на маслины, окорок, грудинку, сало, сдабривая всё это пивом, ркацители, старкой, крюшоном. Говорят, что так бывает – от нервов…
Наконец, уловив паузу в общем восторженном разговоре, Рассолов уставился на Леночку и прогудел через силу:
– Как же, как же… Был я вчера в театре, видел, как ты там резвилась с изяществом бегемотицы. Нет, мамаша, не лезь ты в балет со своими данными. Твоё дело – четыре “К”: киндер, кюхе, клайде, койка <…>
Дева ударилась в слёзы <…>
– Леночка, не обижайся на Стаса. Это он не от хамства, это от смущения. Ты же знаешь, какая он ранимая личность.
Мы оглянулись. Стас сидел над разорённым пикником, курил толстую папиросу и стряхивал пепел в водохранилище. Огромная его фигура была так одинока в этот момент, что у каждого сжалось сердце.
– Пойдёмте к нему, – прошептала Леночка.
И, рассказав ещё несколько историй про критика Рассолова, Аксёнов заканчивает:
И вот мы состарились. Однажды собрались в Тимирязевском лесопарке и сели в кружок, оплывшие, полубольные. Спели хором какой-то старинный «хали-гали» (Стас при этом голосил «Ладушку»), а потом замолчали, задумались.
– Скажи, Стас, – сказал я, – вот ты всю жизнь обижал нас, оскорблял, издевался… ведь это же, Стас, у тебя не от хамства – правда? – это у тебя от какой-то глубокой внутренней ранимости, да?
– Пожалуй, вы правы, друзья, – тихим необычным голосом произнёс Рассолов. – Пожалуй, это у меня от ранимости… – он ещё подумал с минуту. – А впрочем, должно быть, вы ошибаетесь, друзья. Скорей всего, это у меня от хамства.
Аксёнов напечатал этот текст в «Клубе 12 стульев» в 1970-м году. Эффект от рассказа превзошёл все ожидания. Стасик плакал. Аля звонила Васиной жене Кире и вопрошала: «Как он мог?» Кира бросила трубку.
Много позже Стасик высказывал сожаление о прерванной дружбе с Аксёновым. Но она так и не восстановилась до самой их смерти.
О том, как Стасик расстался со своим ближайшим другом и соавтором Бенедиктом Сарновым, знало всё окружение Рассадина из писем, которыми тот заваливал Бена. «Переписка Белинского с Гоголем», – насмешливо окрестил их Лазарь Лазарев. Как описал Рассадин, толчком к разрыву их отношений послужила сцена в доме Сарнова, куда вместе с четой Рассадиных был приглашён находившийся тогда в Москве американский профессор-славист. «О, Джон, сейчас вы увидите, как пьёт настоящий русский мужик», – якобы произнёс за столом Бен. «Ну как, Джон, убедились, как перегнали вас русские по части выпивки?» Насколько можно было понять из письма Рассадина, обед у Сарнова закончился мирно и приязненно. Неприязнь Стасик ощутил на следующий день, когда бросился к пишущей машинке, чтобы начать серию своих обличений. Хорошо его зная, я понял, что в этом свою роль сыграла его жена. Выпивающий Рассадин мог и не услышать Бена, но непьющая жена Стасика Бена не услышать не могла. Бен просто пародировал Стасика. Но эта пародия Алю не рассмешила. С её подачи рассорились друзья до самого конца жизни её и её мужа.
Намечалось 60-летие моего друга. И я в своей газете «Литература» в нашем «Литературном календаре» написал заметку об этом событии и подарил ему газету, надеясь его обрадовать.
Но не тут-то было. Заметка его разозлила.
– Вот ты пишешь «видный», – сказал он мне. – Но ведь и Аннинский «видный», и Золотусский. Ты уравниваешь меня с ними.
– А что же я должен был написать? – удивлённо спросил я.
– «Выдающийся», «замечательный», – уверенно ответил Рассадин, – «превосходный», в конце концов.
– Или вот: «Написанные вместе с Бенедиктом Сарновым и Лазарем Лазаревым пародии вошли в золотой фонд русской литературы». А мои книги о драматурге Пушкине, о Фонвизине, о Сухово-Кобылине туда не вошли? А книга о спутниках Пушкина этого не достойна? Ты сделал из меня средней руки литератора. Спасибо, конечно, за заметку. Но от тебя я ожидал большего понимания.
«Восхищения», – мысленно перевёл я его «понимания» и обиделся.
Нет, это было более сложное чувство, чем просто обида. У меня не поднялась бы рука записать названные им книги в золотой фонд литературы. Наоборот. Они не выдерживали сравнения с его критическими книжками, свидетельствуя, что он не был литературоведом и брался не за своё дело, обращаясь к классикам. У него не хватало времени, чтобы углубиться в их творчество. Ведь заключая договоры на книги с издательствами («Искусством», «Книгой»), он старался уложиться в назначенный ему срок, чтобы, сбросив с плеч эту работу, тут же приняться за статьи в те газеты и журналы, которые его привечали.
– Что ты хочешь? – говорил он мне в ответ на моё удивление: куда он так торопится. – У нас большие расходы. Мясо мы покупаем только на рынке. Каждый год, слава Богу, ездим в туристскую поездку за границу: то в социалистическую страну, то в капиталистическую. А камушки Але, которые она обожает?
– Мы не пойдём к Рассадину, – объявил я жене, собиравшейся вместе со мной идти к нему сегодня на день рождения, и объяснил, в чём дело. Марина согласилась. Но что придумать? Какой найти повод для отказа?
И Рассадин, и его жена были людьми, мягко говоря, экономными. Человека незваного привести к ним в дом было нельзя: упрёков с их стороны потом не оберёшься: дескать, надо было предупреждать, мы не рассчитывали, пришлось урезать у других, которым не хватило и т. п. Но и непоявление в их доме двух приглашённых гостей вызывало у них почти такое же недовольство: для чего тогда нужно было тратить всю заранее тщательно подсчитанную сумму?
– Скажу, что у меня прихватило сердце, – придумал я не такую уж неправдоподобную причину, если учесть, что несколько лет назад я перенёс инфаркт.
Рассадин на эту новость отреагировал сухо. Наши отношения стали сворачиваться. Встречались мы только случайно – на каком-нибудь мероприятии или в ЦДЛ на чьём-нибудь вечере.
Несколько лет, правда, мы два раза в месяц заседали в филологической комиссии Фонда Сороса «Открытое общество», где оба числились экспертами. Но и речи не было, чтобы идти вместе к метро после заседания. Хотя в выборе номинантов на грант были, как правило, единодушны. Впрочем, почему «хотя»? Мы ведь во многом оставались единомышленниками.
Изредка перезванивались. Обычно на дни рождения друг друга. Но поздравления были сдержанны, никаких приглашений за ними не стояло.
А потом случилась беда.
Рак у его жены нашли ещё в те времена, когда отношения наши были дружескими. Тогда же ей сделали операцию, и болезнь так долго не давала о себе знать, что казалось: всё обошлось, как это редко, но бывает. Они много ездили, жили у друзей в Польше. А через какое-то время, когда мы уже не общались, до меня дошли слухи, что у Стасика тяжёлая форма диабета и как следствие его – плохое кровообращение в конечностях. Его положили в больницу. Мне захотелось его навестить. Мы с Мариной увидели совсем другого человека. Он был нам так рад, что это нас растрогало. Мы окунулись в прежние добрые дружеские отношения. Он сказал, что Аля в очень плохом состоянии, – чего мы не знали, – ей без него плохо приходится, и попросил Марину навестить её. Они были одиноки: старых близких друзей вокруг почти не осталось. Марина навестила её и увидела, что Аля отрешённо лежит, иногда плачет. Со своей подругой Марина отвезла её в онкоцентр на Погодинскую улицу, где она состояла на учёте. Ей предложили лечь в больницу, от чего она с ужасом отказалась. Марина была с ней согласна, потому что хорошо узнала, что это за больница, посещая умиравшую знакомую.
У Стасика дела шли тоже неважно: ему ампутировали большой палец правой ноги. Врачи надеялись остановить распространение гангрены. Я ежедневно наведывался к нему в больницу. И наши отношения обрели давнюю теплоту. Его жена об этом говорила как о чуде: «Даже рубца не осталось!» – имея в виду, что дружбу нашу не отличишь от той, что была полтора десятилетия назад. Я её, конечно, не разочаровывал, хотя, если честно, прежней любви к Рассадину не испытывал, испытывал острую жалость.
Впрочем, на этот раз всё продолжалось сравнительно недолго. Але стало совсем плохо, и её положили в платное отделение Центральной клинической больницы на Рублёвке. Меньше чем через неделю в Институт хирургии имени А. В. Вишневского у метро «Серпуховская» мы отвезли Стасика: гангрена разрасталась. Перед уходом он дал мне несколько увесистых пакетов. «Пусть будут у тебя, – сказал он, – отдашь, когда выйду». «Что это?» – спросил я. «Деньги», – ответил он. И добавил, что это скопленное его женой. «Она аккуратистка, всё у неё на своих местах. Видишь: здесь всё по 50 долларов. А здесь всё по 100. А в этом пакете – рубли: только пятитысячники. Здесь всё по 1000 рублей. Ну и так далее».
Мы с женой в чужом кармане деньги считать не стали. Завернули все пакеты в большой лист бумаги и спрятали.
«А что я тебе говорил? – сказал я жене. – Можно было ей верить?»
За то время, пока Марина, моя жена, возила Алю к врачам, помогала ей по хозяйству, та, как о величайшем горе, рассказывала, как они со Стасиком пережили гиперинфляцию начала 90-х: «Деньги превратились в пыль. Есть было нечего. Купить было не на что». Я и тогда слушал передаваемые мне рассказы с большим недоверием. Рассадин был очень состоятельным литератором. При советской власти за авторский лист (24–25 страниц машинописного текста) платили по 300 рублей при определённом тираже и существенно больше, если тираж увеличивался. Толстые, листов в 20–30, книги Рассадина выходили большими, иногда даже массовыми (а это удвоение гонорара) тиражами, а книга о декабристе Гербачевском была выпущена Госполитиздатом и вовсе тиражом, в четыре раза перекрывавшим массовый. Не говорю уже о его многочисленных выступлениях в печати. В 1995-м году он стал председателем жюри премии «Русский Букер» и, как все прежние председатели, опубликовал свой пресс-релиз: 40 книг и больше 1000 статей. Все изумились подобной продуктивности.
Нет, разумеется, инфляция его сильно обеднила. Но не до нищеты, не до голода. Так что Аля явно преувеличивала несчастье. В этом смысле она напоминала мне одну мою родственницу, которая железной рукой изымала из семейного бюджета около половины, заставляя семью жить на оставшиеся деньги. Так ежегодно скапливались немалые суммы, которые родственница тратить не любила. И очень сильно переживала, если обстоятельства заставляли её потратиться. До распада СССР она не дожила. Но если б дожила, думаю, вела бы себя, как Аля, которую вовсе не утешало, что её муж не снижал творческой активности, писал и печатал статьи и рецензии, выпускал книги и при этом брался за любую подёнщину вплоть до составления театральных буклетов. Деньги в дом Рассадин приносил, но жена его никак не могла успокоиться по поводу очень большой потери. «Если б ты видела, сколько она оставила на вкладах!» – сказал нашей общей приятельнице Стасик, когда после её смерти, быть может, впервые разглядел сберегательные книжки.
Да, на Рублёвке его жена лежала недолго. Узнав о её смерти, мы на время панихиды и поминок забрали Стасика к себе. Всё происходило быстро. Вечером в пятницу Стасик покинул больницу. А в понедельник я отвёз его назад. Не знаю, заметили ли врачи его отсутствие, хотя столько разных дел втиснулось в этот короткий промежуток времени, вплоть до приёма у нас его гостей, что мне этот временной отрезок показался весьма вместительным.
Расставаясь у дверей больницы, он поднял на меня глаза, полные слёз, порывисто обнял и сказал: «Поверь мне, я никогда не забуду всё, что вы с Мариной для меня сделали!»
Но впереди его ждали ещё большие трудности. Как ни старались врачи спасти хотя бы его ступню, сделав её беспалой, гангрена распоряжалась его ногой по-своему. Чтобы остановить её, пришлось отрезать половину правой голени. Стасик становился совершенно беспомощным.
Нужно было забирать его из больницы и везти в квартиру, довольно запущенную из-за длительной болезни его недавно умершей жены. Всё это было очень тяжело и в какой-то момент показалось безысходным: самостоятельно Стасик жить в ней не мог. Во-первых, квартиру нужно было привести в порядок, во-вторых, найти человека, который бы ему готовил и помогал существовать.
Нашли людей, которые вымыли квартиру, пропылесосили мебель и открытые книжные полки, а когда речь зашла о сиделке, жена предложила Свету.
Та была прежде сиделкой престарелого отца нашей однокурсницы, уехавшей с семьёй в Америку. Света производила и на однокурсницу, и на её подруг, в том числе и на мою жену, впечатление добросовестного человека. Со стариком было непросто: у него пошатнулась психика, и он порывался убегать из квартиры, гневался, замахивался палкой. Но до своего слабоумия он был общителен, и это он познакомился со своей будущей сиделкой в подземном переходе под Смоленской площадью, где она торговала овощами. Эта женщина приехала в столицу из Житомира зарабатывать деньги. Но её «работа под землёй», как она говорила, была очень тяжёлой: с утра до вечера, со льстивыми улыбками и взятками милиционерам. Выяснилось, что Света снимала угол в том же доме на Смоленской улице, что и отец нашей однокурсницы. Она охотно согласилась быть сиделкой у больного старика, потому что любые обязанности для неё были гораздо легче, чем «работа под землёй».
Но проработала она у него несколько месяцев: старик умер. Понятно, что идти к Рассадину в сиделки она согласилась с энтузиазмом. И не отпугнуло её, что больной лежачий, что пройти он не может ни шага, что на неё лягут заботы не только о его хозяйстве, но и о его гигиене. Она лучилась улыбкой, счастьем, знакомясь с Рассадиным. И он, абсолютно доверявший моей жене Марине, легко согласился на рекомендованную ему сиделку.
Купили костыли. Я подарил Стасику эспандер, чтобы накачивал руки, на которые должна была падать дополнительная нагрузка. Но эспандером он занимался поначалу и неохотно. Что же до костылей, то, встав на них однажды и не удержавшись на них, он забросил все тренировки, раз и навсегда отказавшись от попытки двигаться самостоятельно.
Чем возмутил Лазаря Лазарева, его старого товарища, инвалида войны. «Что за безволие, – говорил Лазарь. – На войне в госпитале на костыли ставили почти сразу же после операции. Через три месяца люди уже шагали на них».
Теперь-то я думаю, а что если б у Рассадина не было Светы? Что если б его сиделка была приходящей? Встал бы он на костыли? Наверняка! Жизнь заставила бы!
Почему никто из нас не догадался посоветовать ему купить инвалидную коляску, чтобы хотя бы выезжать на балкон, передвигаться по квартире? Наверное, потому, что квартира была маленькая с коридором, заставленным книжными полками, и крошечной кухней. Потребовалось бы отодвинуть в сторону или даже выбросить кое-что из мебели? Ну, и выбросили бы, чтобы дать ему возможность выезжать на кухню, в уборную, в ванную, в бывшую Алину комнату, которую теперь занимала Светлана, чтобы он смог увидеть то, чего больше никогда не увидел: чем занимается Светлана, когда она выходит из его комнаты. А так он оказался в вечном заточении на тахте рядом с письменным столом. Он пододвигал к себе компьютерное кресло, прыгал в него и отъезжал к столу, где стоял, однако, не компьютер, на котором работать он не выучился, а старая пишущая машинка. На ней он по-прежнему быстро выстукивал все свои статьи, в основном для «Новой газеты», где состоял в штате.
Главный редактор Дмитрий Муратов, заместитель Олег Хлебников нередко навещали тяжело болевшего сотрудника, которого часто премировали за лучший материал. В «Новой» он работал обозревателем, вёл постоянную рубрику «Стародум». Сказать, что все его статьи соответствовали заявленной мудрости фонвизинского Стародума, пожалуй, нельзя. Но что можно было требовать от человека в состоянии Рассадина? Тем более что слог у него оставался по-прежнему узнаваемым, рассадинским, и Муратов считал эту рубрику украшением газеты.
Конечно, Светлана поначалу обомлела от мира, который окружал Стасика. Ей и во сне никогда не могло привидеться, что через порог квартиры переступит в открытую ею дверь Михаил Козаков. Анатолия Адоскина или Владимира Рецептера она вряд ли раньше знала, но в их оживлённых рассказах за накрытым ею столом мелькало столько знакомых Светлане имён и фамилий. Да и по каналу «Культура» иногда показывали самого Рассадина, ещё относительно здорового, беседующего об искусстве, литературе или о том или ином художнике. А звонки из редакций и издательств Стасику с просьбой написать для них? А приезжавшее к Рассадину телевидение? А шумные застолья, на которые собирались рассадинские друзья (их оставалось немного, в основном это были вдовы друзей) и где Стасик не просто царил, но, к моему огорчению, снова начинал хамить, что (это чувствовалось) возвышало его в глазах Светланы.
Разобралась Света и с гостями из «Новой газеты». Легко поняла, кто спонсирует Рассадина. И приняла Хлебникова и Муратова как очень большое начальство. «Вчера был Муратов», – значительно сообщала она по телефону. «Всю ночь сидели с Хлебниковым, читали стихи», – извещала она меня в другой раз.
Ладно. Чтобы не затягивать этот рассказ, скажу, что Светлана постоянно носила на почту и отправляла из его дома посылки в Житомир, объясняя нам, что отсылает Алино тряпьё.
Когда-то Стасик написал рецензию на художественную книгу врача Тополянского, и Светлана теперь звонила ему при каждом проявлении симптома Стасикиной болезни, хотя что мог Тополянский, который был психоматиком. Он советовал вызвать врача из поликлиники или положить в больницу.
В больницу ложиться Стасик отказывался категорически. В результате инсульт перенёс дома, став совсем уже слабым.
Всю инициативу по поддержанию его связей с людьми взяла на себя Светлана. Как правило, она отвечала, что Рассадин отдыхает и что она передаст, что вы ему звонили.
Марина подрядилась снабжать его чтением. Чаще всего, мемуарами современников. Мемуарную литературу нам регулярно приносил друг нашего дома. Рассадин охотно взялся за мемуары. Не пускать Марину в дом Светлана не посмела.
Но вот я подменил больную Марину, принёс Стасику книги, о чём известил его по телефону, и набрал код подъезда. Никто не отозвался. Я снова набрал код. Дверь открылась, но не механически, а человеческой рукой. На пороге стояла Света.
– Спасибо, Геннадий Григорьевич, – сказала она. – Давайте книги. Станислав Борисович недавно заснул. Я передам ему.
– Но мне хотелось бы подняться, – сказал я. – Мы давно не виделись со Стасиком. Посижу, подожду, когда он проснётся.
– Он очень плохо спал ночью, – говорила Светлана, принимая у меня книги. – Так что Вам лучше зайти в другой раз.
– Но, – попытался возразить я. Однако Светлана отступила вглубь и захлопнула дверь.
Я позвонил Рассадину назавтра. И услышал от Светы, что он плохо себя чувствует и что она передаст ему, что я звонил.
– Не хочет в больницу, – в очередной раз говорила мне Светлана. – Опять всю ночь не спал. И я не спала: занималась его ногой. Спасибо, Миша помогает: ходит по магазинам, покупает продукты. – И вдруг:
– Был нотариус, выписал на Мишу генеральную доверенность от Станислава Борисовича на все его вклады. Это очень удобно.
Я не стал спрашивать Светлану, каким образом удалось ей фактически отменить завещание, поскольку деньги были оставлены Рассадиным не Светланиному сыну Мише. По завещанию Стасик оставлял ей только квартиру, да и то не со всеми вещами. Например, написанный Биргером их семейный портрет он оставлял своему питерскому другу поэту и актёру Волику Рецептеру, который, конечно, его не получил. Раздавал он друзьям и кое-какие книги. В частности, энциклопедию Брокгауза и Ефрона. Аккуратист, он ещё перед госпиталем тщательно пересмотрел свой архив, разложив его по папкам, но отказался от моего предложения отдать его в ЦГАЛИ. Сказал, что будет думать, кому его оставить.
Позже мы узнали, что, не дожидаясь кончины благодетеля, Светлана и Миша купили под Москвой садовый участок с домом.
Стало ясно, что мать с сыном обворовывают тяжело больного хозяина, о чём он не подозревает.
Наверное, надо было вмешаться в ситуацию, но что мы могли сделать? Светлана никого к Стасику не подпускала и телефонную трубку ему не давала.
После Стасикиной смерти Волик Рецептер захотел написать книгу о нём. И попросил у Светланы свои письма к Стасику. Она долго водила его за нос. Наконец, выдала несколько, сказав, что ничего больше нет.
Муратову и Хлебникову, впрочем, дала на полосу часть переписки Рассадина с Липкиным – так «Новая газета» отметила 80-летие своего покойного сотрудника. Разумеется, заплатив за это Светлане.
Я знаю, какой архив Рассадина достался Светлане. И понимаю, что даром она с ним не расстанется.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































