Текст книги "Тем более что жизнь короткая такая…"
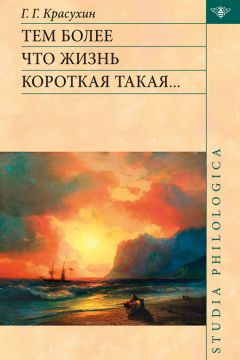
Автор книги: Геннадий Красухин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
Часть тринадцатая
1
Мне пятьдесят один год. Я вернулся из редакции с новогоднего вечера. Через два дня наступит новый, 1992-й, год. А пока я принёс домой новогодний заказ, который оплатил в редакции.
Уже недели две, как я чувствую постоянную даже не боль, а какую-то тяжесть в правой стороне груди. Словно мне кто-то сжимает грудь рукой. Чувствую одышку, которая усиливается, если я ускоряю шаг.
Пошёл в нашу поликлинику Литфонда. Мой участковый врач обследует меня и ничего серьёзного не находит. «У Вас невроз», – успокаивает она меня. И выписывает успокоительное.
Однако успокоительное не успокаивало. А сейчас, придя с новогоднего вечера, я почувствовал, что боль усиливается.
Я разделся и лёг в постель. Но боль уснуть не давала. Наоборот. Захотелось встать и прислониться к прохладной стене. Я так и сделал. Вроде чуть отпустило. Лёг. Нет, боль продолжает мешать уснуть. Снова встал. Снова прислонился к стене. Вызвать «скорую»? Но что это даст? Принимаю «тройчатку». Прислушиваюсь: боль не стихает.
Рано утром бужу жену. Та пугается: «Немедленно вызывай “скорую”. Я её вызову сама». Не слушает моих уговоров. Вызывает. «Скорая» приезжает. Мне делают обезболивающий укол. И – о, счастье! – боль пропала!
Я благодарю врача. Но та решила везти меня в больницу. «Зачем? – удивляюсь. – У меня уже всё прошло!» «Всё-таки нужно сделать УЗИ, – говорит врач. – Да Вы не беспокойтесь, если всё хорошо, Вы вернётесь сегодня обратно».
Жена едет со мной. У меня ничего не болит. Я отказываюсь ложиться на носилки, на которых меня собираются внести в больницу. «Так положено», – говорят мне. Я ложусь. Меня вносят в приёмное отделение, заносят в кабинет. Просят раздеться. Делают УЗИ. Одежду отдают жене. А меня просят как можно меньше двигаться.
– Да что случилось? – удивляюсь я.
– Есть подозрение на инфаркт, – говорят мне.
– Но у меня боль была с правой стороны, а не с левой, – возражаю я.
– Это не имеет значения – говорят. Укладывают на каталку, везут в лифт, оттуда по коридору в палату, перекладывают на кровать и объясняют, что я в палате интенсивной терапии. Буду там три дня. Вставать мне категорически запрещено. Если что-то мне надо, я должен нажимать на звонок к сестре. Та всё сделает.
Надо сказать, что эти три дня я пролежал в полном недоумении: ведь ничего не болит, о чём я всё время говорю появляющемуся врачу. Какой же тут может быть инфаркт?
Словом, лёжа в этой палате, я встретил 1992-й год. Как раз на следующий день после встречи меня перевели в палату на двоих. Рядом ещё одна такая же палата. Дверь в коридор у нас общая. Туалет на четверых. Это удобно.
Попасть в больницу в праздники – значит, общаться только с сестрой и с дежурным врачом. Марину, мою жену, ко мне не пускают. Мы переписываемся записками, которые носит сестра.
Но вот праздники окончены. Я знакомлюсь с миловидной молодой заведующей отделением. Она мне улыбается, поздравляем друг друга с Новым годом. Она прослушивает меня.
– Какой у меня диагноз? – спрашиваю.
– Инфаркт миокарда, – отвечает.
– Но у меня ведь ничего не болит, – говорю, – может быть, всё-таки ошибка?
– Ну, какая же тут ошибка, – посерьёзнела врач. – У Вас обширный инфаркт, поэтому очень советую выполнять все наши предписания.
– А сколько мне у вас лежать?
– Если всё будет нормально, месяц!
Ого! А ведь сколько незаконченных дел на работе.
Уже потом я узнаю, что на работу попаду очень нескоро. После больницы мне выдадут четырёхмесячный бюллетень, предложат санаторий для выздоравливающих или, если я от него откажусь (а я, конечно, отказался!), провести четыре месяца дома.
Разрешили свидания. Жена приходит каждый день. Хотя я настаиваю, что не нужно ходить так часто. Питанием я обеспечен: кормят в больнице весьма сносно.
Я забыл назвать её адрес: улица Дурова. Это недалеко от Олимпийского проспекта.
Нянечка убирает наши палаты особенно тщательно. «Завтра придёт заведующий кафедрой госпитальной терапии 1-го медицинского института, при которой находится наше отделение, – объясняют мне врачи. – Это очень хороший кардиолог».
Когда он появляется, я не верю собственным глазам: Вадик Ананченко!
Вадик – его домашнее имя. Вообще его зовут Владимиром Георгиевичем. Он долгое время жил напротив нашего дома. Женился на Ляле Буковской, которая училась в нашей 653-й школе на год позже нас с Лёнькой Лобановым. Мы оба одинаково удивились, увидев её. А увидели, потому что Вадик – двоюродный брат Володи Кузьменко, мужа Инны, старшей сестры Марины.
Вадик мне рад. «Зайди ко мне после обеда», – приглашает.
Я захожу. Спрашиваю: нельзя ли мне выписаться?
– Что, надоело? – спрашивает Вадик. – Нет, брат, ты уж потерпи: инфаркт – дело серьёзное! – и вдруг предлагает:
– Выпить хочешь?
– А можно? – удивляюсь я.
– Вообще-то, конечно, нет, – говорит Вадик. – Но чуть-чуть не страшно. За Новый год.
Мы выпиваем и закусываем печеньем.
Марина очень обрадовалась, узнав про Вадика: можно из надёжного источника узнавать, как у меня дела.
Меня начинают навещать сотрудники. Рассказывают о делах в газете: Удальцов платит зарплату нерегулярно, часто её задерживая. А деньги обесцениваются с каждым днём.
Марина говорит о том, как исчезают продукты. Любопытно, что нашей больницы это как будто не касается. Все необходимые лекарства под рукой. Кормят хорошо. Я делюсь с Мариной обедом или ужином.
Приезжает Золотусский. Итак, секретариат сообщества союзов писателей утвердил Нагибина главным редактором «Новой литературной газеты», которую берётся спонсировать Боровой. Первым заместителем собираются сделать Юрия Оклянского и заместителем – Станислава Рассадина. Ищут толковых сотрудников.
Из больницы я позвонил Стасику, которому в своё время рассказывал о наших с Золотусским переговорах с Боровым.
– Пока это вилами на воде писано, – сказал Рассадин. – Но подумать надо. Дело это хорошее.
– Но ведь тип газеты придумал я!
Я действительно недоумевал. Я был убеждён, что Рассадин пригласит меня хотя бы возглавить отдел литературы. Но он возразил мне:
– Какая разница, кто придумал? Главное, кто даёт деньги! Впрочем, ничего пока не ясно.
Кончилась эта затея ничем. Прикинувший реальный объём работы Нагибин написал в секретариат сообщества письмо, в котором не просто отказался от предложенной должности, но очень рекомендовал всем вернуться к первоначальному варианту, то есть к нам с Золотусским. «Они профессионалы, – закончил Нагибин, – и у них подобрана готовая команда».
Евтушенко предложил возглавить газету кому-нибудь из «огоньковцев» – Олегу Хлебникову или Владимиру Вигилянскому. Но они на этой почве поссорились: каждый желал стать главным редактором.
(Сейчас смешно об этом вспоминать: Вигилянский уже в 1995-м году был рукоположен в священника. Семь лет возглавлял пресс-службу Патриарха, возведён в сан протоиерея, назначен настоятелем храма святой мученицы Татианы при МГУ Но прежде Вигилянский работал у Коротича в «Огоньке», был там профоргом. Да и после «Огонька» был главным редактором журнала «Русская виза», потом главным редактором воскресного приложения газеты «Московские новости». Так что в то время предложение ему возглавить новую газету было резонным.)
Долго думать секретариату сообщества Боровой не дал. «Раз у вас нет единого мнения по поводу того, кто будет делать газету, я своё предложение снимаю!»
Но нам с Золотусским эта история аукнулась и откликнулась!
Сейчас я об этом расскажу. Но прежде для прояснения обстановки напишу о том, как легко удалось Удальцову и Кривицкому расколоть наш отдел.
Они действовали старым испытанным приёмом: разделяй и властвуй!
Кривицкий подобрал ключи к амбициям другого (кроме меня) заместителя Золотусского – Владимира Радзишевского.
Бывший музейный работник, ученик Дувакина, оставшийся преданным своему учителю, когда того, отказавшегося поддержать арест Синявского и Даниэля, выгнали из МГУ, он по праву имел репутацию порядочного человека. Он писал неплохие литературные очерки, хорошо, остроумно выступал на летучках, был вежлив с людьми, поражая их своей начитанностью и тем, что отличает даже не библиомана, а истинного ценителя книги – не только её содержания, но и оформления, и шрифта. Отношения у нас с ним всегда были приязненные, хотя и чувствовал я в нём какую-то неутолённость жизнью, некое желание получить больше, чем имеешь сейчас.
Сделав его членом редколлегии, Кривицкий сразу убил двух зайцев: оставил Золотусскому совсем небольшое количество сотрудников и получил вполне управляемого, благодарного ему лично работника, с ходу (увы!) включившегося в общую борьбу с Золотусским.
Этот сотрудник был особенно непримирим на редколлегии, возмущавшейся нашими попытками создать новую газету. «Это уже предательство, – говорил он. – Это попытка расколоть наших читателей, увести у нас часть подписчиков».
Допускаю, что и ему чем-то в своё время досадил Игорь, хотя именно при Золотусском он, беспартийный, как я, и не имевший, как я, шансов, стал заведующим отделом. То, что он страшно разозлит Игоря этим (и не только!) своим выступлением, можно было предвидеть. Но отмечу, что, узнав о его назначении членом редколлегии, Золотусский его поздравил, присовокупив, что теперь станет, быть может, полегче обсуждать вопросы, связанные с литературой, – всё-таки прибавился любящий литературу человек!
Когда я, наконец, вышел из больницы и через четыре месяца появился в газете, то первая же летучка показала, что манёвр Кривицкого удался: в лице Радзишевского он получил управляемого члена редколлегии.
Но в больнице я пробыл, как и говорила мне заведующая отделением, ровно месяц: вышел 30-го января 1992-го года, чтобы самому наблюдать, как стремительно рушится экономика, обесцениваются деньги, многие товары исчезли с прилавков, и, когда появлялись, за ними приходилось отстаивать огромную очередь.
В газете, как я уже сказал, я появился через четыре месяца, но у меня была ещё другая работа, где я не пропустил ни дня и где никто не знал, что я лежал в больнице с инсультом.
Я говорю о Высших литературных курсах Литинститута, на которых мы с поэтом Юрием Кузнецовым вели семинар поэтов.
Я лежал в январе, то есть в зимние каникулы слушателей, которые, уйдя на них незадолго до Нового года, вновь вышли в начале февраля.
Марина испугалась моему решению преподавать и поехала провожать меня. Но ничего страшного не случилось, и она успокоилась.
Как всегда семинар начался с сообщения Кузнецова, который расставил даты обсуждения слушателей, и с моего – о том, какие мифологические книги следует слушателям прочитать.
– Как Вы с ним уживались? – удивлённо спросил меня поэт Толя Преловский, узнав о нашем совместном преподавании.
В отличие от многих своих друзей, я не считал Кузнецова бездарностью. Были у него стихи, которые мне и сейчас нравятся. Небольшого сборничка из них не получится, но в непредвзято составленной поэтической антологии они займут достойное место. К тому же пришёл я в Литинститут после того, как дважды выругал Кузнецова в «Литературке». Второй раз, казалось бы, особенно для него обидно. Он процитировал гоголевские слова о Пушкине: «В нём русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла». И извратил их смысл: точно, дескать, подметил Гоголь, – «никакое оптическое стекло не может отразить ни звука, ни запаха, ни осязания, ни, тем более, духа – уж совершенно неуловимой вещи». То есть Гоголь не одобрил, а напротив осудил Пушкина! Меня это разозлило: ну что за безграмотность! Коли ты ратуешь за огромное значение поэтических символов, мимо которых, по-твоему, проходят русские поэты начиная с Пушкина, так будь хотя бы сам твёрд в древней символике. Гоголь ведь писал о возможностях выпуклого оптического стекла! О тех возможностях, которые выражены в композиции такой работы близкого Гоголю художника Иеронима Босха, как «Операция глупости», построенной, по словам её исследователя, «по принципу отражения в поверхности круглого зеркала, которому мышление того времени придавало значение символа мира»!
Но когда мы с Кузнецовым встретились в Литинституте, оказалось, что он на меня не обижен. Моя статья его заинтересовала. Поэтому и просит меня рассказывать студентам (слушателям) побольше о древней символике. «Стихи у них, как правило, слабые, – говорил он. – Ругай их хоть матом. Но просвещай – символика, древнее значение слова: в этом я не силён!»
Стихи этих слушателей были чудовищны. Я к их приёму не имел отношения. Набирали их Кузнецов с проректором Валентином Сорокиным, о котором Кузнецов однажды сказал мне: «Этот ещё хуже наших». Чувствовал, очевидно, Сорокин, как относится к нему Кузнецов, если вовсю кроет стихи покойного поэта: и то у него не по-русски, и это по-одесски (по-еврейски то есть)! За что его время от времени журят: ну что ты, Валя, нельзя же так по своим!
Мне в этих играх патриотов разбираться недосуг. И пишу только о том, как мы с Кузнецовым уживались. Хотя сейчас я бы на подобный союз не пошёл, да и, по правде сказать, облегчённо вздохнул, когда услышал от инспектора учебной части Литинститута, что новый ректор Литинститута Сергей Есин принял решение ограничиться одним руководителем семинара.
Вообще из наших слушателей мне запомнился Зелимхан Яндарбиев, и то – не запомнился, а вспомнился, когда его, бывшего исполняющего обязанности президента Ичкерии, вместе с сыном и двумя охранниками в 2004-м году в Катаре убили работники нашего посольства, как выяснилось, офицеры ГРУ, подложившие мину в днище его машины.
А запомнился стихами Валерий Хатюшин. «Стихи! – фырчал о его виршах Кузнецов. – У нас в Краснодаре любой член литобъединения пишет лучше!»
– Знаешь, – сказал он мне по телефону перед самым обсуждением Хатюшина, – я сегодня на семинар не приду. Ты уж проведи обсуждение этого графомана сам.
– Но почему? – взвился я. – Здесь ведь и говорить нечего. Стихи чудовищны. Приходи. Он тебе больше поверит.
– Он верит только Сорокину, – сказал Юрий Поликарпович. – Сорокин его и взял на курсы. Я был против категорически.
Хатюшин печатался в основном в журнале «Молодая гвардия» у Анатолия Иванова. Потом он стал там работать. Потом его там выбрали главным редактором. Стихи его были не просто плохи, от них исходила какая-то нутряная звериная злоба.
Семинар я провёл один. Никто ничего хорошего Хатюшину о стихах не сказал. На том и расстались.
А спустя время узнаю, что он стал нынче трижды лауреатом. Дали ему премии Есенина, «Золотое перо России» и Международную имени Шолохова. Хотел сказать: и на здоровье. Но сами подумайте, стоит ли желать здоровья тому, кто злорадно назвал «возмездием» события 11-го сентября 2001-го года, когда самолёты террористов обрушили два нью-йоркских небоскрёба, убив тысячи ни в чём не повинных американцев, кто в нечеловеческой своей ненависти принялся радостно отплясывать на трупах:
С каким животным иудейским страхом
С экранов тараторили они!..
Америка, поставленная раком, –
Единственная радость в наши дни.
И не хочу жалеть я этих янки.
В них нет к другим сочувствия ни в ком.
И сам я мог бы, даже не по пьянке,
Направить самолёт на Белый дом…
Дело не в том, что из-под «золотого пера России» этого упыря выползло хвастливое враньё – над такими героями измывался ещё Марк Твен: «…достойные, неустрашимые молодцы, которые шли в бой с песнями позади всех и бежали с поля битвы с воплями в первых рядах». Дело в том, что подобные стихи, по идее, должны подпадать под Уголовный кодекс за разжигание национальной ненависти.
2
Конечно, Золотусскому приходилось в газете очень нелегко. Но наш маленький отдел всячески его поддерживал. Я пригласил на работу Павла Басинского, проходившего в своё время у нас практику, когда он учился в Литинституте. Он уже тогда опубликовал в «Литературке» несколько статей, продолжал публиковаться позже, а уж когда стал работать у нас, мы его не слишком загружали: читай журналы и пиши о современной литературе, будь нашим обозревателем не по должности, а по сути.
Он не углублялся в материал, о котором писал, не владел искусством анализа художественного произведения. Но владел очень неплохим слогом и обладал здравым смыслом, отчего его статьи, которые, конечно, не были критикой в истинном значении этого слова, но были хорошей, добротной журналистикой, пользовались успехом у многих.
Став редактором «Литературы», приложения к газете «Первое сентября», и одновременно оставаясь в «Литературке», я приглашу Басинского в новую газету своим заместителем, а потом об этом пожалею. Ведь он и в «Литгазете» не работал, а только писал. Практически ничего не делал он и в «Литературе», привёл, правда, с собой несколько авторов, которых знал по Литинституту, и печатал у меня собственные материалы. Я расстался с ним без сожаления.
Но я с удовольствием помог ему и его приятелю, преподавателю Литинститута Сергею Федякину получить грант от Фонда Сороса на издание их совместного учебника по литературе начала XX века. Мы с Рассадиным работали тогда экспертами по литературе в соросовском «Открытом обществе» и добились, чтобы подобный учебник был заказан именно этим авторам, добротным специалистам по Горькому, Шмелёву, Борису Зайцеву, Алданову и другим писателям того времени.
Когда редактором отдела «Литгазеты» стала Алла Латынина и я ушёл из газеты, Басинский сделался её заместителем. Привыкнув к его лёгкой, профессиональной манере, я был неприятно удивлён, когда прочёл в «Октябре» мемуары этого молодого человека, где он с плохо скрываемым самодовольством обстоятельно рассказывал о жизни в Волгограде, об удачном переезде в Москву, о том, каким успехом пользовались у читателя его статьи в «Литературке», одна из которых даже понравилась самому «писателю С.».
«Писатель С.» разъяснился очень быстро. Это был Александр Исаевич Солженицын, который через короткое после публикации Басинского в «Октябре» время учредил собственную литературную премию и пригласил Павла Басинского стать постоянным членом её жюри.
Я-то понял, что понравилось Солженицыну в Басинском. Осторожный Паша при мне писал взвешенно, слегка поругивая модернистов и похваливая наиболее даровитых почвенников. Я соглашался с его критикой модернистской литературы, а его тяготению к почвенничеству удивлялся, объясняя это его любовью к Шмелёву, к Борису Зайцеву. Может быть, думал я, он находит продолжателей их традиций в тех, кого хвалит?
Но похвалы Басинского впоследствии пошли по нарастающей. Уже не только Солженицын оценил этого литератора, он стал печататься у Владимира Бондаренко в «Дне литературы» – приложении к прохановской газете «Завтра», стал ядовито покусывать либеральных писателей в колонках, которые вёл в «Литературке». Так что я уже не удивился, когда в той же «Литературной газете» он назвал новый учебник по литературе XX века, одним из авторов которого является Виктор Чалмаев, согревающим его (Басинского) патриотическое сердце. А в учебнике – идиллические картины сталинской индустриализации и высокая оценка воспевавшей её литературы, лёгкое сожаление о перегибах коллективизации и реверансы «Поднятой целине», заметившей их, невнятица о жертвах сталинских репрессий и трубное воспевание литературы о Великой Отечественной войне. Правда, отдельные произведения о войне не только не воспеты, но сурово осуждены. В частности, роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», уже самим названием показывающий, как относилось верховное командование к простым солдатам, в чьей крови и был утоплен враг.
Что можно сказать по этому поводу? «Только дураки не меняются», – написал однажды Пушкин. Это так. И всё-таки мне жаль, что Басинский предпочёл меняться в совершенно определённую сторону. Начинал он при нас с Золотусским очень интересно. Никак не обещающим той метаморфозы, которую претерпел.
Он выдвинулся в ведущие писатели. Получил премию «Большая книга» за своего «Льва Толстого. Бегство из рая». Удостоен премии Правительства РФ за книгу «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: История одной вражды». Поклонник Горького, он выпустил о нём книгу в «ЖЗЛ» и ещё одну – «Страсти по Максиму. Горький: девять дней после смерти». Пишет много. Владеет стилем. Но, по мне, книги скучные.
Чудесная в своё время была у нас секретарша Люба Ступишина. Доброжелательная, душевная. Но ушла работать в иностранное посольство, там платили хорошие деньги. И мы пригласили на её место Таню Кравченко из отдела писем. При удавшейся Кривицкому реорганизации в оставшейся нашей части былого большого отдела должность секретаря была ликвидирована, но мы добились, чтобы Таня проходила по штату редактором, и я старался научить её этой профессии: давал редактировать материалы, побуждал писать хотя бы небольшие рецензии. Литературу Таня любила, она окончила филфак МГУ И в конце концов научилась совмещать секретарские обязанности с редакторскими.
Работали в отделе и уже достигшие пенсионного возраста Аристарх Андрианов и Ляля Полухина.
К Игорю, повторяю, в то время все сотрудники нашего отдела относились хорошо и поддерживали его в борьбе с редакторатом.
А Удальцов делал его жизнь всё более несносной. Мелочно придирался. Отслеживал, сколько времени тот проводит в редакции, и нередко снижал ему так называемую рекламную премию, которую стали выдавать сотрудникам из денег, полученных за размещённую в газете рекламу. Выглядело это тем более гнусно, что моральных прав у Удальцова на это не было. Он сам нередко по нескольку дней не появлялся в газете. И если Золотусский отсутствовал, как правило, когда писал в ту же газету или участвовал в работе какого-нибудь важного для газеты совещания, то Аркадий, некогда гордившийся, что его, как и всех, кто прошёл комсомольскую школу, не берёт водка, легко теперь входил в запои, из которых выходил спустя время. Его укусы Золотусского были противными и мелкими, но чувствительными для нервного и мнительного Игоря.
К тому же Игорь стремительно терял авторитет у редактората. И неважно было, что к Золотусскому в газету приходили многие известные литераторы. Что он устроил в редакции встречу с Натальей Солженицыной, женой нобелевского лауреата. Что довольно часто он встречался с Жоржем Нива и Витторио Страда. Ни на Удальцова, ни на Кривицкого это не производило никакого впечатления.
Удальцов признавал только тех зарубежных знаменитостей, которые могли бы вложить деньги в газету. А таких не находилось.
Точнее, нашли они с Прудковым какую-то фирму в Германии. Ездили туда. Заключили некий договор о бартерном обмене. Не знаю, что должны были дать немцам мы, но они обязались поставлять нам оргтехнику. Эта акция была очень широко разрекламирована. Ликующий Удальцов показал нам немцев, когда те приехали в газету. Все набились в его кабинет. Разносили кофе. Удальцов произнёс речь. Германский представитель – ответную. Нам показали несколько коробок с факсами, принтером и видеомагнитофоном. Боюсь ошибиться, но, кажется, это и было всё, что смогли нам дать немецкие партнёры. Хотя Удальцов и Прудков съездили к ним ещё несколько раз.
В приёмной Удальцова часто теперь толклись незнакомцы. Переговоров он вёл много. После некоторых из них по редакции ходил Бонч и приказывал освободить ещё и этот кабинет, ещё и эту секцию. Весь последний этаж арендовала у нас созданная бывшим нашим заведующим отдела науки Владимиром Соколовым газета «Век». Соколов платил сотрудникам больше Удальцова. Немудрено, что многие перешли на работу к нему.
Всем отделом как-то собрались мы у Золотусского на его редакционной даче в Переделкино. Собрались на пикник. Я, заядлый грибник, немедленно обшарил участок леса, который был отнесён к даче Игоря. Было очень урожайное на грибы лето, и через полчаса я уже чистил, промывал грибы и клал их на сковородку, которую мне дала моя бывшая сокурсница, жена Игоря, Лера Тахтарова. Лера готовила великолепно, мы сидели за накрытым столом в беседке во дворе. Время от времени к мангалу, под которым был разложен огонь, подходил ответственный за шашлыки Басинский. Он всё добавлял и добавлял к нашему столу шампуры с мясом. Потом пили чай со свежесваренным Лерой вареньем. Обстановка была самая сердечная. И ничто не предвещало никакой неожиданности.
А она грянула.
Несколько дней спустя ко мне зашёл Игорь и сказал, что уезжает в Финляндию. Надолго. Преподавать в местном университете. Удальцов оставляет его членом редколлегии, а Кривицкий заверил, что никого на его место брать не будет. Меня сделают временно исполняющим обязанности члена редколлегии, а там, как сказали Золотусскому Удальцов с Кривицким, будет видно.
Честолюбивых надежд во мне такое сообщение не пробудило. Наоборот. Я очень расстроился. Как раз в это время я начал работать главным редактором «Литературы» и совмещать два редакторских поста мне было бы гораздо труднее, чем если бы Золотусский находился на своём месте.
Я, правда, удивился, для чего Игорю оставаться в редколлегии, но тот сказал, что это важно для финнов. Русский преподаватель, который у них работает, у себя на родине занимает заметный пост!
(Конечно, я понимал, что остаться в редколлегии для Золотусского было важно не только из-за финнов. И не ошибся в своём понимании его натуры: Игорь и после возвращения из Финляндии, несмотря на то что отношения к руководству газеты не переменил, из её редколлегии не вышел. Его душу согревали подобные вещи, венцом которых и стало былое секретарство в московской писательской организации, возглавляемой Феликсом Кузнецовым. С тем же Кузнецовым он входил в редколлегию «Сельской молодёжи». А уже позже – в описываемое мною время – принял предложение войти в общественный совет «Литературы в школе». И состоит в нём до сих пор, как бы освещая своим присутствием тот обскурантизм, который свойственен многим публикациям этого издания. Разумеется, от причастности к таким публикациям он с негодованием отречётся. Но – вот видите! – не выходит из совета, больше того! – считает необходимым для себя оставаться в нём! Что поделать! Амбициозность – важная составляющая его неуживчивости со многими, его споров и ссор с ними. Конъюнктурно относясь к перемене времени, он нынче соглашается дать интервью для прохановского «Завтра», вспоминает элегически и душевно о Юрии Селезнёве, том самом, который некогда объявил о войне с мировым сионизмом, да и о бывшем руководителе Союза писателей Георгии Маркове пишет тепло и даже с нежностью. Приходится признать, что Игорь так и не сумел совладать со своими амбициями. Жаль! И вряд ли простительно в его-то годы: после восьмидесяти!)
И наша совместная работа с Золотусским на этом закончилась. Игорь с женой уехали в Финляндию, оставив нам свой тамошний телефон. «Если что – звони! – сказал мне на прощание Золотусский. – И вообще звони мне иногда».
Кривицкий встретил меня очень тепло. «Приказ о Вашем назначении временно исполняющим обязанности уже подписан главным редактором. А остальное будет зависеть только от Вас», – и он пытливо на меня посмотрел.
– От моей управляемости? – усмехнулся я.
– И от этого тоже, – помрачнел Кривицкий. – Вы, Геннадий, не первый год работаете на руководящем посту и знаете, как важна солидарность в руководстве. Что было при Золотусском? Типичная крыловская ситуация. Воз тянули лебедь, рак и щука!
– Но зато сколько чудесных материалов нам удалось за это время напечатать! – сказал я.
– Напечатали бы и без Золотусского, – ответил Кривицкий. – Это время помогло таким материалам появиться в печати, а не он!
– Не уверен, что Вы здесь до конца правы, – сказал я ему. – От человека тоже очень много зависит. Помню, что были в нашем руководстве и те, кто не хотел подобных публикаций, несмотря на время.
– Ладно, идите, – сказал Кривицкий после того, как снова пытливо на меня посмотрел.
Эта новая должность оказалась невероятно хлопотной. Всё время ко мне шли посетители – прозаики, поэты, критики. В моём шкафу уже места не было для книг с автографами авторов. А тут ещё Бонн настоял, чтобы не занимал я большого кабинета Золотусского. «Нам некуда ставить мебель из сданных в аренду помещений», – сказал он. И, оглядев мой маленький кабинет, в который поставили ещё один стол для Басинского, добавил: «Что поделать, всем сейчас тесно, а ты же всего лишь врио!»
Работать стало намного труднее. Кривицкий в мои дела не вмешивался. Мой отдел он по-прежнему не курировал. Нашу полосу (иногда полторы-две) мы составляли вместе с замом ответственного секретаря Юрием Юрьевичем Бугельским. Юра не обладал полномочиями что-либо у нас снимать или отказаться ставить подписанный мною материал. Но за ним, то есть за Юрой, нужен был глаз до глаз. Он перешёл в секретариат из отдела Хакимова, где переписывать авторов (особенно нерусских) считалось в порядке вещей. Вот и у Бугельского сохранился этот редакторский зуд: не уследишь за ним, потом с удивлением обнаружишь уже в вышедшей газете, что в этой статье исчез абзац, а в этом рассказе переписана фраза!
Ушёл из газеты Басинский. Не совсем ушёл, а на договор, по которому за определённую сумму обязывался передавать газете столько-то написанных им за месяц материалов. Практически мы остались с Таней Кравченко вдвоём. Пенсионеров Полухину и Андрианова перевели в рекламный отдел. Были в отделе ещё и Слава Тарощина и Таня Рассказова, но они занимались литературной информацией и брали интервью у писателей на нужные газете темы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































