Читать книгу "Перформанс анализа. Позиции юнгианства и иудаизма"
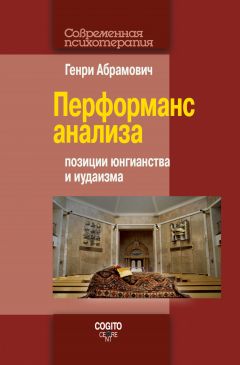
Автор книги: Генри Абрамович
Жанр: Психотерапия и консультирование, Книги по психологии
сообщить о неприемлемом содержимом
Перед работой я сказал, что сирена прозвучит в середине сессии. Я сказал, что буду стоять, в то время как он должен поступать в соответствии с собственными ощущениями наибольшего комфорта. Когда зазвучала сирена, я встал, а он остался сидеть. Я стоял, он сидел. Я думал о моих погибших и всех тех, кто пострадал на этой земле, – детях обоих народов, а он ждал, не двигаясь до конца сирены… В тот момент я почувствовал, что мой пациент увидел меня не как целителя, а как израильского завоевателя, буквально стоящего над ним. Его решение остаться сидеть, мое решение встать были сегодня интерсубъективным «сейчас», моментом разделенного бытия и разделением, непониманием с обеих сторон, включенным и исключенным. И все же это объединяло нас.
На мой опыт, несомненно, повлиял предыдущий опыт. Моим клиническим супервизором был человек, переживший Освенцим. Сирена в память Холокоста тогда зазвучала в разгар сессии. Она захватила нас обоих врасплох. Мы выросли вместе, и в творческом смысле я был с ним в Освенциме во время сирены и минуты молчания. Когда сирена закончилась, мы обменялись краткими словами. Но он хотел, чтобы я быстрее вернулся к работе и супервизии. Я чувствовал его сильное желание запечатать дверь, открывшуюся во время молчания. В тот волнующий момент я понял, что есть вещи, о которых нельзя говорить даже в анализе; что есть вещи, которые должны быть переданы в тишине: не потому что они не важны, но потому что нет слов, способных высказать невыразимое – двери в Освенцим или человеческие страдания в палестино-израильском конфликте, которые открылись и закрылись. Мохаммед и я, один момент мы стояли и сидели отдельно, каждый – в наших коллективных идентичностях, но затем мы были снова вместе, делая работу анализа и памяти.
После того как сирена замолчала, я спросил, хочет ли он поговорить о своих ощущениях. Он сказал нет. Его «нет» четко воплотило индивидуальный и коллективный гнев… Как он позже сформулировал, он был слишком переполнен гневом, чтобы говорить о нем. Но это был также протест против расписания сеттинга. Я хотел поговорить о том, как вторжение коллективного сказалось на его чувствах, но он предпочел продолжать обсуждать важные личные вопросы, бывшие предметом разговора до сирены. У него была своя собственная Накба. Когда сирена зазвучала, мы говорили о кризисе в его отношениях с невестой.
После значительной аналитической работы Мохаммед смог начать отношения с архетипической «девушкой по соседству», и они благополучно развивались. Благодаря их новой, полной любви взаимности, он почувствовал возможность того, что в браке не будет доминировать динамика жертвы/палача, присущая негармоничным отношениям его собственных родителей. Пара решила пожениться. В патриархальном палестинском обществе (где по-прежнему распространены устроенные родителями браки) мужчина должен официально просить руки своей невесты у ее отца. Как правило, это только формальный ритуальный акт между отцом и будущим мужем. По загадочному негативному совпадению отец неожиданно и без каких-либо объяснений отказал Мохаммеду. Тот был раздавлен, озадачен, беспомощен. Чувствовал себя жертвой Великого отца, как часто бывало с ним в детстве. Он умолял невесту бежать. Она не могла. Даже в этот момент ему было трудно мобилизовать свой гнев, разозлиться на этот отказ.
Имела ли место параллель между пострадавшими палестинцами и отвергнутым возлюбленным?
Синхронистически я чувствовал, что здесь была символическая связь с Мохаммедом. В палестино-израильском конфликте доминирует архетип жертвы/палача. Присутствует также своеобразная конкуренция: кто из народов пострадал больше, кто из них в большей степени жертва, кто худший агрессор. Каждая сторона причиняет страдания другой, ведомая собственным чувством несправедливости и перенесенных ран. Мемориальная сирена фокусирует сознание на израильских погибших солдатах и жертвах террора, среди которых не только евреи, но и друзы, бедуины, черкесы. Все, кроме палестинцев, что неявно делает их мучителями и создает восприятие конфликта с точки зрения победителей и проигравших.
Отказ, полученный Мохаммедом от отца его невесты, активировал комплекс жертвы/палача, который доминировал в его психике, особенно его боязнь стать палачом, подобным своему отцу. Мохаммед также нуждался в мемориале – мемориале по его супружеской жизни с возлюбленной, в которую он только недавно поверил, которая должна была начаться. Мохаммед в своей личной и коллективной жизни был встроен в динамику жертвы/палача. В этой динамике вы либо слишком сильны, либо слишком слабы, либо слишком агрессивны, либо недостаточно агрессивны. Здесь нет середины, нет третьего, того, что способно удержать вместе противоположности. Свидетельствование, увековечивание памяти, воображение и рефлексия создают потенциал для этой отсутствующей третьей точки зрения. Наш столь разный опыт переживания мемориальной сирены, то, что я стоял, а он сидел, физически так близко друг к другу, но отдаленные друг от друга культурными границами, помог создать новый вид пространства вне комплекса жертвы/палача и помочь Мохаммеду по-новому испытать то, что произошло. В результате ему, пожалуй, впервые удалось по-настоящему закончить отношения, а затем оплакать их конец, чтобы символически пройти путь от Дня памяти к Дню независимости.
Обсуждение
Терапевтический контейнер всегда находится в более широком культурном контексте. Вследствие этого аналитическое взаимодействие неизбежно происходит в сложной взаимосвязи между очень личными отношениями, с одной стороны, и соответствующими им коллективными идентичностями аналитика/клиента, с другой. Как утверждает японский аналитик Хигучи, мы должны «признать, что отношения [клиента] с аналитиком – это не только отношения между ними двумя. Они включают в себя уровни семьи, социальной группы, локации внутри страны и так далее. Если вы встречаете человека, вы также встречаете всю его семью, культуру и общество» (Higuchi, 2010, p. 246).
Я верю, что аналитики часто избегают культурного и политического конфликта. Самуэлс в новаторской работе об использовании политического материала в клинических условиях говорил, что пациент учится не говорить о политических вопросах в процессе анализа (Samuels, 1993).
Ури Адар, израильский психоаналитик и борец за мир, делится опытом работы с израильтянами правых убеждений: «Когда я выражал свое собственное мнение [левое крыло], я убеждался, что наше политическое противостояние определенным уникальным образом способствовало терапии» (Hadar, 2013, p. 201).
Избегание работы с коллективным конфликтом является попыткой вывести анализ за рамки конфликта, избегая реколлективизации. Майкл Горкин, изучавший психотерапию среди еврейских терапевтов и работавший с клиентами – израильтянами арабского происхождения (Gorkin, 1986, p. 69–79; 1996, p. 159–176; Gorkin et al., 1985, p. 215–230), обнаружил, что арабские пациенты часто хотят получить совет, в то время как еврейский терапевт проявляет чрезмерное и двойственное любопытство к культуре пациента или стремится полностью избежать конфликта.
Я полагаю, что мои противоречивые чувства, как израильтянина и аналитика, связанные с опытом переживания мемориальной сирены, в конце концов дали мне более глубокое понимание опыта Мохаммеда как жертвы – и в личном, и в коллективном аспекте. Пользуясь терминологией Фордхама, я называю этот опыт «синтонный культурный контрперенос».
Я чувствую, что одна из главных задач аналитической работы – оставить прошлое в прошлом, чтобы настоящее могло разворачиваться, свободное от предопределяющего давления прошлого. Отдать дань памяти – это оставить прошлое в прошлом, чтобы оно не доминировало над настоящим. Мы стоим лицом к лицу с прошлым, чувствуем его присутствие и помним. Таким образом, увековечивание памяти занимает центральное место в процессе анализа. Это поиск места для прошлого в настоящем. Как ни странно, молчаливая встреча во время сирены позволила пациенту начать процесс отношений без заранее принятых ограничений, где он мог бы быть сильным, но не беспокоиться постоянно о том, что перейдет грань, став чрезмерно сильным, довлеющим или оскорбительным.
Я хочу закончить отрывком из стихотворения израильского поэта, выходца из Германии, Иегуды Амихая.
Мир – это не прекращение огня…
Мир
Без грохота молота, что перековывает мечи на орала,
Без слов,
Без стука тяжелого штампа-печати:
Да будет свет, плывущий, как ленивая пена морская.
Чуть-чуть отдохнуть от ран —
Кто назовет это исцелением?
(И стоны сирот передаются из поколения в поколение —
Эстафета, в которой никто не уронит палочку).
Да придет он —
Как дикие полевые цветы,
Внезапно,
Ведь у поля должен быть он:
Дикий, полевой мир[18]18
Пер. Виктории Райхер. – Прим. ред.
[Закрыть].
(Amichai, 1996)
Болезнь аналитика[19]19
Выступление на международной конференции МААП. Москва, июнь 2011 года. Расширенная версия статьи: Illness in the Analyst: Implications for Clinical Practice // Facing Multiplicity: Proceedings of 16th International Congress of Analytical Psychology / Ed. Pramila Bennett. Einsiedeln, Switzerland: Daimon Verlag, 2010.
[Закрыть]
Вступление
В Махабхарате, великом индийском эпосе, звучит вопрос: «Каково величайшее чудо этого мира?».
Подождите минутку и подумайте, что бы вы могли ответить.
Ответ из Махабхараты: «Наибольшим чудом является то, что люди видят болезнь и смерть вокруг себя и все же думают, что это никогда не случится с ними самими».
Миф о Вечном аналитике
Аналитики страдают от этого величайшего чуда.
Когда мы начинаем анализ, мы вселяем в пациентов скрытую уверенность, что все время, пока они будут нуждаться в нас, мы будем живы и здоровы. Даже когда работа с пациентом заканчивается, мы часто говорим: «Моя дверь всегда открыта», как бы показывая, что будем готовы принять пациента в случае необходимости. Такое отношение основано на «иллюзии неопределенного срока практики» (Illness in the…, 1990), которую с архетипической точки зрения можно было бы назвать мифом о Вечном аналитике, вселяющем веру, что мы будем жить вечно и вечно будем способны оказать помощь.
Но все мы когда-нибудь заболеем, более того, заболеем серьезно и в какой-то момент умрем. Часто мы умираем так, что наша смерть оказывается ударом для тех самых пациентов, о которых мы заботимся. Конечно же, болезнь и умирание – это то, с чем должен столкнуться каждый человек, но для нас, аналитиков, она имеет особое значение и уникальные последствия. Болезнь часто удивляет нас, как это произошло в моем случае. Ничто нас к этому не готовит. Мне удалось с грехом пополам пройти свой путь до конца и научиться на собственных ошибках, но я хотел бы, чтобы меня научили этому до того, как все случилось.
Идея этой работы – бросить вызов мифу о вечном аналитике и противостоять неизбежной реальности Раненого целителя. Цель статьи – совместно прийти к выводам, как лучше справляться с этой проблемой, и, руководствуясь юнгианским подходом, найти возможности духовного роста в самом сердце болезни.
Мой первоначальный интерес к серьезной болезни аналитика возник, когда у моей ученицы в конце обучения обнаружили рецидив рака молочной железы. Мне довелось с близкого расстояния видеть, как она общалась с пациентами и вела их, несмотря на ухудшение своего состояния. Я и другие коллеги «прикрывали» ее, когда она проходила лечение в США и неожиданно умерла. Я вспоминаю, как звонил ее потрясенным пациентам, одному за другим, чтобы сообщить, что их любимый аналитик умерла и у них даже не было возможности попрощаться.
Я был потрясен до глубины души, когда в конце моего собственного анализа мой аналитик попал в больницу. Я посетил его в больнице и очень ярко помню его беспомощным, в пижаме. Хотя я встречался с ним за пределами аналитического контейнера, это переживание стало для меня на редкость позитивным. Кроме того, я опрашивал аналитиков, которые были серьезно больны, и пациентов, аналитики которых умерли или стали недееспособными, читал отзывы в психоаналитической литературе. Как ни странно, нигде, за исключением одной статьи Памелы Пауэр из Лос-Анджелеса, я не нашел обсуждения этой болезненной темы с юнгианской точки зрения.
Активное воображение
Я хочу начать с активного воображения.
Для тех из вас, кто не был болен: представьте себе, что вы сидите в кабинете врача. Вы пришли, потому что чувствуете себя немного более уставшим, чем обычно, вот уже несколько сессий подряд вам было трудно сосредоточиться, вы чувствуете раздражающую незнакомую боль. Вас ждет врач, который расскажет о результатах анализов крови.
Как вы себя чувствуете? Как вы переносите ожидание прибытия врача?
Врач входит и сообщает, что у вас рак. Вам понадобится химиотерапия, а затем лучевая терапия в течение ближайших шести месяцев.
Прогноз остается неопределенным.
Как вы себя чувствуете? Что вы хотели бы сделать в первую очередь?
Изменилось ли ваше отношение к пациентам?
Что вы им скажите?
Мой опыт переживания болезни
Первая задача для аналитика – проработать болезнь, оплакать здоровое прошлое и понять физические, эмоциональные и практические последствия болезни. Войти в мир больным. Мир больного отличается от мира здоровых. Аналитик должен проработать его сам, прежде чем он сможет сделать это для своих пациентов и вместе с ними. Я, например, вел дневник, которым делился с друзьями по электронной почте. Я знаю, что читать эти записи им часто было трудно. Но для меня выразить происходящее и поделиться переживаниями с моим виртуальным сообществом было исключительно полезно.
Я хочу сначала показать некоторые избранные отрывки из моего поэтического дневника, написанного в то время.
К вечеру становится еще труднее дышать,
И боль подкрадывается в любом положении.
Я не знаю, что мне поделать с собой.
Впервые
Я чувствую себя настолько несчастным.
Я не могу смотреть в глаза новой бессонной ночи.
Вот и мой первый страшный сон:
Я еду с женой в машине по городской улице.
Мы спускаемся по небольшому наклону,
И я хочу притормозить,
Но не могу перенести ногу с педали газа на тормоз.
Нога мгновенно парализована.
Я взываю о помощи…
Лежа без сна в предрассветных сумерках,
Я думаю о вчерашней последней записи:
«Я буду от души смеяться над этой лимфомой…»
и начинаю рыдать.
Лимфома и в костном мозге,
в сгустках, и больше того: заражен тазовый лимфатический узел,
скрыт и недоступен.
Но настоящий шок приходит,
когда я спрашиваю о стадиях.
Я думал, наивный, раз не было никаких заметных лимфоузлов,
то это была первая стадия
или вторая.
Мой врач колеблется, и я знаю, что это плохо.
На иврите я говорю: dugri – «Скажи мне прямо».
Я был сильным,
глядя смерти в глаза,
но я не готов к ее ответу:
«Четвертая стадия».
Сегодня анализов нет.
Я не пациент, я сам забочусь о моих пациентах.
Думаю, мне нужно написать список всех теперешних пациентов
просто на всякий случай,
на случай моей смерти.
и внезапно я зарыдал
впервые с того момента, как я услышал диагноз,
один
в ванной.
Я иду в свой кабинет и делаю этот список,
готовлю копии, чтобы дать коллегам
на тот случай, если сессию придется отменить,
когда у меня будет химиотерапия или что-то худшее.
Остаток дня я сижу и слушаю других людей.
Одна дама, профессиональный психиатр,
вспоминает жестокое поведение ее отца,
а затем мужчин в ее жизни.
Она рыдает: «Я сломана, настолько сломана».
Позже я хочу перевести ее к другому аналитику,
но она плачет снова, говоря: «Вы не понимаете,
Я не могу пойти к другому аналитику. Я просто не могу».
Другой молодой человек собирается жениться.
Каждый момент радости приносит боль утраты отца, убитого
террористами.
Он говорит, что никогда не будет счастлив снова, даже в день
собственной свадьбы.
Внезапно меня охватывает ужас, что судьба моих детей будет
такой же.
Проработка болезни – непрерывный процесс.
Дилемма трех медведей: сколько рассказать?
Для заболевшего аналитика следующей крайне важной дилеммой становится вопрос, что именно он может рассказать пациентам. Строгие фрейдисты утверждают, что рассказывать ничего нельзя. Фрейд задал этому тон, скрыв первую онкологическую операцию не только от больных, но и от своей семьи! Фрейд не желал обсуждать свою болезнь (Jones, 1957, p. 13), но признавал, что отрицает возможность обсуждения аспектов переноса из-за озабоченности заболеванием (Schur, 1972, p. 382). Эйслер писал: «Когда аналитик отрицает свою болезнь, кажется неизбежным, что и пациент будет отрицать свою» (Eissler, 1977).
Многочисленные примеры выявили, насколько разрушительным может быть этот подход. Чувство реальности пациента подрывается (например, когда аналитик интерпретирует вмешательство в вопросы здоровья как желание: «Почему вы хотите видеть меня больным?»). Ситуация может быть худшей для обучающихся кандидатов. Коллеги по сообществу часто знают больше об обучающем аналитике, чем его кандидаты. Перерывы в клинической работе нередко оказываются травматическими и лишенными возможности проработки.
Я решил назвать вопрос выбора того, когда и сколько рассказывать, дилеммой трех медведей в связи со сказкой, где маленькая девочка забрела в дом трех медведей. Она там сидела и спала на стульях и кроватях, кажущихся на первый взгляд то слишком твердыми, то слишком мягкими и, наконец, «в самый раз». Рассказать слишком мало – слишком мягко для пациента, это ошибочная попытка защитить его. Рассказать слишком много может быть слишком жестоко, ведь аналитик представляет собой центр внимания пациента. А как тогда «в самый раз»?[20]20
Обратимся к Памеле Пауэр, юнгианскому аналитику из Лос-Анджелеса, которая проводила анализ с Эдвардом Эдингером. «Я работала с моим бывшим аналитиком еженедельно, порой два раза в неделю, и в течение последних нескольких лет – раз в две недели. Я пришла на свою обычную назначенную встречу в начале мая 1998 года. Мой бывший аналитик начал сессию сообщением, что у него диагностировали рак легких с широко распространенными метастазами. Он сказал мне, что с раком мочевого пузыря он жил уже более 20 лет, и вот теперь пошли метастазы. Кроме того, он сообщил мне, что врачи дали ему 9–12 месяцев жизни. Говоря через силу, он ответил на мой невысказанный вопрос: „Вам, наверное, интересно, какое влияние это будет иметь на нашу работу. Я планирую продолжать встречаться с вами до тех пор, пока я буду чувствовать себя достаточно хорошо“.
Когда я вернулась на следующую сессию две недели спустя, он начал с сообщения, что у него резкое ухудшение и это будет наша последняя сессия. В конце встречи аналитик пригласил меня с ним связаться, если будет малейшее желание сделать это. Примерно через два месяца с того дня он умер… Несмотря на длительный анализ, смерть моего аналитика казалась мне внезапной и преждевременной» (Power, 2005).
[Закрыть]
Один автор пытался дать формулу разрешения дилеммы трех медведей с точки зрения стадий анализа: ничего не говорить тем, кто в процессе анализа; рассказать все пациентам с поддерживающей психотерапией; сказать только часть тем, у кого анализ заканчивается; минимальное раскрытие для тех, кто на промежуточной стадии. Мало кто согласился с его слишком гладкой формулой, и все же это подчеркивает необходимость поиска индивидуализированного подхода к потребностям каждого пациента.
Позвольте мне привести личный пример того, как можно сказать слишком много и слишком мало.
Когда я заболел, одним из моих пациентов был врач. После того как мне поставили диагноз, я изучил огромное количество фактов о моей болезни. Если раньше я просто знал о существовании лимфоузлов, то теперь я был экспертом по малой В-клеточной вялотекущей лимфоме маргинальной зоны, одному из редких видов лимфомы, которая гораздо лучше, чем большой Т-клеточный агрессивный подтип. Знания помогли мне справиться с паникой и дали мне чувство контроля. Оглядываясь назад, я понял, что я совершил «медицинский перенос» на своего пациента-врача и дал ему слишком много информации, умом понимая, что как врач он хотел бы знать больше о вопросах медицинской области. Я думаю, что успокаивал себя знанием, которого мне удавалось достигнуть. Разговор с пациентом всегда подразумевает вопрос о раскрытии скрытых смыслов: рассказ часто приносит облегчение для анализируемого, но может означать скрытый подтекст, заставляя пациента заботиться об аналитике.
Моррисон, аналитик из Америки, боролась с пятью рецидивами рака молочной железы. Некоторые эпизоды течения болезни нарушили ее аналитическое расписание, а некоторые на него не повлияли. Она рассказала, что третий период не потребовал прерывания графика работы, и ни один из пациентов не знал о ее болезни. Она пишет: «Я поняла, что это очень сложно. Сидя с пациентами, я была один на один с моей самой тяжелой новостью. У меня не было особых сил слушать, чтобы услышать то, что было в их материале в реакции на мою дезинтеграцию (молчание о моей болезни было на этот раз защитой для меня) <…> в то время как я пыталась держать в себе мои потребности, я осознавала множество эксгибиционистских стремлений: я хотела, чтобы другие знали о моей травме; хотела получать выражения любви и заботы, выслушивать восхищение моей силой и мужеством от того, как я обращаюсь с болезнью» (Morrison, 1990, p. 240–241).
Она заостряет внимание на вопросе, который я знаю изнутри: в какой мере рассказ о болезни, диагнозе и прогнозах может сыграть на благо пациента, а в какой мере – аналитика.
Мой собственный подход, выработанный после консультаций с мудрым коллегой Яном Вайнером, состоял в предании гласности основных медицинских фактов и поощрении пациентов к изучению их фантазий. Я не стал отрицать свою реальность, но пытался сохранить концентрацию терапевтического внимания на пациенте. Для меня и большинства моих пациентов, я считаю, это было «достаточно хорошо».
Даже когда аналитик выздоравливает, дилемма трех медведей остается. Будете ли вы говорить новому пациенту о вашей прошлой болезни?
Дать пациентам возможность уйти
Как только я проработал болезнь и ситуацию, я сделал главной целью исключение нежелательного влияния на пациентов.
Я решил, что должен предложить пациентам выбор того, как будет протекать их дальнейший анализ. Я дал им следующую альтернативу: перевод к другому аналитику, временный или постоянный перенос сессий; ожидание, пока мне не станет лучше; или, наконец, не принимать решения прямо сейчас, а найти время, чтобы поговорить и подумать над тем, что будет лучше для пациента. Я попытался передать им ощущение, что любой выбор, сделанный ими, меня устроит. Почти никто не перешел к другому аналитику, и это снова типичная ситуация, как сообщалось в литературе.
Мои коллеги-наблюдатели помогли мне разобраться в этом.
Коллега-аналитик, перенесшая внезапный перелом таза, поделилась опытом. Она предупредила, что следует решить, с кем вы хотите работать, а с кем нет. Как говорил Винникотт, пациента нужно прежде всего пережить, и временами это может означать, что нужно абстрагироваться от чрезмерно требовательных или опасных клиентов. Одна коллега даже зашла так далеко, что выбирала работу только с пациентами, которые относились к ее болезни благосклонно. Я не «отказывался» от всех пациентов, но я думаю, что решал, кого вызывать первым из тех, кто ждал очереди.
Опасность преждевременного возвращения
Другой ключевой дилеммой является вопрос, когда следует вернуться к своей практике с полной нагрузкой. Откуда вы знаете, что готовы?
Литература, мой собственный опыт и интервью показали: терапевт слишком часто возвращается преждевременно из-за стремления избежать роли больного и желания чувствовать себя продуктивным.
Я сказал пациентам, что раз я работаю, я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы сосредоточиться на их вопросах. В целом это было верно, но случалось, что сеансы приходилось отменять в последнюю минуту, и по крайней мере один раз вышло так, что я заснул после плохой ночи. Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был отменить встречу, но хотелось «быть для моих пациентов на боевом посту», и, кроме того, я пытался отрицать плохое самочувствие после лечения.
Вспоминается один пациент, активно отрицавший мою потерю веса и общий упадок сил. Когда я сказал ему о своем раке, он воскликнул: «Как я мог этого не увидеть!». Его основной конфликт вращался вокруг циклических чувств оставленности/зависимости и стремления к безопасной привязанности, совмещенного со страхом быть жестоко отвергнутым. Когда я проходил лечение, он был не в силах контролировать этот конфликт и однажды воскликнул: «Да помирайте вы уже наконец!». Моя кончина освободила бы его от невыносимой зависимости.
Аналитик изменяется – Персона исчезает
Активное воображение.
Подумайте об аспектах вашей внешности или Персоны, которые для вас имеют ключевое значение. А теперь представьте, что болезнь вызвала трагические изменения именно этого аспекта, искажая и портя вашу обычную Персону.
Физические изменения – это наиболее сильно поражающий аспект болезни. Они скрывают старую и открывают новую Персону. Не каждая болезнь меняет наш внешний вид, но большинство – именно так, очевидно или почти незаметно.
Следующий отрывок представляет выдержки из моего дневника.
«Быть здоровым – это хобби;
Быть больным – это полный рабочий день».
Одним из центральных переживаний болезни является потеря.
В английском языке слово для болезни Disease, «потеря простоты». Потеря простоты – Легкости: не знать, когда у вас следующий этап лечения или анализ крови. Потеря легкости: каждое ощущение, боль, ночная испарина не сигнализируют о другой медицинской катастрофе.
Потеря будущих планов, которые вы расписывали в таблицу (shulkhan aruch[21]21
На иврите – «накрытый стол», часть ритуала пасхальной ночи, Селер Песах, где определенные действия выстроены в строгом порядке. – Прим. ред.
[Закрыть]).
Прежде всего для каждого человека, страдающего от рака,
Это потеря «моего тела, каким я знал его». Для меня телесное изменение не было потерей веса, полузакрытыми глазами, опухшей селезенкой, укравшей мой сон, или даже сошедшими с ума лейкоцитами.
Но на следующий день после химиотерапии, коснувшись подбородка, я увидел, что выпадает моя борода, как свежий снег. С 19 лет у меня была борода.
Никто в Израиле не видел моего обнаженного лица;
Ни моя жена, ни дети, ни мои студенты, ни пациенты. Люди не узнали меня; я не узнаю себя. Я смотрел в зеркало и повторял: «Кто украл мое лицо?» Я подходил к старым друзьям и слышал в ответ:
«Простите, сэр, кто вы?»
Кто я, в самом деле: «Я был другим Генри: Генри больным».
Как мои пациенты реагировали на меня без бороды?
Каждый, конечно, по-разному реагировал.
Некоторые с видимым шоком, некоторые с принятием и говорили, как хорошо я выгляжу, некоторые проигнорировали это и никогда не комментировали, а один чувствовал, что его теменос утрачен, потому что в бороде моей было так много от моего присутствия.
Один из моих пациентов-раввинов с мощным позитивным комплексом идеализации отца ощутил освобождение от архетипа Великого отца, которого, как ему казалось, представляла моя борода. Когда старые пациенты звонили и хотели меня увидеть, я испытывал необычный контрперенос. Мой голос был голосом Генри, но мое лицо было лицом безбородого, лысого незнакомца. Приветствие каждого пациента, который не видел меня без бороды, становилось опытом потери и восстановления моей личности…
Я мог продолжать работать в моей клинике и офисе, но другие аналитики, чьи болезни поставили под угрозу их физическое состояние, были вынуждены изменить терапевтическую среду, переместить их теменос. Например, Гарри Стак Салливан, страдавший от изнурительного эндокардита, принимал пациентов в своей постели! Однако, как бы странно это ни звучало, доклады свидетельствуют о том, что пациенты могут «укрепить и дать жизненную надежду, когда они знают, что их аналитик мужественно переносит тяжелую болезнь» (Nicklin, 1992, р. 496).
Я думаю, что болезнь всегда вызывает терапевтическое беспокойство Персоны. Я беспокоился о будущем моей практики и с точки зрения потери дохода, но еще больше с точки зрения потери идентичности. Я боялся, что ко мне никто не будет обращаться, и действительно задумывался, хотел бы я сам обращаться к коллеге, страдающему раком. Тем не менее я с нетерпением ждал моих сессий. В моем кабинете я больше не был пациентом, я был целителем, раненым, да, но все же целителем.
Точка зрения Юнга
Юнгианцев часто обвиняют в излишнем оптимизме. Как говорится в одном анекдоте:
«Вопрос: Сколько юнгианцев нужно, чтобы поменять лампочку?
Ответ: Ни одного, потому что они обладают внутренним светом!»
(Есть еще одна версия, связанная с нашей бедной функцией ощущения: ни одного, потому что они не могут найти лампочку.)
Юнг показал, что даже тяжелая болезнь аналитика может оказывать положительное влияние.
После сердечного приступа Юнг описал тяжелую потерю Персоны, «в которой каждый человек сидел один в небольшой коробке» (Jung, 1963, p. 323–324). Он продолжал описывать удивительный опыт «клинической смерти»: «Еврейская старушка <…> готовила для меня ритуальные кошерные блюда. Когда я смотрел на нее, мне казалось, что вокруг ее головы голубой ореол. Я сам был, как казалось, в Pardes Rimonim, гранатовом саду, где происходила свадьба Тиферет (красоты) и Малхут (царства). Или же я был раввином Шимоном бен Йохаем, чья свадьба праздновалась в загробной жизни. Это был мистический брак, как кажется, каббалистической традиции. Это были величайшие переживания, которые я когда-либо испытывал. И какой контраст был днем: меня все мучило, я был на грани; все меня раздражало; все было слишком материальным, слишком грубым и неуклюжим, ужасно ограниченным как в пространстве, так и духовно…
После болезни для меня наступил плодотворный период работы. Очень многие из моих основных работ были написаны только тогда <…> что-то еще тоже пришло ко мне после моей болезни <…> принятие моей собственной природы, каким бы я ни был» (ibid., p. 325–328).
Опыт Юнга подчеркивает творческий потенциал болезни. Это видение, плод болезни, оказало глубокое влияние на Юнга и его творчество. Юнг, однако, не описывает, как этот опыт повлиял на его клиническую работу. Он был не в состоянии работать как минимум шесть месяцев, и я удивляюсь, как он смог вернуться к клинической работе.
Квантовый скачок
Во время лечения я также прошел через некоторые интенсивные переживания.
В период химиотерапии я чувствовал драгоценность каждого мига. Я в то время редактировал специальный выпуск журнала Harvest, посвященный Эриху Нойманну, умершему очень рано, в 55 лет, и – по синхронии – таков был мой возраст в то время. Трагическая смерть Нойманна преследовала меня и держала в напряжении. Возможно, это была иллюзия, но я чувствовал, что моя работа обрела тогда изысканную ясность. Когда я впервые вернулся после болезни, пациенты чувствовали себя неловко, говоря о мирских проблемах. Я заверял пациентов, что мне важно и интересно все, что они могут сказать. Но я спрашивал их, и в не меньшей мере самого себя, буквально или символически: «В чем ваше предназначение?», «В чем ваша судьба?» Некоторые отвечали по-новому. Работа была интенсивной, и у нас происходили некоторые прорывы, или «квантовые скачки». Даже отрицание может работать по-новому. Один пациент в начале первой сессии, после того как я рассказал ему о моей болезни, сказал: «Вы в порядке. Договорились?». И мы продолжили и провели нашу лучшую сессию.
И в то же время я обнаружил, что веду себя до странности нетерпеливо с теми, кто, по моим ощущениям, избегал своего пути индивидуации…
Необходимость трансформации
Опасность преждевременного возвращения идет параллельно с опасностью слишком длительной практики. Воспоминания пациентов об аналитиках, которые умерли, потеряли память или стали недееспособными во время процесса лечения, показывают, насколько это невыносимо. Однажды умирающий аналитик сказал: «Моя работа поддерживала во мне жизнь». Другой умирающий аналитик сказал кандидату: «Ты мой последний анализируемый». Кандидат был вынужден остаться. Некоторые аналитики намерены продолжать работу, даже когда становится очевидно, что анализ нарушен. Самым болезненным решением Фрейда к концу жизни было остановить прием пациентов.
Прийти на сессию, чтобы найти записку на двери, прочесть некролог или получить звонок от убитого горем супруга или коллеги – все это наносит глубокую рану. Памела Пауэр писала: «Несмотря на длительный анализ, я восприняла смерть моего аналитика как внезапную и преждевременную. Это приблизило период внутренней турбулентности, длившейся несколько лет <…> преждевременный конец может привести к состоянию „отрицательного творчества“, „переносного хаоса“, выраженному в соматических и психологических нарушениях» (Power, 2005, p. 35).
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































