Текст книги "Отец и сын (сборник)"
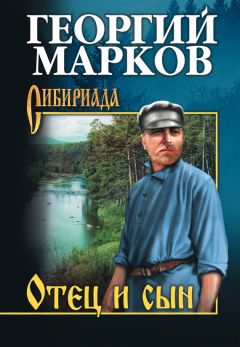
Автор книги: Георгий Марков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 37 страниц)
– Ну а ты еще не воевал? – спросил генерал с улыбкой, присматриваясь к Соколкову, юный вид которого не мог не поразить старого генерала. Соколков, обычно острый на язык и сообразительный, несколько растерялся:
– Не приходилось, товарищ генерал. По годам не выходило.
Генерал задымил трубкой, засмеялся, дружески или, скорее, по-отцовски потрепал Соколкова по плечу и принялся расспрашивать других бойцов – откуда, из каких мест они прибыли.
– Ты смотри, полковник, какой народ идет к нам! То инженер, то учитель, то студент, то председатель колхоза! Цвет народа, а?!
Генерал еще несколько минут поговорил с бойцами и поднялся.
– Тихонов, – обратился он к капитану, – ты вот что, на удобство своих позиций не надейся. Японцы мастера ночного боя. На Халхин-Голе они частенько этим нас допекали…
8
Тридцать лет прожил Филипп Егоров на белом свете, но такой ночи переживать ему не приходилось. Вскоре после того как уехал генерал, где-то за сопками, к западу от границы, послышался рокот моторов. Вначале у Филиппа шевельнулась мысль: уж не прорвались ли где-нибудь и не пошли ли в обход японские танки. Граница тут простиралась на многие сотни километров, и организовать ее оборону хорошо в одинаковой мере было немыслимо. Но скоро он успокоился: пришел Тихонов и сообщил, что это передвигаются на новые позиции наши танковые части. В дороге, продолжавшейся не один день, Егоров своими глазами видел сотни эшелонов, следовавших с востока на запад. Они шли с быстротой курьерских поездов и были загружены самолетами, пушками, танками и прочим военным имуществом. Если, несмотря на это, на востоке действительно что-то оставалось, то это означало, что правительство в свое время хорошо позаботилось о незыблемости советских восточных границ.
Близ полночи до расположения третьей роты донесся такой топот, что от него дрожала земля. Все бойцы всполошились. В кромешной темноте по неопытности можно было вообразить, что это, перемахнув границу, развернутым строем, с обнаженными шашками, скачет японская кавалерия.
Топот приближался и нарастал с каждой минутой. Когда из темноты прямо в район расположения роты вырвалось несколько всадников, Егоров переживал такое напряжение, что готов был отдать приказ об открытии огня. Он искренне обрадовался, услышав, как на окрик часовых, охранявших подступы к роте с тыла, послышалась русская речь. Он побежал к верховым узнать, что им нужно. Осветив кавалеристов ручным фонариком, Егоров увидел батальонного комиссара и с ним двух всадников в плащ-палатках. Батальонный комиссар спросил, как называется падь, за которой располагалась рота Егорова, и, ругаясь по поводу того, что кавалеристы уклонились в сторону, поскакал в темноту. Его молчаливые спутники со свистом замахали плетьми и помчались вдогонку. Вскоре топот замолк, и установилась тишина.
И если рокот моторов и топот лошадей рождал тревогу и заставлял усиленно работать воображение, то и тишина не принесла никакого успокоения.
Было уже, наверное, недалеко до рассвета, когда вдруг раздался глухой, но довольно мощный взрыв. Он произошел не близко, но до сопок, на которых сидел батальон Тихонова, докатился содрогающий землю гул.
«Ну вот и началось!» – подумал Егоров. В том, что это было начало войны, а не что другое, он теперь нисколько не сомневался. В эту минуту грозного события ему захотелось почему-то повидать Витю Соколкова. Невзирая на разницу лет, а теперь и на разницу в служебном положении, Егорова тянуло к этому пареньку. Он бросился во второй взвод.
– Витя… Соколков… – почти шепотом, но тоном, полным невыразимого и большого значения, проговорил Егоров.
Соколков с готовностью кинулся навстречу Егорову.
– Филипп Иваныч… Товарищ комроты… – Они обменялись в темноте крепким рукопожатием, и Егоров побежал на командный пункт.
– Комбат не звонил еще? – спросил Егоров телефониста, неотрывно сидевшего у телефона.
– Никак нет, товарищ комроты, – ответил телефонист и опять приложил трубку к уху.
Ответ телефониста изумил Егорова. Он был убежден, что за короткие минуты его отсутствия весь батальон пришел уже в движение и ему остается поднять свою роту. Но минуты текли, а все оставалось по-старому. Телефон попискивал, но звонка, того важного звонка от комбата, которого Егоров ждал не минутами, а секундами, все не было и не было.
После взрыва прошло не менее получаса, когда наконец полевой телефон запищал протяжно и взывающе. Егоров выхватил у телефониста трубку, притиснул к уху и замер как вкопанный: он узнал голос Тихонова.
Не слушая ничего, Егоров заторопился:
– Я «Ракета», я «Ракета»! – и приготовился выслушать то, что ему казалось уже неотвратимым. Но капитан звонил совсем по другому поводу.
– Ну, каков взрыв-то? Коза на наше минное поле забежала. Представляю, какой переполох сейчас у японцев… Почаще посты проверяйте, чтоб не задремал кто-нибудь…
Егоров отдал трубку телефонисту и засмеялся. Вот что значит неопытность! Недаром в армии любят повторять старую русскую пословицу: за битого двух небитых дают.
Только перед утром, когда сумрак стал понемногу редеть и Егоров почувствовал от непрерывных ожиданий усталость во всем теле, неожиданно телефон захрипел часто и требовательно.
– Вас, товарищ комроты, – проговорил телефонист, подавая Филиппу трубку.
Говорил Тихонов:
– Внимание, Егоров! Японцы начали продвигаться к нашей границе. Еще раз предупредите всех бойцов, что за стрельбу без команды – расстрел. И запрячьте всех до единого в окопы!
– Есть, товарищ капитан! – прокричал в трубку Егоров и бросился во взводы выполнять приказ капитана.
Прошло, пожалуй, не меньше часа, пока сумрак расползся по падям. Теперь не только в бинокль, а даже простым глазом Егорову хорошо было видно, как из распадков выползают колонны японских войск.
Когда основная часть людей, повозок и автомашин оказалась за пределами сопок, стало ясно, что это был пехотный полк со всеми приданными ему подразделениями. В конце одной из колонн двигались тупорылые пушки и несколько подвод с имуществом саперов и связистов. Глядя на стройные колонны солдат, на хорошо увязанные грузовики и повозки, на полевые кухни, дымившиеся синеватым кудрявым дымком, казалось, что японцы отправились в продолжительный поход и совершают его не у самой границы с Советским Союзом, а где-нибудь в глубине Маньчжурии, в полупустынной местности.
Но еще через полчаса, когда до границы осталось не больше километра, колонны начали дробиться, расползаться, и полк быстро развернулся в боевой порядок.
Отсюда, с советской стороны, наблюдали за всем, что происходило у японцев, с напряженным вниманием. Подкорытов лежал рядом с Соколковым, припав к ложу винтовки. Он лежал не шевелясь, упершись крепкими ногами в каменистый край окопа. Соколков слышал, как Подкорытов скрипел зубами и посылал длинные и витиеватые матюки в адрес японцев. Сам Витя, смотревший вначале на все, что происходило возле границы, лишь с мальчишеским любопытством, чувствовал, как с каждой минутой в его груди нарастает злоба и нетерпение. Василий Петухов, разместившийся от Соколкова справа, то и дело прикладывал свою винтовку к плечу и с каким-то сожалением опускал ее, вздыхая шумно и глубоко.
Егоров ощущал сейчас полное спокойствие. На душе была ясность, позволяющая думать трезво и о себе, и о людях, во главе которых он был поставлен.
Мысль о смерти шевельнулась в его сознании, но не показалась страшной. «Чем же ты лучше тех, которые сегодня, как и вчера, умирают там, на западе? Ты во всем – и в правах и в обязанностях – равен с ними».
А японцы все приближались к советской границе. Глядя, как они смешно покачиваются на своих коротких ногах, малорослые, согнувшиеся под тяжестью походной амуниции, словно нацеленные одной невидимой рукой, Егоров с гневом припоминал сообщения газет о пограничных конфликтах. «Что им надо? Что им надо? Сколько лет они не дают нам покоя? Открыть по ним огонь и… в трибунал», – подумал он. Но сознание его не перешло еще той грани, за которой оно уже не в состоянии бывает управлять поступками человека. Очень кстати протяжно запищал телефон.
– Еще и еще раз, Егоров, предупредите бойцов, – кричал Тихонов в трубку, – за самовольную стрельбу – вышка, да, да… и вам тоже вышка…
Голос Тихонова был совсем не обычный – спокойный и вразумляющий, а какой-то клокочущий, с визгливыми подголосками, словно кто-то сжимал ему горло. Егоров понимал, какие чувства теснились в душе капитана. Разве таким бы голосом прокричал он в трубку, доведись ему отдавать приказ об открытии смертоносного огня по этим копошащимся цепям японцев? Нет, у него нашлись бы и голос, и воодушевляющие слова. Но не от него ли, не от Тихонова ли, слышал Егоров фразу: «Мацуока? Вы бросьте в подпись Мацуоки верить. Верьте в себя. Мир на востоке больше теперь зависит от нас. Японец надеется, что мы тут ослабеем. Будет брать нас на испытку. Пусть обманется!»
«Пусть обманется! Да… Если это провокация – нас не спровоцируешь, ну а всерьез если, не жалей, Егоров, живота своего», – сказал сам себе Филипп. Он побежал по траншеям. Предупреждение Тихонова было своевременным. Вид у бойцов был настолько настороженным, взгляды их выражали такое беспокойство и в то же время решимость, что выстрел в японцев мог произойти в любое мгновение.
– Шлёнкин! Ты куда целишься?! – закричал Егоров, увидя, что боец приложился к винтовке и тщательно наводит ее на какую-то цель.
Шлёнкин нехотя оторвался от винтовки, виновато улыбаясь, сказал:
– Примеряю, товарищ комроты.
– Оставьте, если не хотите, чтоб я вас наказал, – сердито бросил Егоров и побежал в третий взвод.
А японцы продолжали продвигаться вперед. Вот до границы осталось двести, сто метров, пятьдесят, а они все шли и шли. Вот они вступили на узкую нейтральную полосу. Теперь до советской границы оставались считанные шаги.
Вдруг японцы остановились и замерли.
Не менее четверти часа они стояли без движения. Можно было подумать, что они совершают какой-то религиозный обряд, ради которого шли сюда. Но вот крайние зашевелились, задвигались, и тотчас вся равнина ожила: зафыркали лошади, загудели грузовики, засуетились на своих коротких ногах маленькие, смешные человечки.
Японцы двинулись, но двинулись не на русскую землю, а вдоль нее, по самой кромке границы. Они шли все так же медленно, шли до самых сопок, замыкавших равнину высокой стеной.
Когда сопки преградили им путь, они вновь построились в колонны, и эти колонны, похожие издали на извивающихся змей, поползли по распадкам к востоку.
9
После этого случая еще трое суток просидел батальон Тихонова на сопках вблизи границы. Японцы больше не появлялись, но разве можно было поручиться за то, что они не появятся и не вздумают углубиться на святую, политую потом и кровью многих поколений, прославленную и в трудах и в битвах, древнюю, но вечно юную русскую землю?!
Положение на советско-германском фронте с каждым днем осложнялось. Уже шли бои под Смоленском, враг блокировал Ленинград, на юге немцы осаждали Киев, Одессу, Севастополь. В ожидании сигнала большой войны против Советского Союза японская военщина дрессировала свои отборные банды на провокациях и пограничных стычках.
В те незабываемые дни августа – сентября сорок первого года на всем огромном протяжении советско-маньчжурской границы была отмечена особая активность японцев. Это никак не вязалось с выступлениями официальных государственных деятелей в Токио, которые продолжали ссылаться на верность пакту о нейтралитете с Советским Союзом. Советское командование, каждодневно видя действительную цену этим заявлениям, принуждено было увеличить в Забайкалье численность войск, ускорить их обучение, начать подготовку к зиме, что являлось делом настолько сложным и трудным, что оно одно, само по себе, требовало от советских воинов подвига.
Дни томительного сидения на границе всем надоели, и потому, когда батальон Тихонова вернулся в падь Ченчальтюй, бойцы с большой охотой принялись за земляные работы.
Хотя войны с японцами пока не случилось и бойцам не пришлось побывать в обстановке боя, пережитые дни как-то сразу сплотили всех, и батальон, созданный всего лишь несколько дней назад, производил уже впечатление сколоченного, повидавшего виды, поевшего немало солдатской каши и выпившего немало крепкого, прозванного чаелюбами «строевым», чая. Правда, бойцы батальона все еще не умели правильно поворачиваться кругом, нечетко докладывали командирам об исполнении приказа и на сборку оружия затрачивали времени в два раза больше, чем старослужащие красноармейцы. Но выход на границу в полной боевой выкладке был первым серьезным испытанием молодых воинов.
– Что ж, японцев мы теперь в глаза повидали, коли полезут на нас, нам с ними легче будет управиться, – говорили в батальоне.
Стояли знойные, необычайно длинные дни. Небо было таким высоким и прозрачно-голубым, что не верилось, будто когда-нибудь на нем могут появиться тучи, из которых забрызжет живительной влагой долгожданный дождь. В полдень над степью воцарилось такое спокойствие, такая тишина, что цепенели даже легкие, как пушинка, стебельки сизоватого ковыля. В пади Ченчальтюй, окруженной высокими сопками, температура в середине дня поднималась до шестидесяти градусов. Трава на склонах сопок выгорела, и земля зияла зигзагообразными трещинами. Временами в воздухе становилось так сухо, что люди хватались за грудь, не в силах дышать. Несколько бойцов-узбеков, попавших в батальон Тихонова по нарядам военкоматов Средней Азии, щурясь на солнце, вспоминали свою родину, смеясь над тем, что Сибирь, рисовавшаяся их воображению страной льдов, оказалась не менее щедрой на тепло, чем их благодатная Фергана.
Работать в такую жару было почти невыносимо, но не работать было нельзя. Вышестоящий штаб предписывал быстрее закончить сооружение землянок, клуба, гаража, складов и приступить к усиленной боевой учебе. Но сделать все это было невероятно трудно. Леса для строительства почти не было, его едва-едва могло хватить на поделку дверей, окон и настил крыш. Все остальное нужно было ухитриться сделать из земли и камней.
Целую неделю батальон Тихонова работал не щадя сил. Люди не то что не замечали жары, нет, не замечать ее было невозможно, так как солнце жгло немилосердно, – они уже втянулись в работу. Всех мучила жажда. В такой зной хотелось пить и пить бесконечно. Вода же выдавалась строго ограниченно – две фляги на день. Введение пайка на воду вызывалось не только соблюдением правильного питьевого режима, от чего во многом зависело состояние здоровья людей, – воды было вообще мало. Ее возили на лошадях из полевого колодца, расположенного от батальона в двух километрах. Вода сочилась из-под земли настолько медленно, что за ночь ее набиралось не больше четырех-пяти бочек. Больше половины забирала кухня, остальное делили между людьми и оставляли для лошадей и грузовика. А ведь кроме всего этого людям надо было умываться, стирать портянки, гимнастерки, носовые платки. О купании даже и не поминали – это было недосягаемой мечтой.
К концу недели вся черновая работа по отрытию котлованов была закончена. Тихонов обошел все котлованы, осмотрел их и остался доволен: бойцы потрудились на славу – котлованы были емкие, вместительные, возле них лежали груды земли, щебня, песка. Сюда же на машине и подводах подвозили глину, найденную в одном из распадков, неподалеку от расположения батальона.
Среди бойцов оказались бывшие строители – печники, каменщики, штукатуры, и они, посовещавшись с капитаном, принялись месить глину, подбирать камень, годный для кладки печей и стен, трамбовать полы.
Дня через два-три у некоторых землянок были выложены стены, и печники заложили основания для печей. По подсчетам Тихонова, требовалась еще неделя упорного труда, чтобы считать наконец всю работу законченной. Хотя этот срок и превышал тот, что был установлен вышестоящим штабом, все-таки окончание строительных работ было серьезной победой батальона.
Но все произошло не так, как думал Тихонов, не так, как планировал в своих бумагах штаб, и не так, как того хотели сами бойцы.
Прекрасной бывает забайкальская холмистая степь в час восхода солнца. Освеженная ночной прохладой, даже в знойную погоду она расстилается волнистым зеленым ковром, похожим при первых ломких солнечных лучах на море, неровные, пенящиеся волны которого катятся, догоняют одна другую и никак не могут догнать. В этот час скудная, наполовину выгоревшая растительность степи кажется богатой и обильной – ступи на нее ногой, и нога утонет в этой мягкой зеленой мураве.
Высокое и ярко-голубое, без единой тучки, просторное небо ласково – смотри на него час, другой и ни за что не насмотришься.
Как ни тихо бывает в это время по распадкам, по самой низине невесть откуда движется невидимый, ощутимый только кожей, поток свежести, которая приятно щекочет тело, врывается в легкие и вселяет в душу радость жизни.
Утренний подъем в батальоне Тихонова в этот день протекал дружно, организованно, уже без той неразберихи и суетни, которые непременно сопутствуют новым армейским подразделениям в первые дни их существования.
После пробега по подножию сопки и гимнастических упражнений бойцы принялись за умывание. Умывальники не были еще устроены, и бойцы поливали друг другу из стеклянных фляжек, запрятанных в парусиновые чехлы. Воды на умывание отпускалось очень немного, и потому ее расходовали бережно, стараясь использовать каждую каплю с большей пользой.
Наступал новый день… И как ни трудно было жить и работать в такой зной, при таких сжимающих острой болью сердце известиях с фронта, все-таки наступление нового дня встречалось шумной радостью. По всей пади Ченчальтюй слышался смех, плеск воды; человеческие голоса сливались с нарастающими с каждой минутой трелями жаворонков, которые пели так рьяно, с такой страстью, что казалось, звенит сам воздух.
Тихонов поднимался вместе с батальоном. Он вышел из своей палатки, где временно размещался и штаб, и, пройдя шагов пятнадцать – двадцать, остановился, чтоб сделать утреннюю зарядку. Сбросив с себя нижнюю рубашку, он взмахнул раз-другой руками и опустил их, испытывая какую-то неловкость внутри. Тихонов принюхался к воздуху, закинув голову, посмотрел на небо. В воздухе витали какие-то новые запахи, напоминающие запах припаленной шерсти. Небо было, как обычно, ясным и высоким, только на юго-западе, над самым горизонтом, мутным пятном висела лохматая, похожая на непричесанную женскую голову, туча.
Тихонов подпрыгнул, широко разбрасывая ноги, и замахал руками, стараясь освободить грудь от этой неловкости, мешавшей ему дышать глубоко и свободно.
Вскоре подошел Власов. Он был в одних трусах, и его полное, коричневое от загара тело, освещенное ранним солнцем, поблескивало, словно лощеное.
– Кажется, на дождь повернет, дышится тяжело, – сказал Тихонов, когда Власов встал с ним рядом и, отбиваясь от комаров, принялся размахивать руками и ногами и крутить головой. Но Власов был гораздо моложе Тихонова, и ему еще не было дано этой способности чувствовать приближение перемен в природе. Он промычал в ответ на слова капитана что-то неопределенное и, изогнувшись так, что тело его изобразило букву Г, начал проделывать руками легкие, пластичные движения. Потом Власов, вытянув вперед свои сильные руки, упрямой бычьей походкой пошел на Тихонова, и они, сцепившись, пытались то поднять друг друга, то столкнуть с места, то повалить на мелкий, будто просеянный сквозь сито, песок.
После завтрака батальон приступил к работе. Тихонов подписал кое-какие бумаги, заранее приготовленные Власовым, исполнявшим временно должность адъютанта старшего, и направился к котлованам. Ощущение неловкости в груди не проходило, и он впервые с тоской подумал: «Старею, что ли?»
А день уже разгорался, набирал силы. Час от часу воздух становился гуще, горячее, и по тому, будто окаменевшему спокойствию, которое царило над землей, чувствовалось, что день будет небывало знойным и тяжким.
Но часов в десять утра вдруг над одной из сопок поднятый вихрем взметнулся в небо столб рыжей степной пыли. Он с легкостью и стремительностью пронесся по горбатому хребту сопки, перескочил на другую сопку и, промчавшись по ней, рассыпался в воздухе на несколько бешено крутящихся мячей.
Еще через пятнадцать – двадцать минут эти мячи запрыгали по всей степи. Воздух сразу заполнился мельчайшей пылью, и вокруг стало серо и сумрачно. Желтое, лучащееся солнце поблекло и вскоре приобрело цвет жженого кирпича. Теперь становилось буквально нечем вздохнуть. Поднятая вихрем пыль лезла в глаза, забивала ноздри, хрустела на зубах.
Многое уже повидали бойцы батальона Тихонова за те недолгие дни, которые провели в Забайкалье, но то, что совершалось сегодня, было им еще в новинку. Они не знали, что этот сухой ветер, перемешанный с пылью, является страшным предвестником надвигающихся монгольских суховеев. Если внезапно не прорвется сюда дождь и не приостановит это горячее дыхание раскаленной степи, суховеи будут дуть неделю, две, месяц. Они испепелят землю, поднимут в воздух тонны песка и будут кружить его, бросать, наметая серые сугробы; они будут с остервенением хлестать людей по лицам, рассекая до крови кожу и забиваясь в глаза. А солнце будет жечь по-прежнему, и при температуре в шестьдесят градусов вся эта взбаламученная степь станет настоящим адом.
Тихонов подозвал Власова, и тот, подходя еще, заговорил о том же, о чем собирался сказать капитан:
– Суховеи начинаются, товарищ капитан. Беда, если надолго.
– Да-а, – протянул Тихонов, пожевав губами, и, помолчав, озабоченно спросил: – А как у нас, Власов, колодец плотно закрыт, не забьет его песком, не останемся мы в эту чертову погодку совсем без воды?
– Я уже послал туда, товарищ капитан, старшину третьей роты с двумя бойцами, приказал им закрыть колодец плотно досками, а на доски положить побольше камней, чтоб не унесло их ветром.
– Воды, Власов, надо с завтрашнего дня прибавить бойцам. Выдавайте три фляжки. Иначе можем погубить людей. Раз в сутки посылайте грузовик на разъезд. Пусть привозят оттуда.
– Горючего, товарищ капитан, нету. Осталось полтонны мобзапаса.
– Мобзапас не трогайте. Японцы полезут, а нам не на чем будет боеприпасы подвезти. Сократите расходование воды на кухне. Повара льют воду когда надо и не надо.
Тихонов собирался что-то сказать еще, но налетевший вихрь с таким ожесточением ударил его по лицу, что он весь сжался, не замечая даже, как новый порыв ветра сорвал с него фуражку и понес ее по распадку.
Власов, закрывая глаза ладонью, кинулся за фуражкой и, быстро нагнав ее, придавил ногой. Тихонов стер пыль с загоревшего, красно-медного лица, проморгался; отфыркиваясь и отдуваясь, поспешил за Власовым. Приняв от младшего лейтенанта фуражку, Тихонов нахлобучил ее до самых глаз. Они постояли еще минуту-две, весело и заразительно хохоча над происшедшим, и направились разными дорогами: Тихонов – на кухню снимать пробу с обеда, а Власов – в первую роту, заступающую в этот день в наряд.
А ветер не только не унимался, а все больше и больше нарастал. Когда бойцы пришли на обед, степь уже кипела от множества вихревых столбов и скачущих рыжих мячей.
Надо было обладать большой хитростью, чтоб суметь пообедать в такую погоду, не накормив себя вдоволь пылью и мелкой галькой, которая при каждом порыве ветра взлетала в воздух с легкостью птичьих перьев.
Шлёнкин и Соколков ели из одного котелка. Шлёнкин растянулся на земле, поворачивался и так и этак, стараясь своим крупным телом отгородить котелок от ветра. Но это ему не удавалось. Ветер вздымал пыль то позади него, то впереди, то где-то сбоку, и Шлёнкин, отчаявшись, перестал наконец крутиться и принялся за еду, ворчливо бубня:
– Сведут меня в этом распрекрасном месте в могилу… У меня ж язва желудка начиналась. Три раза от системы путевки на курорт получал. Вот, пожалте, камень какой занесло! Ты смотри, Соколков, в нем свободно двадцать граммов будет. Попадет такой в пищевод, и заказывай, Шлёнкин, поминки…
– И что ты так за свою жизнь дрожишь, Шлёнкин?! В такое время люди подороже тебя погибают, – сказал Соколков, зная, что Шлёнкин рассердится и понесет о своих заслугах перед «системой», которые здесь, в армии, и знать даже не хотят.
Что касается его, Соколкова, то он чувствовал себя прекрасно. Чем труднее становилось жить на границе, тем все сильнее и сильнее душа его рвалась навстречу трудностям. Тогда, в обороне, когда японцы вышли побряцать оружием, Соколкову хотелось, чтоб они пошли дальше, чтоб наши части зажали их в тиски и показали, как играть с огнем. Правда, в отличие от некоторых других бойцов, которым потом комроты дал по пять нарядов вне очереди, Соколков не высовывался из окопа посмотреть на японцев, он не примерял своей винтовки к живой цели, послушно сидел в окопе, ожидая команды, но в душе его не было никакой робости, и он рвался в бой всем своим существом.
Изнурительные земляные работы под знойным солнцем утомляли его не меньше других, но он не переставал тянуться к чему-то более трудному и по-прежнему был весел, деятелен и жаден до жизни. Начавшиеся суховеи не испугали его. Это было новое, а все неизведанное влекло его, захватывало, как интересный роман. Дома и в школе, в пионерском отряде и в комсомольской организации его приучили не бояться трудностей, интересы общества, государства, товарищей ставить выше своих личных интересов. И он следовал этому всюду и во всем, потому что иначе поступить не мог.
Отец Соколкова был старым партийным работником. То секретарем райкома, то парторгом ЦК на стройках он исколесил самые отдаленные уголки страны. Покончив с одним строительством, он ехал на другое. Назначая его на новый пост, ему рассказывали о трудных условиях работы где-нибудь в Норильске, или в Бодайбо, или в Комсомольске. Он внимательно выслушивал и с шутливой серьезностью спрашивал: «Ну а советская власть там есть? Советские люди там есть? Есть?! Так в чем же дело? Выписывайте путевку!»
После этого, возбужденный, громогласный, он являлся домой и с порога еще радостно кричал своим пятерым сыновьям-погодкам, старшим из которых был Викториан: «А ну, братва, собирайся в поход!» Жена только руками всплескивала: «И что тебе не сидится на месте? Едва-едва обжились тут». И Соколковы ехали, порой по месяцу, по два, ехали на всех видах транспорта, начиная от самолета и кончая вихреподобной упряжкой быстроногих оленей, прежде чем попадали к месту назначения.
И Витя своим детским чутким сердцем познавал ту великую правду, в которую отец его верил необоримо, всей силой своей страстной души: была бы советская власть, были бы советские люди, а жизнь, жизнь не может не быть увлекательной.
К тому же он был романтик, этот бывший студент и молодой воин, Викториан Соколков! Он жил, учился, работал, будучи чуточку то Павкой Корчагиным, то Левинсоном, то Фурмановым, то Чапаевым, смотря по обстоятельствам.
Сейчас, когда нещадно жгло солнце и в степи буянил суховей, он воображал себя немножко Пржевальским, пересекающим необозримые, безводные пространства Азии, или тем ученым из кинокартины с позабытым названием, который проник в Каракумы, исследовал их и создал в песках волшебные зеленые оазисы. Ученый сотворил это чудо пока на экране, это была еще его мечта. Ну что ж! Витя хотя и прожил немного, но не раз своими глазами видел, что в его время и в его стране мечта, самая смелая мечта, могла быстро стать живой реальностью.
И потому ему было смешно и забавно слышать брюзжание Шлёнкина. Вначале Соколкова это так злило, что он не мог спокойно разговаривать с товарищем, теперь же Шлёнкин со своей непомерной заботой о самом себе вызывал у него веселую усмешку и желание подтрунивать над ним.
– Ты вот, Шлёнкин, расскажи лучше, как в «системе» банкеты устраивал? Гляди, вспоминая, и покушаешь в свое удовольствие, – заливаясь звонким, веселым, мальчишеским смехом, говорил Соколков. Маленькое, в веснушках лицо его облупилось от солнца и было пестрым, как сорочье яйцо. Ясные глаза лучились, и в них было столько жизни, столько радостного, буйного веселья, что казалось, будто оно, это веселье, каскадами искр брызжет из его глаз.
Шлёнкин, конечно, понимал, что Соколков часто разговаривает с ним в ироническом тоне. Но черт с ней, с иронией, пусть бы только слушали его рассказы о том благословенном и невозвратном времени, когда он, Терентий Шлёнкин, тоже кое-что значил!
– Вот, Витя, когда я работал в «системе», приехал к нам однажды представитель из Москвы, из главка, – заговорил Шлёнкин. – Дела у нас шли неплохо, и после ревизии наш управляющий решил дать в честь столичного представителя банкет. Для этой цели я, как главный распорядитель вечера, откупил малый зал ресторана «Золотая тайга». Вот это был банкетик! Чего только не было на столах!
Тут красивый, грудной басок Шлёнкина перешел почти на шепот, и он с таким увлечением стал расписывать убранство столов, обилие блюд, разнообразие вин, что и в самом деле забыл о бесновавшейся песчаной пурге и зное, который становился уже совершенно непереносимым.
Повествование Шлёнкина было вдруг прервано резким возгласом капитана Тихонова:
– Кончай обедать, надвигается ураган!
Бойцы и командиры, сидевшие возле котелков, вскочили. Из-за горизонта к зениту, к помутневшему в месиве песчаной пыли солнцу, быстро поднималась туча. Она поднималась так быстро, что казалось, будто кто-то подталкивает ее снизу. Туча была черной и походила на обугленную степь после прогулявшегося по ней весеннего пала. Рваные края тучи напоминали гигантские лапы сказочного чудовища, которые то сжимались, то вытягивались, как бы в поисках добычи. Вокруг тучи кипели, как вода в котле, синие с белесоватым оттенком небольшие облачка. Ветер стал на короткие промежутки стихать, но после затишья срывался, как бешеный, и дул с такой силой, что в воздух взлетали даже камни. Теперь по степи носились не рыжие мячи, как было полчаса назад, а огромные, похожие на высокие каменные стены, шатры. Когда они, поднявшись с земли, в стремительном беге неслись по простору, мерк белый свет; солнце, не перестававшее гореть густо-оранжевым огнем, скрывалось за этими шатрами, и сумрак покрывал степь.
Тихонов собрал командиров рот и взводов. Правда, и командиров-то было раз-два и обчелся. Надо было, не теряя ни одной минуты, закрыть плащ-палатками оружие, боеприпасы и продовольствие, укрепить палатки, в которых находилась штабная переписка и кое-какое штабное имущество. Уж кто-кто, а он, Тихонов, знал, что коли приходится лихо от сухой пурги, то не приведи бог, если в этакий ветер хлынут с неба потоки воды.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































