Текст книги "Дело Томмазо Кампанелла"
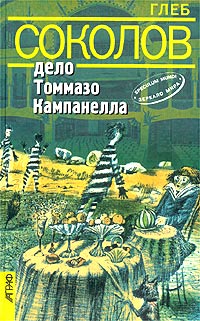
Автор книги: Глеб Соколов
Жанр: Триллеры, Боевики
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 40 страниц)
Глава XXXVIII
Любимый вид мучительной казни
– Я предлагаю тебе тут же отправиться на гастроли!.. Ты же говорил, что здорово было бы отправиться в Санкт-Петербург… То есть в Прагу я хотел сказать… За то время, которое прошло с того момента, когда ты возле тюрьмы «Матросская тишина» удрал от меня на такси, я успел провести необходимые приготовления!.. – проговорил Паспорт-Тюремный.
В этот момент Томмазо Кампанелла и Паспорт-Тюремный медленно шли по Электрозаводскому мосту, то и дело останавливаясь и глядя вниз, туда, где вдалеке, между высоких, забранных в гранит набережных, как не дне каньона, мерцали антрацитно-темные воды Яузы.
– Паспорт-Тюремный, ты когда-нибудь слышал про китайскую казнь с прорастающим бамбуком? – ответил вопросом на предложение Паспорта-Тюремного Томмазо Кампанелла.
– Нет, – честно признался Паспорт-Тюремный. – А что это за казнь?
Паспорт-Тюремный не мог понять, куда клонит Томмазо Кампанелла.
– Казнь эта была основана на том, что стебли молодого бамбука очень тверды и растут достаточно быстро, – отвечал хориновский герой. – Обреченного человека специальным образом прижимали к земле, из которой прорастал бамбук. Бамбук прорастал и впивался в лежавшего на земле человека, постепенно протыкая его насквозь… Медленная, мучительная смерть. Чем дальше прорастает бамбук – тем ужаснее мучения…
– А при чем здесь мы с тобой? – не понимал Паспорт-Тюремный.
По узкому мосту одной из веток Казанской железной дороги параллельно Электрозаводскому мосту через Яузу с грохотом двигался пассажирский поезд. Через окна вагонов было видно, как в освещенных купе пассажиры, на ночь глядя уезжавшие из Москвы, деловито укладывались спать, раскладывая на полках свои постели. Должно быть, и им, пассажирам поезда, были хорошо видны две фигуры, прохаживавшиеся по мосту. Могли ли пассажиры представить себе, что это за фигуры, какие отношения их связывают и какая история разворачивалась вокруг них этим вечером, самым важным в современной истории самого необыкновенного в мире самодеятельного театра «Хорин»? А думал ли Томмазо Кам-панелла о том, что, может быть, в одном из купе этого поезда происходит подобный же разговор между каким-нибудь другим Томмазо Кампанелла и другим Паспортом-Тюремным, которые уже выехали на поезде на свои «гастроли» куда-нибудь в другой город, чтобы воровать и жить в номерах «люкс» центральной гостиницы этого города?..
Разговор тем временем продолжался:
– Ты, скорее всего, ни при чем. А вот я чувствую себя пригвожденным к нашему Лефортово, из которого, кажется, пока еще слегка, несмело, но уже начал тянуться кверху молодой бамбук, – мрачно ответил Томмазо Кампанелла.
– Вот и отлично!.. Отлично, что ты это понял! Тебе надо заканчивать с этой нудной, оседлой жизнью, пока бамбук окончательно не пророс из земли и не впился тебе в спину! Ты же помнишь, что я рассказывал тебе про сынка великого артиста Лассаля: тот понял, что только постоянная смена впечатлений, непрерывная круговерть, присущая полному приключений путешествию, только переезд с места на место могут избавить от постоянной депрессии, в которую, безусловно, просто не может не впасть нормальный умный человек от всей этой окружающей жизни, – распинался Паспорт-Тюремный, пытаясь уговорить Томмазо Кампанелла отправиться в его обществе в «особое» путешествие – на «гастроли».
– Нет-нет, я не согласен. Никуда я с тобой не поеду. И напрасно ты меня преследуешь! Я больше не желаю тебя знать! – воскликнул Томмазо Кампанелла.
– Погоди, не торопись отказываться, – не отставал от Томмазо Кампанелла Паспорт-Тюремный. – Отказаться очень просто. Но что ты будешь делать потом?.. Как ты осуществишь свою революцию в лефортовских настроениях? «Хорин» тебе больше в этом не поможет. Наверняка ты слышал по рации, что произошло в «Хорине». Господин Радио сбежал. Хориновская революция потерпела поражение. Никаких событий того рода, что все ожидали, не произошло: вас так и не пригласили на театральный фестиваль, никто так и не обратил на «Хорин» внимания. Там теперь правит бал мерзкий верзила Совиньи!.. Вернись ты в «Хорин» – ты бы оказался у него в лапах, испытал бы ужасные унижения, которые были бы невыносимы при твоем гордом характере. Только я, Паспорт-Тюремный, могу тебе, Томмазо Кампанелла, помочь.
– О, ты не понимаешь моего состояния! – замахал руками Томмазо Кампанелла. – Я уже не знаю, что меня больше угнетает: лефортовские настроения, страх оказаться в тюрьме и познакомиться с ее ужасами или ужас быть униженным Совиньи.
Мимо них по мосту проезжали редкие автомобили.
– Все так переплетено: единственный выход устроить революцию в лефортовских настроениях – это согласиться на твое предложение, – продолжал Томмазо Кампанелла. – Но это будет означать разрастание в моей голове страха перед тюремными ужасами. Я не хочу в тюрьму!.. Так же как терпеть унижение от Совиньи было бы для меня ужасно, но и ужасно было бы, скажем, ударить его ножом, потому что это опять-таки означало бы встречу с ужасами тюрьмы и новыми Совиньи.
Тут Томмазо Кампанелла призадумался.
– Истерика! Истерика! От такой безвыходности меня охватывает истерика. Получается, что куда ни кинь, – всюду один сплошной клин, – сказал он наконец.
– Друг мой, ты слишком труслив, – огорченно заметил Паспорт-Тюремный. – Ты слишком нерешителен. Попробуй сделать какой-нибудь серьезный шаг, поступок, в конце концов, как любил говорить Наполеон, ввяжись в драку, а уж там посмотришь!..
– Да, это верно: надо ввязаться в драку, а там видно будет, там станет понятно, куда эта кривая вывезет!.. – тут же откликнулся Томмазо Кампанелла. – Ладно, черт с ним! На гастроли так на гастроли, в Санкт-Петербург так в Санкт-Петербург! В Прагу так в Прагу!.. Паспорт-Тюремный, я не знаю, кто ты такой и что за странная сила материализовалась в тебе, но я прошу тебя – помоги мне, помоги мне изменить мои настроения!.. О, странная сила, только на тебя у меня теперь надежда, только на тебя!..
И через паузу он добавил:
– Честно говоря, я чувствую себя вконец запутавшимся в этой жизни. Хочется наконец хоть в чем-то достичь какого-то результата. Одолеть хотя бы один из преследующих меня кошмаров. Преодолеть бы хоть кошмар угнетенного настроения, которое охватывает меня в Лефортово, – и то было бы хорошо! Я должен, хотя бы и с твоей помощью, одолеть это настроение!.. Ты прав, надо быть смелее. Надо сделать решительную попытку остановить прорастание бамбука. Надо не допустить, чтобы он впился в мое тело, обрекая меня на ужасные мучения. Я должен быть смелым, иначе, действительно, жизнь обернется медленным и ужасно мучительным умиранием. Я должен быть смелым, как Жора-Людоед. Жора-Людоед – вот по-настоящему смелый человек! Он мне нравится этот Жора-Людоед с его смелостью!.. У него есть чему поучиться, есть что взять!..
– Вот молодец! Правильно! – восторженно поддержал его Паспорт-Тюремный. – Сообразил наконец что к чему!..
И вслед Томмазо Кампанелла восхищенно сказал Паспор-ту-Тюремному:
– Смелость!.. Дерзость!.. Одну только смелость его взять… Без преступления… А преступление – не брать. Ему оставить…
– Не-ет, нет, погоди… Так нельзя, – пытался перебить его Паспорт-Тюремный, но Томмазо Кампанелла не слушал его.
–Пусть подавится своими преступлениями, своими деньгами! Только смелость его взять!.. Смелость в преодолении Лефортово!.. Без воровства, без преступления!..
– Подожди, так ты что же, не будешь воровать?! – больше напоказ обиделся Паспорт-Тюремный, который вовсе не ожидал, что удастся так быстро и легко склонить Томмазо Кампанелла к поездке и, когда это произошло, ужасно обрадовался.
– Нет. Понимаешь, я… Как бы тебе это сказать?.. – замялся, пытаясь найти верные слова Томмазо Кампанелла. – Людоедова «смелость» – это особое состояние, его я должен перенять. Но это состояние у Людоеда крепко связано со всей преступной частью его жизни. Всю эту преступную часть жизни я брать, перенимать у него не должен. Смелость – как надстройка. Преступления Людоеда – как базис. Раз базис и надстройка – штуки все-таки разные, значит, можно перенести в свою душу надстройку, выработанную Жорой-Людоедом, а базис, преступная жизнь – пусть с ним остается. Мне она ни в коем случае не нужна. Мне ничего такого, что связано с тюрьмой, не нужно. Я не преступник. Людоедова смелость – она может быть решением этой моей лефортовской тоски, этой проблемы: решение в том, чтобы быть смелым, просто отвечать на тоску смелостью. Ведь Жора-Людоед тоже страдает от этого Лефортово, и он прямо и однозначно сказал мне об этом. И в нем Лефортово тоже, как и во мне, постоянно вызывает всякие мрачные настроения. Но он при этом нашел способ преодолевать в себе последствия этого мрачного лефортовского настроения. Этот способ – удалая воровская жизнь, жизнь вечного гуляки, формула Лефортово, как ты ее назвал. И это все я от Жоры-Людоеда готов взять. Все атрибуты воровской жизни, кроме преступления. Антураж, настроение – все!.. Переезды с места на место, удаль, веселье, рестораны, свободную вольготную жизнь, яркие впечатления – готов взять. Но воровать – нет, не готов!
– Ну ничего!.. Не волнуйся. Мы тебя все равно посадим! – с удовлетворением заключил Паспорт-Тюремный.
– За что?! – огорошенный таким выводом спросил Томмазо Кампанелла.
– По ошибке, – как о само собой разумевшейся вещи сказал Паспорт-Тюремный, вскинув на Томмазо Кампанелла большие порочные глаза. – В Российской Федерации очень несовершенная система следствия и правосудия, которая непрерывно дает сбои и совершает ошибки. В тюрьму нет-нет да и попадают совершенно невиновные люди, не имеющие никакого отношения ни к преступлениям, ни к преступному миру. Некоторых из них потом, через некоторое время, разобравшись, из тюрьмы выпускают – трясущихся, больных и сломленных. А некоторых – и нет. Так и сидят себе. По Ошибке. И никому, в общем-то, до этого нет дела. Торжествует, как всегда, вопиющая несправедливость, тупость, лень, нежелание разобраться, предвзятость, погоня за красивыми отчетами, наконец! Недаром русский народ придумал поговорку «от тюрьмы да от сумы – не зарекайся!»
Глава XXXIX
Не в жизни
Мимо них в это время ехал уже другой пассажирский поезд из Москвы. На вагонах было написано «Татарстан». В освещенных купе, так же как и в недавно проехавшем поезде, укладывались спать уезжавшие из Москвы на ночь глядя люди. Опасались ли они ошибок следствия?.. Думали ли об этом?
…Морду машины с широкой решеткой радиатора и фарами, большими и тупыми, как коровьи глаза, Томмазо Кампа-нелла увидал уже, когда она, оседая на передок от резкого торможения, подворачивала к бордюру, – желтое такси, «Волга»… Диван не красный – серый. Все равно, тепло… Можно смотреть в окно…
Через некоторое время Томмазо Кампанелла и Паспорт-Тюремный уже катили в такси в аэропорт по темным лефортовским улочкам.
Паспорт-Тюремный погрузился в оцепенение, Томмазо Кампанелла тоже ничего не говорил.
Томмазо Кампанелла в эти минуты думал о закономерности, которую открыл: как только он садился в такси, он точно вырывался из Лефортово, в какой-то особый, отдельный мирок, который существовал в стареньких машинах с продавленными диванами. Сидя в салоне такси, которое ехало по Лефортово, Томмазо Кампанелла чувствовал себя исследователем, который спустился в батисфере в океанскую впадину и теперь изучает сквозь иллюминаторы особый глубоководный мир, куда сквозь толщу вод не в силах пробиться солнечные лучи. Этот мир населяют особые, доселе не известные науке обитатели. Они могут быть опасны, ведь черт его знает, какая агрессия может таится в их распираемых кошмарным давлением мозгах! В машине, как в той воображаемой батисфере, – относительный уют и безопасность. Но кажется, Томмазо Кампанелла слышал, как давление в тысячи атмосфер хрустело обшивкой – толща вод, как чудовищной силы пресс, давила на корпус батисферы. Не от них ли, от этих навалившихся на него атмосфер, у Томмазо Кампанелла вновь заболела голова?..
Томмазо Кампанелла легко узнавал места, по которым в этот момент проезжало такси: вот старая постройка петровского «гошпиталя», а вот, на противоположной стороне улицы, низкие каменные клети общины солдатских жен – нечто вроде гостиницы для женщин, которые ухаживали за своими ранеными мужьями, что находились на излечении в госпитале.
Томмазо Кампанелла несколько раз прокрутил ручку на двери, стекло немного опустилось. В салон такси рванулся холодный воздух.
– Ну вот, вода стремительно начала поступать во внутренности батисферы, и та упала на грунт, чтобы уже никогда не всплыть с него на поверхность, – проговорил, усмехаясь своим мыслям, Томмазо Кампанелла.
– Наоборот, сейчас мы всплывем со дна! – весело сказал Паспорт-Тюремный.
Томмазо Кампанелла тем временем включил, впервые после долгого перерыва, радиостанцию, которую вручил ему Господин Радио.
– Кошмар, вы чувствуете, какое везде напряжение?! – приглушенно донеслась из динамика речь какого-то участника самого необыкновенного в мире самодеятельного театра, которого Томмазо Кампанелла по голосу узнать сейчас не смог.
– Чувствую!.. – ответил Томмазо Кампанелла и опять мрачно, невесело рассмеялся.
Хориновский герой глянул по сторонам. Госпитальная площадь, рассеченная трамвайными путями, была почти безлюдна. Окна низеньких, еще петровских строений ярко освещены. Что за ними – операционная, приемный покой, архив?.. Только на проходной стоял куривший солдат. Огонек сигареты то и дело тускло вспыхивал в темноте.
Единственными прохожими здесь были какие-то две тетки, замотанные толстыми серыми платками и с огромными тюками через плечо…
В этот момент с горки, со стороны Иноверческого кладбища, с грохотом подкатил трамвай и, остановившись прямо посреди площади, распахнул двери. Несколько человек вышли на проезжую часть. Среди них было два рабочих в темных, засаленных комбинезонах, – шли, пили пиво из бутылок и громко ругались…
Вскоре остались позади и Бауманская, и Бакунинская, и Переведеновский… Смотреть стало неинтересно. Томмазо Кампанелла задремал.
Снилась ему руководительница хориновской группы детей:
– А знаете ли, почему такая религия, как ислам, запрещает художнику рисовать изображения людей и животных? – спросила учительница зловещим тоном и поправила на носу очки-велосипедики, в которых не было стекол. – Потому что в день Страшного Суда все эти изображения оживут, придут к художнику и начнут требовать, чтобы отныне он их всех кормил!
– Мы хотим есть!.. Мы хотим есть!.. Мы хотим есть!.. – начали кричать все маленькие участники хориновской группы детей хором и с этими криками стали придвигаться к Томмазо Кампанелла все ближе и ближе. Тот расхохотался:
– Эй, эй, что вы, у меня нет такого количества детей! В моей жизни было много романтических приключений, но не столько же детей я наплодил!
В этот момент многие дети вынули из-за спины до этого спрятанную правую руку, в которой они держали, кто обломок лыжной палки с острым концом, кто вырванную из ящика из-под яблок или апельсинов доску с торчавшими в разные стороны длинными ржавыми гвоздями, кто просто какую-то засохшую кривую ветку, сорванную ветром с дерева.
– Ты станешь нас кормить или нет, проклятый революционер в лефортовских эмоциях?! – кричали они. – Хватит строить из себя свободного школьника! Ты уже не школьник. Ты должен всех кормить. Мы хотим кушать! Нам подавай кушаний. Но не просто кушаний, а таких кушаний, чтобы нам было не стыдно, что мы их едим. Нам подавай самых отборных и замечательных, и невероятных кушаний!
Некоторое время Томмазо Кампанелла стоял без движения, и участники хориновской группы детей, непрерывно выкрикивая то хором, то в разнобой всевозможные фразы, окружили его плотным кольцом. И тут они взмахнули кто палкой, кто веткой, кто доской от ящика и затем начали бить ими Томмазо Кампанелла. К его счастью, у детишек все-таки было не так много силенок, иначе он бы просто не вырвался из этого ужасного кольца.
– Ничего себе детки! Вот так цветы жизни на могиле родителей! – схватившись за щеку, а потом отняв ладонь от щеки и обнаружив на ней кровь, проговорил Томмазо Кампанелла. – Попал бы этот гвоздь на пару сантиметров повыше, и я бы остался без глаза.
В этот момент одна из девочек подскочила к нему и, изловчившись, бросила ему в голову пустую пивную бутылку, которую она подобрала где-то тут же у стены дома. Томмазо Кампанелла удалось увернуться.
– Эгей! Учительница! Да что же это такое?! Это уже никак не шутки. Это даже злыми и опасными шутками нельзя назвать. Это просто преступление! Вы что, хотите, чтобы они меня убили?
– Это все потому, Томмазо Кампанелла, что вы не хотите работать! Между прочим, сейчас вы собираетесь повидаться с Шубкой. Вы спешите на встречу с Шубкой. Так вот, я абсолютно точно знаю, что Шубка хочет вас убить.
– За что?! Этого не может быть! Я просто не верю своим ушам. Вы говорите кощунственные вещи. Шубка, мой мальчик, мой милый мальчик хочет меня убить?! Да это же какая-то полная чушь!
В этот момент девочка, которая только что бросила в Томмазо Кампанелла бутылку, попыталась поднять ее с асфальта, видимо, чтобы вновь бросить ее в Томмазо Кампанелла, но тот ловко отбросил бутылку в сторону.
– Томмазо Кампанелла, вам нужно идти работать, – проговорила учительница в очках без линз. – Послушайте! Послушайте! Послушайте, дорогой мой! Немедленно возвращайтесь домой! Вам завтра рано вставать. Если вы не выспитесь, вы не сможете встать на работу. Вас не просто побьют селедочным хвостом, вас уволят. Мало того, что вы не выспитесь… Вы – в каком вы виде?! Вы не сможете выйти на работу чистеньким, наглаженным, застегнутым на все пуговицы. Вы не сможете кормить своих деток.
– Я вам не верю!.. Я понял, почему вы так стараетесь уговорить меня. Вы сестра моей квартирной хозяйки. Хорошего квартиранта по нынешнему времени найти непросто: чтобы и приличный был, и с деньгами… Если я потеряю работу – ваша сестра потеряет квартиранта, доход… Ведь я не смогу платить за квартиру!.. И ваша сестра не сможет давать деньги вам… Господи!.. Какое простое объяснение!… Какая примитивная материальная причина!.. Плач деток!.. Плач деток!.. Не верю я этому плачу деток!.. Он – не настоящий!..
Затем следующий сон: Томмазо Кампанелла и Шубка стояли рядом с мукомольной фабрикой у какого-то длинного, унылого забора… Нет-нет, они стояли, конечно же, не возле настоящей фабрики – они стояли посреди декораций, изображавших фабрику и ее окрестности на сцене театра «Хорин»…
– Шубка, неужели все это Лефортово тебе нравится?! – проговорил Томмазо Кампанелла, обращаясь к Шубке.
– Да!.. Я совершенно не понимаю, что ты от меня хочешь? – Хочу, чтобы мы вместе как-то одолели этот район!.. Понимаешь, он мне не нравится…
– Но я не понимаю, что тут можно одолевать!.. Я совершенно не понимаю, что тут можно сделать!..
Шубка силился что-то понять, но, очевидно, действительно ничего не понимал.
– Но все-таки!.. Мне кажется, Шубка, ты что-то понимаешь!.. Ты просто не говоришь!..
Шубка молчал. Из глаз его катились слезы…
– Нет-нет!.. Не может быть, чтобы ты ничего не понимал!.. Ты должен понимать!.. – настаивал Томмазо Кампанелла.
Но взгляд Шубки оставался бессмысленным и несчастным.
– Шубка!.. Шубка!.. Если ты знаешь, но не говоришь, то это слишком жестоко!..
– Я не могу!.. Не могу!.. – Шубка совсем испугался.
Томмазо Кампанелла чувствовал, что он доходит до какой-то последней точки, до какой-то самой глубокой ямы в этой истории.
– Шубка!.. Подскажи, подскажи, что делать…
Шубка затрясся…
– Я не знаю… Мне просто страшно!.. – заговорил он. – Что с тобой происходит? Я боюсь тебя!
С мольбой он смотрел на Томмазо Кампанелла.
– Я не в жизни!..
– А где же ты сейчас?! – с ужасом, как-то еще сильнее и страшнее начиная всхлипывать, спросил Шубка.
– Нет-нет, Шубка, я тебе не сказал: я сейчас где-то в совсем другом состоянии… Это состояние – не в жизни… Шубка!.. Ты мне веришь, что все это по-настоящему!..
– Да-да… Верю!.. Верю!..
– Шубка, ты веришь, что я вовсе не сумасшедший!..
– Верю!.. Верю!..
– Шубка!.. Нужно что-то придумать!.. Шубка закивал головой…
Еще один сон: появляется нищий Рохля:
– Уважаемые граждане! Ровно два года и двадцать шесть дней, как я освободился из мест лишения свободы. Городские власти… Кто не верит, имеются документы… Совсем не до меня никому… Ничего не могу собрать… Ни тыщеночки… Это места, места наши… Они виноваты!.. Гадость!.. Уж больно здесь люди занятые… Куда ни ткни, где ни сядь… Завод «Красный богатырь», мельничный комбинат имени Цурюпы, швейная фабрика «Большевичка», швейная фабрика имени Тельмана, кондитерская фабрика имени Бабаева, электроламповый завод, трансформаторный завод имени Куйбышева, два завода автотракторного электрооборудования, шелкоткацкий и красильно-отделочный комбинат имени Щербакова, пищевой комбинат имени Ленина, тонкосуконная фабрика «Освобожденный труд», завод счетно-аналитических машин, фабрика елочных игрушек… А контор, конторок-то!.. Деловые кругом – сил нет!..
Томмазо Кампанелла застыл во сне, пораженный речью нищего…
– А вокзалы… Возьми вокзалы… Каждый день шесть сотен тысяч пассажиров… А пригородные электрички… Тут еще шесть сотен тысяч наберется… Все бегут, спешат… Лавина, поток, напряжение!..
Вдруг из будки чистильщика обуви раздалось:
– Вокзалы ты не трогай… Там подают хорошо…
– А-а… Все одно… – обреченно произнес Нищий. – Как дождь пойдет, как зонты все вынут… Страшно!.. Затопчут. Ей-богу, затопчут!.. Так что-то и сквозит. Все ж раздвоенные… Раздвоенные…
– Язык-то нищих не забыл, Рохля? – грозно спросил кто-то, кто сидел в будке.
Нищий вздрогнул как от удара плетью.
– Язык нищих – это святое!.. Старец меня из Владимира обучил. Обучил, а сам в тот же год там же, во Владимире, в центральной тюрьме и помер… Вот как!..
Рохля говорит, и Томмазо Кампанелла понимает, что он имеет в виду Шубку:
– Во глубине северных руд храните гордое терпенье, – перевирая стихи, декламировал Рохля. – Завезли, бросили… Куда бросили? Куда завезли… А ручки тоненькие… Шейки тоненькие… Личики беленькие… Голосочки – ангельские… И учут… И учут… И так, и эдак, и на фортепьянах… А вокруг – пурга, ночь, Урал-батюшка!.. Воркута, Сыктывкар!.. Рожи… Разбойники!.. Избенка бедненькая… А их учут, детишек дека-бристовых, матери учут… Фортепьяны… А кругом – дикость… Зверство!.. Вот доля им – не вырваться с Воркуты..; С ума посходить!.. А ведь все, все могло быть по-другому! И не учить не могут, и учить – зачем?! Во глубине северных руд храните гордое терпенье… Чуете, как пружина здесь закручена… Север… На Север все нити тянутся… Край северных рек… Не ад, не ад… Жизнь!.. Лефортово – так только: фабрика, склад, мукомолка… Основное – там, Пинега, Вычегда… Чуешь, как народ с мукомолки бежит… Туда, для дела главного, мрачного… Для жизни!.. Жрать, жрать хочу, сынки! Свининки, карбонатику, котлет!.. Для того и прошу… Милостыню прошу!.. Нычку, нычку Лефортово заныкало… Как я теперь?! Колбаски, капустки, картошечки!.. Мяса!.. Мяса!.. До встречи!.. До скорого, родимые!.. До встречи, детишки вы мои декабристовы!.. До скорого свидания!..
Еще один сон, последний перед тем как Томмазо Кампанелла проснулся:
Снился ему почему-то снежный рождественский, а может быть, новогодний вечер – бело, белым-бело кругом… Низенькие, вросшие в землю особнячки – не особнячки, может, мещанские или купеческие домишки, занятые когда-то под конторы фабрик, всякие учреждения, – обрюзгшая, совсем не современная часть Москвы… Никаких мерзостей вокруг не видно. И словно высоких, больших, хмурых зданий, которые стоят здесь рядом с особнячками, тоже не видно, потому что видно лишь то, на что падает отсвет от ближайшего сугроба… А сугробов, как известно, очень много в городе не бывает… Редкие фонарики светят не то чтобы весело, а как-то мягко, умиротворенно. Сказка рождественская здесь случиться не может, потому что для такой сказки нужно, чтобы кто-то был несчастлив, а здесь уже и так – сказка… Какое здесь может быть несчастье?.. Какое здесь может быть несчастье?.. Какое здесь может быть несчастье – непрерывно лезет Томмазо Кампанелла в голову сквозь сон, словно сон тот уже и не крепок. Нет-нет да и пропускает в себя подробности настоящей, не той, что из сна, жизни… Медленно идет Томмазо Кампанелла вдоль глухого фабричного забора. А в заборе том сильно вдаются в глубь двора – ворота, за которыми – это видно в щели – чернота… Снег перед воротами тщательно расчищен. Томмазо Кампанелла подходит к воротам, смотрит в длинную, от верха до самой земли щель… Никого, пустынный гулкий двор… Черные, как будто закоптелые кирпичные стены… Никого… Окна черны… И вдруг страшная, непереносимая тоска охватывает Томмазо Кампанелла. Даже сквозь сон Томмазо Кампанелла ощущает ее… Несчастье, несчастье!.. Безутешное, гибельное горе!.. Что-то, что-то такое появляется в его голове… Невыносимое… Как-то немедленно оказывается он уже за воротами, в середине двора, уже не видно ему улицы… Вокруг – они самые, закоптелые стены, каждый кирпич точно сплюснут временем между другими кирпичами, словно раньше, лет сто-сто пятьдесят назад, все здесь было выше и стройнее…
Без всякого перехода, как это бывает во сне, Томмазо Кампанелла присутствует в комнате. Где-то в одной из построек, стоящих в этом дворе…
«В этой комнате располагался полицейский участок, занимавшийся делами крестьян, прибывавших в наш район из погоревших и зачумленных, разоренных войной деревень для работы на парусной фабрике, основанной Петром Великим…» – понимает Томмазо Кампанелла тотчас, так, как будто история этого здания давно для него не секрет.
«Люди, крестьяне эти, гибли сотнями и оттого нравственность в них упала окончательно, потому что, уж сделав, какой-то шаг, не успевали они дожить не то что до осуждения его, а даже до того момента, как успеет он в них самих вызвать какое-нибудь раскаяние или сожаление…» – понимает Томмазо Кампанелла. – «Смысла и воли в их жизни более уже не существовало, и одна лишь тупая и жестокая истерика правила в этих стенах, ставя в совершеннейший тупик полицию, вынужденную быть орудием в руках здешних фабрикантов…»
Впрочем, мысль эта, которую он, кажется, почерпнул из штудированного накануне учебника истории, словно бы и не оставляет в нем важного следа. Он сразу обращен к другой картине, что уже стоит перед глазами… Сон, конечно, все это только сон…
…Какой-то человек, пожилой уже и точно бы истерзанный каким-то страданием, с мучнистым, бледным лицом, впрочем, необычайно умным и красивым, с глубокими мешками под глазами, с лицом истомившимся, грустным, беспросветным, который ползет по полу за молодым, нахальным и испитым парнем с наглой, неприятной физиономией… Полицейский мундир, надетый на пожилом, уже перепачкан той грязью, которой немало на нечистом, затоптанном полу полицейского участка. А участок, каким-то образом, почему-то при фабрике, при рабочем общежитии, которые и располагаются все вместе за этим забором…
– Не верю я тебе!.. Урод ты!.. – это молодой, с хамским лицом…
– Постой, Охапка, постой!.. – говорит полицейский в страшном, невообразимом терпении. – Не спеши…
– Не могу, не могу я больше этого напряжения выносить! – судорожно, дрожа всем телом говорит, напротив, молодой в какой-то женской истерике. – Лучше убей, сошли, заточи!.. Но больше никак ты меня не уговоришь!.. Хватит!.. Нет жизни больше! Хватит!.. Построй виселицу для меня да вздерни лучше!.. Сшей деревянный костюм!.. Что, не вздернешь не сошьешь!.. Скорей бы уж помереть!..
В мозге полицейского чудовищная, необыкновенная сухость, мысленный план, который неким невероятным образом построен на том, чтобы отчаянно вытерпеть это унижение, иначе не получится ничего, – от этого плана дьявольская, адская пытка и напряжение. Перетерпеть, мучительно перетерпеть надо ради парусного, корабельного дела одно только чистое нравственное унижение этих мучительных уговоров, потому что все же Томмазо Кампанелла примечает, что пожилой одет хорошо и добротно, хоть и перемазался уже, ползая по полу, а Охапка – бедно и убого, и рвано… Стало быть, пожилой полицейский как-то все же более среди этих двух благополучен…
«Должно… – понимает Томмазо Кампанелла, – пожилой – это кто-то вроде полицейского надзирателя при местном, вчера еще крестьянском народце…»
– Иди, принимайся за фабричную работу!.. – молит полицейский молодого хама. – Ты должен изготовить паруса… Работа стоит… Работа без Охапок стоит… Нужны паруса для военных кораблей… Корабли стоят без парусов… Ну давай, давай, иди!.. Слышишь, иди!..
– Ну и урод ты, ну и урод!.. Сколько же ты станешь просить? Как же у тебя совсем гордости-то нет!.. Сколько же в тебя может этого унижения влезть, прежде чем разорвет тебя им?!
«Сто тысяч и один раз надо пожилому молодого уговорить. И тогда уже точно молодой станет все без уговора делать в точности так, как пожилой велит. Но прежде чем молодой наконец перестанет роптать, пожилой его сто тысяч и один раз должен уговорить!..» – понимает Томмазо Кампанелла.
Причем никак нельзя Охапку заставить, можно только уговорить, именно уговорить – без всяких преимуществ, без денег, без приза, который можно было бы перед глазами его, как фальшивого зайца для гончей собаки, повесить… Только один лишь уговор и терпение…
Это самое страшное, самое ключевое, самое невероятное обстоятельство, которое единственно тут и является важным: что нельзя все дело разрешить хоть каким-нибудь решительным действием – силой, угрозой, принуждением, не вступая в особые разговоры и отношения с Охапкой… Нельзя никак общения с Охапкой избежать. А только уговорить его можно… А только через тесное, ежедневное с ним свидание можно дело решить. Да и какое свидание!.. – Полная перед ним размазанность!.. Ужас, страх, никак в этом деле наглого разговора Охапки не избежать!..
Пожилой бледнеет, глаза его поволакивает слезой отчаяния и унижения, но, страшно стиснув зубы и найдя новые силы в этом ожесточении, он начинает молить снова…
– Иди, умоляю тебя, пойди, работай сменную…
Но странно, Томмазо Кампанелла понимает, что, с другой стороны, это предложение для молодого – нечто вроде мышеловки: согласись он – и конец, точно навсегда захлопнутся за ним ворота этого жуткого двора и никогда не окажется открытым выход на улицу… Точно то садистское удовольствие, которое молодой получает, слушая нечеловечески униженные уговоры полицейского, едва молодой согласится, в ту же секунду и будет им оплачено тем, что он угодит в страшную мышеловку… С ужасом Томмазо Кампанелла понимает, что уговоры – коварная ложь, уговоры для пожилого – такая ложь, в которую он сам с самого начала не верит, да и по самому замыслу, ему же принадлежащему, не может верить…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































