Текст книги "Вулфхолл"
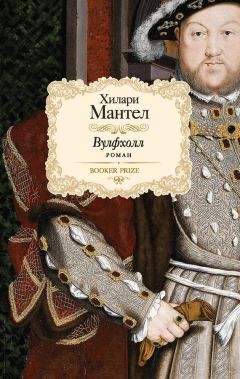
Автор книги: Хилари Мантел
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц)
III. Попытка не пытка
День всех святых, 1529
Хэллоуин: оболочка мира гноится и кровоточит. День, когда в чистилище подбивают счета, когда тамошние приказчики и ключники слушают молитвы живых об усопших.
В канун праздника всех святых они с Лиз были бы на всенощном бдении в своей церкви: поминали бы Генри Уайкиса, ее отца, и покойного мужа Лиз, Томаса Уильямса, поминали бы Уолтера Кромвеля и полузабытых братьев и сестер – двоюродных и сводных, с их давно почившими пасынками и падчерицами.
В этом году он совершал ночное бдение в одиночестве: лежа без сна и думая о Лиз, ожидая, что она войдет и ляжет рядом. Да, он в Ишере с кардиналом, а не дома в Остин-Фрайарз. Но, думал он, она догадается, как меня найти. Она отыщет кардинала по запаху ладана и отблеску свеч в пространстве между мирами. А где кардинал, там и я.
В какой-то момент он, видимо, уснул. Когда солнечные лучи проникли в комнату, там оказалось так пусто и одиноко, словно в ней не было даже его.
* * *
День всех святых. Горе накатывает волнами, грозя опрокинуть и смять. Он не верит, что мертвые возвращаются, и все равно чувствует, как плечо задевают их пальцы, кончики крыльев. С прошлой ночи они почти утратили отдельные формы, слились в сплошную массу, густую, как плоть морских чудовищ; их лица блестят нездоровым подводным блеском.
Он стоит в оконной нише с молитвенником Лиз, который так любила разглядывать Грейс, и ощущает пальцами следы детских рук. Здесь приведены молитвы Богородице для каждого богослужебного часа, страницы украшены голубками и лилиями в вазах. Утреня. Коленопреклоненная Мария на полу в черную и белую шашечку; ангел обращается к Ней, приветствие написано на свитке, который разворачивается в его руках, будто говорят ладони. Крылья у ангела нарисованы небесно-голубой краской.
Он переворачивает страницу. Служба первого часа. На картинке – встреча Марии и Елизаветы. Мария, с маленьким аккуратным животиком, смотрит на беременную родственницу. У обеих высокий лоб и выщипанные бровки; обе смотрят удивленно, что немудрено: одна дева, другая – в преклонных летах. Под ногами у них цветы, на голове у каждой – легкая воздушная корона из золоченой проволоки толщиною в волос.
Он переворачивает страницу. Грейс, маленькая и безмолвная, переворачивает страницу вместе с ним. Служба третьего часа. Нарисовано Рождество: крохотный белый Христос в складках материнского плаща. Служба шестого часа: волхвы подносят драгоценные сосуды, позади город на холме, итальянский город с колокольней, уходящими вверх улочками и мглистыми деревьями. Служба девятого часа: Иосиф несет в храм корзинку с голубями. Вечерня: Иродов кинжал проделывает аккуратную дырочку в испуганном младенце. Женщина вздымает руки в мольбе – красноречивые, беспомощные ладони. На детском тельце три капли крови, каждая в форме слезинки, каждая нарисована бесценной киноварью.
Он поднимает голову; перед глазами все еще плывут нарисованные слезы. Зрение затуманивается. Он моргает. Кто-то идет к нему. Это Джордж Кавендиш: руки стиснуты, на лице – маска озабоченности.
Лишь бы Джордж не заговорил со мной, думает он. Лишь бы прошел мимо.
– Мастер Кромвель, – произносит Кавендиш, – мне кажется, вы плачете. Что случилось? Дурные вести о нашем господине?
Он пытается закрыть часослов, но Джордж уже протянул руку к книге.
– А, вы молитесь… – В голосе звучит удивление.
Кавендиш не видит, как пальцы его дочери листают страницы, как руки его жены держат книгу, просто разглядывает иллюстрации вверх ногами. Потом набирает в грудь воздуха и говорит:
– Томас!..
– Я плачу о себе, – отвечает он. – Я потеряю все, чего добился в жизни, потому что паду вместе с кардиналом… нет, Джордж, не перебивайте меня… ибо делал, что он просил, был его другом и правой рукой. Если бы я занимался своей работой в Сити, а не разъезжал по стране, наживая себе врагов, я был бы сейчас богат… и пригласил бы вас в свой новый загородный дом, чтобы посоветоваться насчет мебели и клумб. А теперь – посмотрите на меня! Я конченый человек!
Джордж пытается заговорить, блеет что-то утешительное.
– Если только… – говорит он. – Если только, Джордж… Как вы думаете? Я отправил своего помощника Рейфа в Вестминстер.
– Зачем?
Он снова плачет. Призраки теснятся вокруг, ему зябко, исправить ничего нельзя. В Италии он освоил мнемоническую систему и теперь помнит каждый свой шаг к нынешнему бедственному положению.
– Думаю, – говорит он, – мне тоже надо туда поехать.
– Только, пожалуйста, не уезжайте до обеда, – просит Кавендиш.
– А что?
– Нам надо придумать, как рассчитаться со слугами кардинала.
Отчаяние проходит. Он вновь открывает молитвенник, держит перед собой. Кавендиш дал ему то, в чем он нуждался: финансовую задачу.
– Джордж. Сюда съехались капелланы его милости, и каждый по щедрости кардинала получает… сколько?.. сто, двести фунтов годового дохода. Думаю… думаю, мы заставим капелланов заплатить слугам, потому что, как я посмотрю, слуги любят милорда больше, чем его священники. Итак, после обеда я их пристыжу и заставлю раскошелиться. Надо заплатить слугам жалованье по крайней мере за три месяца плюс задаток на случай, если кардинала вернут ко двору.
– Хорошо, – отвечает Кавендиш. – Если кому это по силам, то только вам.
Он ловит себя на том, что улыбается. Может быть, мрачно, однако он не думал, что вообще сегодня улыбнется.
– Покончив с этим, я вас покину. Вернусь, когда заполучу место в парламенте.
– Но парламент собирается через два дня… Как теперь туда попасть?
– Не знаю, но кто-то должен выступить в защиту милорда. Иначе его милость убьют.
Он неприятно поражен собственными словами и хотел бы взять их назад, однако это правда. Он говорит:
– Попытка не пытка.
Кивок Кавендиша больше похож на поклон.
– Попытка не пытка, – бормочет тот. – Это ваши любимые слова.
Кавендиш ходит по дому и говорит: «Томас Кромвель молился. Томас Кромвель плакал». Только сейчас Джордж понимает, как плохи дела.
* * *
Жил некогда в Фессалии поэт по имени Симонид. Богач Скопа пригласил его на пир прочитать хвалебную оду в свою честь. У поэтов бывают странные причуды, и Симонид включил в оду хвалы небесным близнецам Кастору и Поллуксу. Скопа обиделся и сказал, что заплатит лишь половину обещанного вознаграждения, «а остальное получишь с Диоскуров».
Чуть позже в пиршественные покои вошел слуга и сказал Симониду, что его спрашивают двое юношей. Поэт вышел на улицу, но никого там не увидел и решил идти обратно на пир. И тут раздался грохот рушащихся камней и крики: в доме обвалилась крыша.
Из всех пировавших в живых остался один Симонид.
Тела были так обезображены, что родственники не могли их опознать. Однако у Симонида была удивительная способность: он запоминал все, что видел. Он провел родственников по развалинам, указывая тех, кого они ищут, потому что мог опознать каждого из гостей по его месту на пиру.
Эту историю поведал нам Цицерон. В тот день Симонид изобрел искусство запоминания. Он помнил все лица: надутые у одних, счастливые у других, скучающие у третьих, и точно знал, кто где сидел, когда обвалилась крыша.
Часть третья
I. Финт с тремя картами
зима, 1529 – весна, 1530
Джоанна: Ты говоришь, Рейф, ступай и добудь мне место в новом парламенте. И он послушно идет, как служанка, которой велели снять белье.
– С бельем мороки меньше, – вклинивается Рейф.
– А ты почем знаешь? – не унимается Джоанна.
Места в парламенте – господская вотчина; их раздают лорды, епископы, сам король. Жалкая горстка выборщиков – если на них хорошенько поднажать – всегда делает то, что велено.
Рейф раздобыл ему место от Тоунтона, округа Вулси. Это было бы невозможно без согласия короля, согласия Томаса Говарда. Он затем и посылал Рейфа в Лондон – прощупать почву: чего хочет герцог, что скрывается за его хорьей ухмылкой. «Премного обязан, сударь».
Теперь он знает.
– Герцог Норфолк, – сообщил Рейф, – считает, что милорд кардинал зарыл сокровище и вам известно, где именно.
* * *
Они беседуют с глазу на глаз.
Рейф: Герцог обязательно попросит вас приехать и служить ему.
– Да. Возможно, не в таких выражениях.
Размышляя, он вглядывается Рейфу в лицо. Норфолк – если забыть о внебрачном сыне короля – знатнейший человек в королевстве.
– Я пытался внушить ему, – говорит Рейф, – что вы его почитаете и страстно желаете оказаться под его…
– Началом?
– Примерно.
– И что сказал герцог?
– Герцог сказал «хм».
Он смеется.
– Что, вот таким тоном?
– Таким и сказал.
– А в придачу хмуро кивнул?
– Вот именно.
Что ж, хорошо. Я утираю слезы – слезы, что остались от Дня всех святых. Сижу с кардиналом в Ишере, в комнате с чадящим камином. Спрашиваю, милорд, не возражаете, если я вас оставлю? Нахожу трубочиста, велю прочистить дымоход. Скачу в Лондон, в Блэкфрайарз. Туман, день святого Губерта. Норфолк ждет, будет уверять, что станет мне хорошим хозяином.
* * *
Герцогу под шестьдесят, но его светлость не признает возраста. Остролицый и остроглазый, Норфолк тощ, как обглоданный мосол, и холоден, как обух топора. Конечности будто на шарнирах и даже тихонько клацают при ходьбе – все дело в мощевиках, которые герцог носит под одеждой: крошечные лохмотья кожи и обрезки волос в образках, осколки костей в медальонах.
«Дева Мария! Клянусь мессой!» – божится герцог, извлекая на свет свои амулеты из самых неожиданных мест. Пылко припадает к ним губами, призывая святых и мучеников утишить его гнев.
– Святой Иуда, дай мне терпение! – восклицает герцог, путая Иуду с Иовом, историю которого последний раз слышал в детстве, сидя на коленях у священника. Впрочем, трудно представить герцога ребенком или юношей, да и в любом возрасте, кроме теперешнего. Норфолк считает Библию необязательным чтением для мирян, хотя признает, что для священника в ней есть прок. Читать книги – баловство, и чем меньше их будет при дворе, тем лучше. Его племянницу, Анну Болейн, от книг не оттянешь, вот и засиделась в девках до двадцати девяти. Герцог не пишет писем – не джентльменское это дело – для чего тогда существуют писари?
Злобный красный глаз сверлит Кромвеля.
– Я поддерживаю ваше выдвижение в парламент.
Он склоняет голову.
– Милорд.
– Я говорил про вас с королем, он тоже согласен. Вы получите его указания, как вести себя в палате общин. И мои.
– Они отличаются, милорд?
Герцог хмурится, раздраженно меряет комнату шагами, слегка позвякивая на ходу, наконец выпаливает:
– Проклятье, Кромвель, почему вы так держитесь? Откуда в вас это?
Он ждет, улыбается, прекрасно понимая, что имеет в виду герцог. Да, ему не привыкать проскальзывать в комнату незамеченным, но, похоже, те дни миновали, теперь с ним вынуждены будут считаться.
– И нечего скалиться, – говорит герцог. – Вулси и его присные – клубок ползучих гадов. Я не хочу сказать… – Норфолк, морщась, сжимает образок. – Не дай Бог мне…
Сравнить князя церкви с ползучим гадом. Герцог хочет кардинальских денег и влияния на короля, но и в аду гореть не желает. Норфолк меряет комнату шагами, хлопает в ладоши, потирает руки, оборачивается.
– Король намерен отчитать вас, сударь. Да-да. Он удостоит вас аудиенции, чтобы понять, что задумал кардинал, но берегитесь: у короля долгая память – он не забыл, как в прошлый раз вы выступали в парламенте против войны.
– Надеюсь, король не собирается снова вторгаться во Францию?
– Проклятье! Какой англичанин об этом не мечтает! Мы должны вернуть свое.
Герцог дергает скулой. Вышагивает по комнате. Трет щеку, бросает:
– Что не отменяет вашей правоты.
Он ждет.
– Победить мы не сумеем, – продолжает Норфолк, – но должны сражаться так, словно верим в победу. И плевать на расходы. Плевать, сколько мы потеряем денег, людей, лошадей, кораблей. Что мне не нравится в Вулси. Всегда хочет договориться. Как сыну мясника понять, что такое…
– La gloire[28]28
Слава (фр.).
[Закрыть]?
– Вы сын мясника?
– Кузнеца.
– Вот как! Что, и лошадь подкуете?
Он пожимает плечами.
– Если потребуется. Но, милорд, не могу представить, как…
– А что вы можете представить? Поле битвы, бивак, ночь после сражения?
– Я был солдатом.
– Солдатом? Вы? Держу пари, не в английской армии. Так вот в чем дело… – Герцог ухмыляется, отнюдь не враждебно. – Вот что меня всегда настораживало. Вы никогда мне не нравились, но я не понимал почему. Где?
– У Гарильяно.
– За кого?
– За французов.
Норфолк присвистывает.
– И как тебя угораздило, малый!
– Я быстро понял свою ошибку.
– Значит, за французов… – Герцог хмыкает. – За французов. Ноги-то вовремя унесли?
– Я ушел на север. Решил заработать на… – Он хочет сказать «ссудах», но герцог не поймет, как деньги превращаются в деньги, – …тканях, шелке, по преимуществу. Сами знаете, у солдата всегда есть что продать.
– Клянусь мессой, еще бы! Джонни Вольное Копье все свое несет с собой. Наемники! Вечно вырядятся, словно бродячие комедианты. Кружева, тесьма, нелепые шляпы. Легкая мишень. Стреляли из лука?
– Редко. – Он улыбается. – Ростом не вышел.
– Как и я. Далеко нам до Генриха. Вот у кого хватает и роста, и силы в руках. И все же. Дни нашей славы позади.
– Разве обязательно сражаться? Договориться дешевле, милорд.
– А вы наглец, Кромвель, что явились сюда.
– Милорд, вы сами за мной послали.
– Я? – Норфлок смотрит испуганно. – Неужто до такого дошло?
* * *
Советники короля готовят против кардинала сорок четыре обвинения, ни больше ни меньше: от умаления прерогатив суверена до покупки говядины по тем же ценам, что и король; от финансовых злоупотреблений до недостаточно ревностных гонений на лютеранскую ересь.
Закон об умалении юрисдикции суверена принят давным-давно. Никто из живущих понятия не имеет, как его трактовать. Вероятно, так, как было испокон веку, – по слову короля. Нешуточные страсти кипят во всех европейских собраниях. Тем временем милорд кардинал сидит в Ишере, иногда что-то бормочет, иногда восклицает:
– Томас, мои колледжи! Как бы ни сложилась моя судьба, их нужно спасти. Ступайте к королю. Он волен сколько угодно мстить за воображаемые прегрешения, но пусть его гнев обрушится на меня одного! Неужели королю хватит духу покуситься на просвещение?
В Ишере кардинал раздраженно меряет шагами комнату. Великий ум, некогда ворочавший судьбами Европы, тщетно пытается осознать, где оступился. В сумерках застывает в молчании, погружаясь в невеселые думы. Ради Бога, Томас, умоляет Кавендиш, не внушайте ему ложных надежд, не обещайте зазря, что приедете!
А я и не обещаю, возражает он, я приезжаю, но меня все время задерживают. Палата заседает допоздна, а когда я покидаю Вестминстер, то должен принять письма и прошения, адресованные милорду кардиналу, а после беседовать с теми, кто не решается доверить свои просьбы бумаге.
Я все понимаю, говорит Кавендиш, но, Томас! – тут голос секретаря срывается, – знали бы вы, каково нам тут! Который час, спрашивает милорд кардинал. Где же Кромвель? Час спустя снова: Кавендиш, почему он не едет? Посылает нас с фонарями, проверить, как погода, словно вас, Кромвель, остановит ненастье или гололед. Наконец кардинал интересуется, не случилось ли чего? Дорога из Лондона кишит лихими людьми, вокруг глушь да пустыри, где во тьме бродят исчадия ада. Отсюда недалеко до сетований: мир сей полон ловушек и обольщений, и многим из них отдал я дань, несчастный грешник.
Когда наконец он срывает дорожный плащ и падает в кресло у чадящего очага – Кровь Господня, когда-нибудь дымоход прочистят? – кардинал уже тут как тут, засыпает вопросами, не дает перевести дух. Что сказал милорд Суффолк? Как выглядит милорд Норфолк? А король, вы его видели, вы с ним говорили? Как поживает леди Анна? В добром ли здравии? Все так же хороша собой? Вы придумали, как ей угодить, ибо нам нужно во что бы то ни стало найти способ ее умилостивить?
– Нет ничего проще, чем угодить этой леди, – отвечает он, – коронуйте ее.
И – больше ни слова о леди Анне. Мария Болейн уверяет, будто сестра его заметила, однако до сих пор она никак этого не выказала. Ее глаза равнодушно скользят мимо Кромвеля, обращаясь к предметам более достойным. Черные, слегка навыкате, как костяшки на счетах; они сияют, они всегда в движении, словно прикидывая выгоду. Впрочем, должно быть, дядя Норфолк сказал ей: вот человек, который знает кардинальские тайны, и теперь, завидев Кромвеля, она вытягивает длинную шею, черные костяшки щелкают, оценивая его с головы до пят, пока хозяйка размышляет, какую пользу из него извлечь. Пожалуй, она в добром здравии, а год ползет к концу; не чихает, как хворая кобыла, не охромела. Наверное, хороша, если вам по душе такие.
Однажды перед самым Рождеством он приезжает в Ишер поздно вечером и застает кардинала слушающим мальчишку-лютниста.
– Спасибо, Марк, ступайте, – говорит Вулси.
Лютнист кланяется кардиналу. Тот слабым кивком, каким удостаивал провинциальных депутатов в парламенте, благодарит, а когда юноша направляется к двери, замечает:
– Марк очень способный и воспитанный, в Йоркском дворце был у меня певчим. Что проку держать его здесь, лучше отослать юношу королю. Или леди Анне. Марк – пригожий малый, вдруг придется ей по вкусу?
Мальчишка медлит у выхода, жадно ловя похвалы. Кромвелевский тяжелый взгляд не хуже пинка вышвыривает его за дверь. Меньше всего на свете он склонен гадать, что по вкусу леди Анне.
– Лорд-канцлер Мор прислал мне что-нибудь?
Он роняет на стол пачку бумаг.
– У вас больной вид, милорд.
– Так и есть, я болен. Что нам делать, Томас?
– Давать взятки. Не скупиться. У вас остались бенефиции, земли. Даже если король отберет все, люди спросят, может ли он даровать то, что даровать не вправе? Без вашего утверждения любой титул вне закона. У вас на руках еще есть карты, милорд.
– И все же, если он обвинит меня в измене, – у кардинала срывается голос, – если он…
– Если бы он хотел обвинить вас в измене, вы давно сидели бы в Тауэре.
– И какой от меня прок: голова в одном месте, тело в другом? Говорю вам, лишив меня своей милости, король хочет дать хороший урок папе. Показать, кто в Англии хозяин. Вот только кто же? Может быть, леди Анна? Или Томас Болейн? Вопрос опасный, особенно за пределами этой комнаты.
План кампании: застать короля одного, выяснить, что тот задумал – если он и сам знает, – и заключить сделку. Первая вылазка: кардиналу жизненно необходима наличность. День за днем Кромвель дожидается аудиенции. Король протягивает руку, берет письма, бросает взгляд на кардинальскую печать. На него не смотрит, ограничиваясь безличным «спасибо».
Но однажды король поднимает глаза.
– Мастер Кромвель, э… я не могу говорить о кардинале.
Не успевает он открыть рот, как король добавляет:
– Вы не поняли? Я же сказал, не могу.
Тон мягкий и растерянный.
– В другой раз. Я пришлю за вами. Обещаю.
Когда кардинал интересуется тем, как сегодня выглядел король, он отвечает, что, судя по всему, король не выспался.
Вулси смеется.
– Не спит, потому что не охотится. Слишком жестко для собачьих лап. Это все от нехватки свежего воздуха, Томас, нечистая совесть ни при чем.
Впоследствии он не раз вспомнит тот вечер в конце декабря, когда застал кардинала слушающим лютню, снова и снова будет мысленно туда возвращаться.
Покидая кардинала и думая о предстоящей ночной дороге, он внезапно слышит за приоткрытой дверью мальчишеский голос.
Говорит Марк, лютнист:
– …и за мое мастерство обещал отослать меня к леди Анне. А я и рад-радехонек – что толку сидеть тут и ждать, пока король отрубит старику голову. И поделом: не будет таким заносчивым. Сегодня впервые дождался от него похвалы.
Пауза. Слышен другой голос, но слов не разобрать.
Снова говорит Марк:
– Ясное дело, стряпчий пойдет на плаху вместе с ним. А кто его разберет, может, он никакой и не стряпчий. Говорят, убивал собственными руками, но ни разу не покаялся на исповеди. Обычно такие храбрецы пускают слезу при одном виде палача.
Он не сомневается, речь – о его казни. Марк смотрит в будущее. Между тем юноша продолжает:
– Мне бы только туда попасть, а уж леди Анна меня приветит и задарит подарками.
Хихиканье.
– Говорю тебе, я легко заслужу ее благосклонность. Не веришь? Скажу больше – кто знает, как все повернется, если она и дальше будет упрямиться, отказывая королю?
Пауза. Снова Марк:
– Девица? Кто угодно, только не она.
Послушать слуг, так им известно все на свете.
Неразборчивый ответ, и опять голос Марка:
– Девица! Пожив при французском дворе? Не больше, чем ее сестрица Мария, та еще давалка.
Он разочарован. Ему нужны подробности, а не досужие сплетни.
– К тому же все в Кенте знают, что она спала с Томом Уайеттом. Я был с кардиналом в Пензхерсте, в двух шагах от Хивер, поместья Болейнов, а оттуда до усадьбы Уайеттов рукой подать.
Свидетели? Даты?
Кто-то невидимый предостерегающе шипит, и слуги снова прыскают.
И что с этим делать? Отложить до лучших времен, только и всего.
Разговор на фламандском, родном языке Марка.
* * *
Приближается Рождество. Король с королевой Екатериной встречают праздник в Гринвиче. Анна живет в Йоркском дворце выше по Темзе; король ее навещает. Фрейлины говорят, что встречи с Анной в тягость королю. Его визиты редки, скрытны и непродолжительны.
В Ишере кардинал не встает с постели, чего никогда прежде не делал, но вид у его милости такой больной, что никого это не удивляет.
Кардинал говорит:
– Мы в безопасности, пока король и леди Анна обмениваются новогодними поцелуями. Раньше Двенадцатой ночи нас не тронут.
Отворачивается на подушке, выпаливает:
– Тело Христово, Кромвель, ступайте домой!
По случаю праздника Остин-Фрайарз украшен венками из остролиста, плюща и переплетенного лентами лавра. На кухне чад и суета – готовят для живых, но традиционных песен и рождественских представлений в этот раз не будет. Ни один год не приносил в дом таких утрат. Сестра Кэт с мужем Морганом Уильямсом были вырваны из его жизни с той же стремительностью, что и дочери. Еще вчера они ходили и говорили – сегодня, холодные как камень, лежат в своих могилах на берегу Темзы, недоступные речным волнам и запахам. Глухие к звону надтреснутых колоколов Патни, запаху непросохших чернил, хмеля и солода, кислой животной вони тюков с шерстью; осенним ароматам сосновой смолы, подсвечников из яблок и домашней сдобы. Теперь в его доме живут двое сирот: Ричард и малыш Уолтер. Пусть при жизни Морган Уильямс любил прихвастнуть, на свой лад он был практичен и без устали гнул спину, обеспечивая семейство. А Кэт – что ж, под конец она понимала брата не больше, чем круговорот звезд на небе.
– Мне тебя не расчислить, Томас, – говорила она. Странно, он же научил ее складывать на пальцах и разбирать счета от лавочников. Что ж, сам виноват; видно, плохо учил.
Если бы он давал себе совет на Рождество, то посоветовал бы держаться подальше от кардинала, не то придется вновь промышлять на улице финтом с тремя картами. Вот только стоит ли давать советы тому, кто не собирается к ним прислушаться?
На Новый год в самой большой комнате дома Остин-Фрайарз всегда вешали огромную золоченую звезду, и та всю неделю до Крещенья приветствовала гостей своими лучами. С самого лета они с Лиз готовили костюмы волхвов, приберегая обрезки необычных тканей, кружева и тесьму, а с октября Лиз втайне от всех наставляла на старые костюмы яркие заплаты, штопала рукава, обшивала края, мастерила причудливые короны. Он отвечал за содержимое шкатулки. Как-то один из волхвов уронил шкатулку, когда дары неожиданно подали голос.
В этом году ни у кого не хватает духу повесить звезду, но он навещает ее в темном чулане. Сдергивает холщовый чехол с лучей, проверяет, блестят ли они еще. Придут лучшие времена, звезду снова повесят в большой комнате, хотя сейчас это кажется немыслимым. Кромвель натягивает чехол, радуясь тому, как искусно он подогнан и сшит. Мантии волхвов и овечьи шкурки для детей лежат в сундуке; пастуший посох стоит в углу, а с деревянного гвоздя свисают ангельские крылья. Он касается их – на пальцах остается пыль. Поднимает свечу, отводит подальше, встряхивает перышки. Шорох, в воздухе плывет легкий смоляной аромат. Он вешает крылья обратно на гвоздь, приглаживает заботливо. Отступает назад, закрывает дверь, пальцами сбивает пламя свечи, запирает замок и отдает ключи Джоанне.
– Нам нужен ребенок, – замечает он. – Слишком давно в этом доме нет детей.
– Не смотри на меня, – говорит Джоанна.
А на кого еще ему смотреть?
– Джон Уильямсон перестал исполнять свой долг? – спрашивает он.
– Его долги не моя печаль.
Уходя, он думает, что зря затеял этот разговор.
В новогодний вечер он сидит за письменным столом и пишет кардиналу. Иногда пересекает комнату, подходит к счетной доске и сдвигает костяшки. Если Вулси признается в посягательстве на власть суверена, король дарует ему жизнь и относительную свободу, но сколько бы средств ни оставили кардиналу, их нельзя сравнить с былыми доходами. Йоркский дворец отобрали недавно, Хэмптон-корт ушел давно, а король уже думает, как обложить грабительскими податями богатую Винчестерскую епархию.
Входит Грегори.
– Я принес свечи. Тетя Джоанна сказала, ступай к отцу.
Грегори садится, ерзает, вздыхает. Встает, подходит к отцовскому столу и замирает, не зная, что делать дальше. Затем, словно кто-то шепнул ему, не стой, займись чем-нибудь, робко протягивает руку, шуршит бумагами.
Он бросает на Грегори беглый взгляд поверх бумаг и впервые за долгое время замечает руки сына: не пухлые ребячьи ладошки, а крупные холеные кисти барчука. Но что тот делает? Складывает бумаги в стопку. Интересно, по какому принципу? Прочесть письма сын не может, они перевернуты. По содержанию? Невозможно. По датам? Ради Бога, что Грегори там копается?
Ему нужно закончить витиеватый пассаж, он снова поднимает голову, и тут его осеняет. Святая простота! Грегори кладет вниз бумаги побольше, наверх – поменьше.
– Отец, – говорит Грегори и вздыхает. Отходит к счетной доске, указательным пальцем шевелит костяшки. Затем аккуратно сдвигает.
Он смотрит на сына.
– Между прочим, я занимался вычислениями.
– Прости, – вежливо извиняется Грегори, садится лицом к огню, стараясь дышать пореже.
Однако даже самый кроткий взгляд обладает силой. Сын упрямо не сводит с него глаз, и это заставляет Кромвеля спросить:
– Что-то случилось?
– Ты не мог бы прерваться?
– Минутку. – Он поднимает руку, подписывает письмо всегдашним «за сим остаюсь вашим преданным другом, Томас Кромвель». Если Грегори пришел сказать, что кто-то из домочадцев при смерти, или что сам Грегори женится на прачке, или что Лондонский мост рухнул, он примет весть как мужчина. Но сначала посыпать песком и запечатать письмо.
Наконец он поднимает глаза.
– Итак?
Грегори отворачивается. Неужели плачет? Впрочем, что тут странного – недавно он и сам плакал, не стесняясь посторонних.
Он подходит к сыну, усаживается напротив, рядом с камином, стягивает бархатную шапочку, ерошит волосы.
Долгое время оба молчат. Он смотрит на свои толстопалые кисти, на шрамы, спрятанные в ладонях. Джентльмен, говоришь? Кого ты хочешь обмануть? Тех, кто не знает тебя в лицо, или тех, кого ты держишь на расстоянии, клиентов, приятелей из палаты общин, коллег из Грейз-инн, придворных, челядь… Он начинает сочинять в уме набросок следующего письма. Тонкий голос Грегори доносится, словно из прошлого:
– Помнишь Рождество, когда в мистерии был великан?
– Здесь, в церкви? Помню.
– «Смотрите, я великан, меня зовут Марлинспайк». Все говорили, что он высокий, словно корнхиллское майское дерево. Что за дерево?
– Его убрали. В Майский бунт подмастерьев. Ты был совсем мал.
– А где оно сейчас?
– Город хранит его до лучших времен.
– Мы повесим звезду на следующее Рождество?
– Если судьба будет к нам благосклоннее.
– Теперь, когда кардинал в опале, мы станем бедны?
– Нет.
Грегори смотрит на пляшущие огоньки в камине.
– Помнишь, как я выкрасил лицо черной краской и нарядился в черную телячью шкуру, как изображал в мистерии дьявола?
– Помню. Конечно, помню.
Его лицо разглаживается.
Энн хотела, чтобы лицо раскрасили ей, но мать сказала, что маленькой девочке негоже ходить чумазой. Почему он не настоял, чтобы дочка сыграла ангела? Впрочем, тогда черноволосой Энн пришлось бы напялить желтый вязаный парик из приходского реквизита, который вечно сползал маленьким ангелам на глаза.
В тот год, когда ангела изображала Грейс, у нее был костюм из павлиньих перьев. Он смастерил его своими руками. По сравнению с ней остальные девочки выглядели растрепанными гусятами, а когда задевали за углы, перышки облетали. А его Грейс сияла: в волосы были вплетены серебряные нити, плечи укутаны пышным трепещущим великолепием, шуршащий воздух благоухал от ее сладостного дыхания. Томас, сказала Лиззи, твои таланты поистине неисчерпаемы. Таких крыльев город еще не видел.
Грегори встает, хочет пожелать ему доброй ночи. На миг сын припадает к нему, словно ребенок, или словно прошлое – картины в пламени очага – опьянили его.
Когда сын уходит, он перекладывает стопку, помечая письма, готовые к отправке. Думает о Майском бунте. Грегори не спросил, против чего они бунтовали? Против чужеземцев. Тогда он только что вернулся в Англию.
* * *
В начале 1530-го он не зовет гостей на Крещение – слишком многим, памятуя о впавшем в немилость кардинале, пришлось бы отклонить приглашение. Вместо этого он берет молодежь в Грейз-инн, на празднество по случаю Двенадцатой ночи, и почти сразу раскаивается в своей затее – еще ни разу на его памяти представление не было таким непристойным.
Студенты-правоведы разыгрывают пьеску про кардинала. Герой пьески с позором бежит из Йоркского дворца на барке. Одни актеры хлопают простынями, изображая воды Темзы, другие периодически окатывают их водой из кожаных ведер. Когда кардинал с трудом влезает на барку, раздается крик загонщиков, и какой-то олух выбегает на сцену с выводком гончих на поводке. Другие недоумки сетями и шестами тащат барку с кардиналом к берегу.
В следующей сцене в Патни кардинал барахтается в грязи, хочет улизнуть в свою Ишерскую нору. Студенты улюлюкают и визжат, кардинал хнычет и молитвенно складывает руки. Кто из свидетелей той сцены решил слепить из нее комедию? Знать бы кто, будь они прокляты!
А кардинал пурпурной горой возвышается на полу, молотит руками и предлагает Винчестерскую епархию тому, кто подсадит его на мула. Мул – несколько студентов под обтянутым ослиной шкурой каркасом – кривляется тут же, отпуская шуточки на латыни и пукая кардиналу в лицо. Каламбуры про ебископа и пипископа имели бы успех у метельщиков, но недостойны студентов права. Рассердившись, он встает, не оставляя выбора своим спутникам, которые вынуждены за ним последовать, и направляется к выходу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































