Текст книги "Вулфхолл"
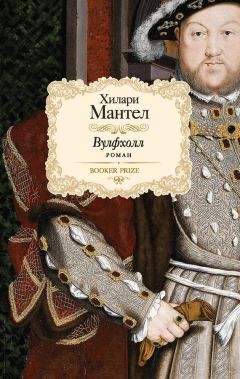
Автор книги: Хилари Мантел
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 38 страниц)
Смешно. Как будто у Кромвелей есть имя. Или репутация, которую нужно беречь.
Слухи слухами, однако ничего не происходит. Возможно, Мария ошиблась, или ее оклеветали по злобе: видит Бог, Болейнов есть за что не любить. Или беременность была, но закончилась выкидышем. Сплетни утихают. Ребенка нет. Это почти как в тех странных сказках, которые так любит кардинал, где природа извращена, а женщины-змеи исчезают и появляются по собственному желанию.
У королевы Екатерины тоже был ребенок, который исчез. В первый год брака с Генрихом у нее случился выкидыш, но врачи говорили, что она носит двойню. Кардинал отлично помнит ее в ослабленном корсете и с загадочной улыбкой на лице. Какое-то время ее не видели, затем она вновь появилась – туго зашнурованная, с плоским животом и без ребенка.
Наверное, это что-то специфически тюдоровское.
Некоторое время спустя он слышит, что Анна взяла под свою опеку Генри Кэри. Интересно, не собирается ли она отравить племянника. Или съесть.
* * *
Новый, 1529 год. Стивен Гардинер в Риме угрожает папе Клименту от имени короля; содержание угроз кардиналу не сообщают. Климент и в лучшие-то времена довольно пуглив; неудивительно, что когда мастер Стивен дышит серой ему в уши, он заболевает. Из Рима доносят, что папа при смерти; агенты кардинала по всей Европе прощупывают почву и закидывают крючки, бодро позвякивая монетами в кошельках. Если Вулси станет папой, все королевские затруднения разрешатся в одночасье. Кардинал легонько ворчит: его милость любит свою страну, майские гирлянды, щебет птиц, и с ужасом думает о приземистых злобных итальянцах, лесах из виселиц, усеянных трупами равнинах.
– Вам придется поехать со мной, Томас. Вы будете стоять рядом и действовать быстро, если какой-нибудь кардинал попытается меня заколоть.
Он представляет своего господина, утыканного кинжалами, как святой Себастьян – стрелами.
– Почему папа должен жить в Риме? Где это сказано?
По лицу кардинала медленно расплывается улыбка.
– Перенести Святой престол сюда? Отличная мысль! А почему бы и нет? – Вулси любит смелые планы. – В Лондон, наверное, не удастся. Будь я архиепископом Кентерберийским, я бы мог держать свой папский двор в Ламбетском дворце, но старый Уорхем невероятно живуч… вечно он у меня на пути.
– Ваша милость может переехать в собственную епархию.
– Йорк слишком далеко. А что если Винчестер? Древняя столица Англии. И к королю близко.
Очень интересно получится. Король ужинает с папой, который в то же время его лорд-канцлер… Должен ли будет король подавать его святейшеству салфетку?
Когда приходит известие о выздоровлении Климента, кардинал никак не выказывает разочарования, только говорит: Томас, что нам делать дальше? Надо открывать суд легатов[27]27
Поскольку кардинал Вулси обладал статусом папского легата в Англии, как и прибывший сюда кардинал Лоренцо Кампеджо, два прелата могли провести от имени папы слушания по делу о разводе короля. Вулси старался обеспечить благоприятный для короля исход, однако Кампеджо всячески затягивал разбирательство. Неспособность Вулси быстро добиться желаемого навлекла на кардинала гнев короля и опалу. – (Прим. О. Дмитриевой)
[Закрыть], больше тянуть нельзя. Разыщите и доставьте мне человека по имени Антони Пойнс.
Он стоит, скрестив руки, и ждет более внятных указаний.
– Скорее всего, он на острове Уайт. И еще привезите сэра Уильяма Томаса – думаю, его можно найти в Кармартене. Он стар, так что велите своим людям ехать не торопясь.
– Я не держу людей, которые мешкают. – Он кивает. – Впрочем, я понял. Не уморить свидетеля по дороге.
Суд по важнейшему королевскому вопросу близится. Генрих намерен доказать, что королева Екатерина, когда он на ней женился, была уже не девственница, то есть ее с Артуром брак осуществился. Для этой цели собирают джентльменов, бывших при августейшей чете после свадьбы в Байнардском замке, затем в Виндзоре, куда двор переехал в ноябре того года, и, наконец, в Ладлоу, куда молодых отправили играть в принца и принцессу Уэльских. «Артур, – говорит Вулси, – был бы сейчас примерно ваших лет, Томас». Свидетели по меньшей мере на поколение старше. Да и столько лет прошло – двадцать восемь, если быть точным. Что они могут помнить?
Не следовало доводить до такого публичного непотребства. Кардинал Кампеджо умолял Екатерину склониться перед королевской волей, признать брак недействительным и уйти в монастырь. Конечно, любезно отвечала она, я стану монахиней. Если король станет монахом.
Тем временем Екатерина приводит обоснования, почему легаты не должны разбирать этот вопрос. Во-первых, он по-прежнему на рассмотрении в Риме, во-вторых, она чужая в чужой стране, утверждает королева, забыв, что два десятилетия кряду ничто в английской политике не происходило без ее участия. Судьи, по уверениям королевы, настроены против нее; в этом есть определенный резон. Кампеджо, положа руку на сердце, клянется, что будет судить по чести, пусть даже рискуя головой. Екатерина находит, что он слишком близок со вторым легатом; всякий, проводящий столько времени с Вулси, считает она, забыл, что такое совесть.
Кто советует Екатерине, как вести себя в суде? Джон Фишер, епископ Рочестерский.
– Знаете, за что я его терпеть не могу? – спрашивает кардинал. – Он весь – кожа да кости. Ненавижу тощих прелатов. Рядом с ними мы, остальные, выглядим такими земными!
В полном блеске земного великолепия, в лучшем багряном облачении, кардинал заседает в Блэкфрайарз, где король с королевой должны предстать перед легатами. Все думали, что Екатерина пришлет своего представителя, однако она является сама. Собралась целая коллегия епископов. Король, когда выкликают его имя, отзывается громко, раскатисто, во всю мощь широкой, усыпанной самоцветами груди. Он, Кромвель, посоветовал бы другое: отвечать тихо, склонив голову перед судьями. Смирение, на его взгляд, чаще всего бывает притворным, но именно притворщики нередко выигрывают в суде.
Зал набит битком. Они с Рейфом – зрители в дальних рядах. После выступления королевы, заставившего некоторых прослезиться, они выходят на улицу.
Рейф говорит:
– Будь мы ближе, мы бы видели, смел ли король смотреть ей в глаза.
– Да. Это, собственно, главный вопрос.
– Мне очень стыдно, но я верю Екатерине.
– Тсс. Не верь никому.
Что-то заслоняет свет. Это Стивен Гардинер, черный, с кривой усмешкой на лице: поездка в Рим явно не пошла на пользу его характеру.
– Мастер Стивен! Как прошел обратный путь? Ну да, конечно, всегда неприятно возвращаться с пустыми руками. Мне вас очень жаль. Я уверен, вы старались как могли.
– Если король не получит в суде чего хочет, вашему господину конец. И тогда жалеть придется вас.
– Только вы не станете.
– Не стану, – соглашается Гардинер и отходит.
Екатерина не возвращается на вторую, позорную часть слушаний. Вместо нее выступает представитель: она сообщила духовнику, что Артур за время брака так и не сумел ею овладеть, и теперь разрешила нарушить тайну исповеди, дабы предать эти сведения огласке. Она свидетельствовала перед высшим судом, судом Божьим: стала бы она лгать, обрекая душу на погибель?
Есть и другой момент, о котором все помнят. После смерти Артура Екатерину предлагали женихам – старому королю и принцу Генриху – как сохранившую девство. Можно было пригласить врача, чтобы тот ее освидетельствовал. Она бы испугалась, заплакала, но покорилась чужому человеку с холодными руками; возможно, теперь она жалеет, что этого не произошло. Однако никто такого не потребовал – быть может, в ту пору люди еще не совсем потеряли стыд. Разрешение на брак с Генрихом предусматривало оба случая: и наличие девства, и его отсутствие. Испанские документы отличаются от английских. Этим нам и следовало бы сейчас заниматься: разбирать подпункты, а не грызться в суде из-за клочка кожи и капли крови на простыне.
Будь он советником Екатерины, он удержал бы ее в суде, как бы она ни противилась. Посмели бы свидетели сказать ей в лицо то, что говорили за глаза? Ей было бы стыдно смотреть на них, седых, морщинистых и совершенно уверенных в своей памяти, но он бы убедил ее приветствовать их ласково, объявить, что она в жизни бы их не признала, полюбопытствовать, как их внуки и меньше ли в летнюю жару болят суставы и поясница. Им было бы еще стыднее; очень может быть, что они замялись бы, оробели под ее пристальным честным взглядом.
Без Екатерины суд превращается в непристойный фарс. Граф Шрусбери, соратник старого короля по Босворту, рассказывает про свою первую брачную ночь, когда ему, как и Артуру, было пятнадцать; граф говорит, что никогда до тех пор не знал женщины и тем не менее исполнил свой долг. На свадьбе Артура они с графом Оксфордским провожали принца в спальню Екатерины. Да, говорит маркиз Дорсетский, и я там тоже был; Екатерина лежала под одеялом, принц возлег с нею. «Никто не готов присягнуть, что залез в постель вместе с ними, – шепчет Рейф. – Но может, еще и такой найдется».
Суд должен также принять во внимание свидетельства о том, что было произнесено на следующее утро. Принц вышел из супружеской спальни и сказал, что хочет пить. Приняв у сэра Антони Уиллоби кубок с элем, он объявил: «Сегодня ночью я побывал в Испании». Грубую мальчишескую шутку вытащили на свет, хотя сам мальчишка уже три десятилетия как в могиле. До чего же одиноко умирать молодым, идти во тьму без друзей и сверстников! А теперь уже нет в живых ни Мориса Сент-Джона, который покоится в Вустерском соборе, ни мистера Кромера, ни Уильяма Вудолла – никого из тех, кто слышал, как принц сказал: «Государи мои, хорошо мне с моею женой».
Выслушав это все, они выходят подышать воздухом, и ему ни с того ни с сего вдруг становится зябко. Он прикладывает руку к лицу, трогает скулу. Рейф говорит:
– Какой жених выйдет наутро и скажет: «Добрый день, государи мои! Ничего не получилось»? Принц ведь просто хвастал, правда? Вот и все. Они забыли, что значит быть пятнадцатилетним.
В то самое время, когда заседает суд легатов, король Франциск в Италии проигрывает битву. Папа Климент готовится подписать новый мирный договор с императором – племянником Екатерины. Еще не зная этого, он говорит Рейфу: «Позорный день. Если мы хотели стать посмешищем для всей Европы, нам это удалось».
Загвоздка с Рейфом: мальчик не может вообразить, чтобы кому-то, даже пылкому пятнадцатилетнему юнцу, захотелось овладеть Екатериной – это все равно что совокупиться со статуей. Само собой, Рейф не слышал, как Вулси расписывает былые прелести королевы.
– Я воздерживаюсь от окончательного суждения. И судьи воздержатся – у них просто не будет другого выхода, – говорит он. – Тут мы все тебе уступаем. Я вот тоже не помню, каким был в пятнадцать.
– А вам разве не столько было, когда вы прибыли во Францию?
– Наверное, что-то около того.
Вулси: «Артур был бы сейчас примерно ваших лет, Томас». Он вспоминает женщину в Дувре, прижатую к стене; ее хрупкие кости, бледное молодое лицо, и внезапно пугается. Что, если кардинальская шутка – вовсе не шутка и в мире полно его детей, о которых он не заботится? Единственное, что ты действительно можешь сделать, – позаботиться о своих детях.
– Рейф, – говорит он, – ты знаешь, что я не составил завещание. Обещал, да так и не собрался. Едем домой, будем его писать.
– Но почему сейчас? – изумляется Рейф. – Вас ждет кардинал.
– Едем домой. – Он берет Рейфа за плечо и чувствует прикосновение бесплотных пальцев к своей левой руке. Это Артур, серьезный и бледный. Король Генрих, думает он, ты разбудил призрака; ты его и уйми.
* * *
«Июль 1529-го. Томас Кромвель из Лондона, джентльмен. В здравом уме и твердой памяти. Моему сыну Грегори шестьсот шестьдесят шесть фунтов тринадцать шиллингов и четыре пенса. Перины, подушки и одеяло желтого турецкого атласа, кровать фламандской работы, резной шкаф и буфеты, серебро, золоченое серебро и двенадцать серебряных ложек. Сдача ферм в аренду будет осуществляться душеприказчиками до его совершеннолетия, по достижении коего ему следует вручить еще двести фунтов золотом. Деньги душеприказчикам на воспитание и приданое для моей дочери Энн и маленькой дочери Грейс. Приданое племяннице, Алисе Уэллифед; плащи и дублеты племянникам; Мерси всяческую домашнюю утварь и часть серебра на усмотрение душеприказчиков. Завещательные дары сестре моей покойной жены Джоанне и ее супругу, Джону Уильямсону, а также приданое их дочери, тоже Джоанне. Деньги слугам. По фунту сорока бедным девушкам на свадьбу. Двадцать фунтов на починку дорог. Десять фунтов на еду для неимущих узников лондонских тюрем.
Тело мое похоронить в том приходе, в котором я скончаюсь; на усмотрение душеприказчиков. Остаток состояния потратить на мессы по моим родителям.
Душу мою оставляю Богу. Рейфу Сэдлеру – мои книги».
* * *
Когда началась летняя эпидемия, он спросил Мерси и Джоанну, не отправить ли детей за город.
Куда? Джоанна его не подначивала, она и впрямь хотела знать.
Мерси сказала: разве от нее убежишь? Они утешали себя мыслью, что раз лихорадка в прошлом году унесла столько жизней, в этом она будет свирепствовать меньше. Он считал, что они не правы, наделяя болезнь человеческой или хотя бы звериной логикой: волк забирается в овчарню, но не когда там люди с собаками. А может, они видят тут не звериную и не людскую логику, может, для них за болезнью стоит Бог и Его неисповедимые пути. Когда из Италии приходит весть о соглашении Климента с императором, Вулси склоняет голову и говорит: «Господин мой своенравен», – имея в виду не короля.
В последний день июля кардинал Кампеджо объявил перерыв в судебных слушаниях, потому что в Риме были сейчас каникулы. Рассказывали, что герцог Суффолк, близкий друг короля, угрожал Вулси, стуча по столу кулаком. Всем ясно, что суд больше не соберется. Кардинал проиграл.
В тот вечер мысль, что власти кардинала может прийти конец, впервые не кажется ему дикой. Он думает: падение Вулси станет и моим падением. Кромвель, перешептываются люди, ужасный человек. Словно шутка кардинала обрела плоть: словно он и впрямь идет по колено в крови, оставляя за собой битое стекло и дымящиеся угли, вдов и сирот. Его милость говорит не о событиях в Италии и не о суде легатов.
– Мне сказали, лихорадка вернулась. Что теперь будет? Я умру? Я ведь болел ею четыре раза. В… в каком же году?.. кажется, в тысяча пятьсот восемнадцатом… сейчас вы будете смеяться, но это правда – к концу болезни я был не толще епископа Фишера. Господь взял меня за шкирку и встряхнул так, что зубы застучали.
– Ваша милость исхудали? – Он пытается выдавить улыбку. – Вам надо было пригласить портретиста!
Епископ Фишер объявил в суде – перед самыми каникулами, – что никакая власть, божеская или человеческая, не в силах отменить брак короля и королевы. Ему, Кромвелю, хочется сказать Фишеру, чтобы тот не злоупотреблял гиперболами. На его взгляд, епископ недооценивает возможности судебной власти.
До сих пор, до этого самого вечера, если заверять Вулси, будто что-то неосуществимо, тот поднимал тебя на смех. Однако сегодня – когда ему удается наконец перевести разговор на эту тему – кардинал говорит, мой друг король Франциск разбит, и я тоже. Я не знаю, что делать. Думаю, я умру, даже если лихорадка обойдет меня стороной.
– Мне пора домой, – говорит Томас. – Вы меня благословите?
И встает на колени. Вулси поднимает руку, потом, словно забыв, что собрался делать, произносит:
– Томас, я не готов к встрече с Богом.
Он улыбается.
– Может быть, и Бог не готов к встрече с вами.
– Надеюсь, в мой смертный час вы будете рядом.
– Только до этого еще очень далеко.
Кардинал качает головой.
– Вы бы видели, как Суффолк сегодня на меня накинулся. Суффолк, Норфолк, Томас Болейн, Томас лорд Дарси – все они только этого и ждали, моего провала в суде. А теперь, как я слышал, они составляют книгу обвинений: как я разорял знать и все прочее. Знаете, как они хотят назвать свою книгу? «Двадцать лет поношений!» Они стряпают какое-то варево, куда войдет каждое мое высокомерное слово – так они называют ту правду, которую я им говорил…
Кардинал прерывисто вздыхает и смотрит на потолок, украшенный розой Тюдоров.
– На кухне вашей милости такого варева не будет. – Он встает и, глядя на кардинала, думает только о работе, которая теперь предстоит.
* * *
– Лиз Уайкис, – говорит Мерси, – не хотела бы, чтобы ее дочерей тащили в деревню. Тем более что Энн плачет, когда тебя нет.
– Энн! – изумляется он. – Энн плачет!
– А как по-твоему? – говорит она грубовато. – Ты думаешь, твои дети тебя не любят?
Он предоставляет решение ей. Девочки остаются в Лондоне. Как оказалось, зря. Мерси вешает на дверь знак, что в доме потовая лихорадка. Как же это так? – говорит она. Мы все время скребем полы, в Лондоне не сыщется дома чище, чем у нас. Мы молимся. Я никогда не видела, чтобы ребенок молился, как Энн. Она молится, словно идет в бой.
Энн заболевает первой. Мерси и Джоанна трясут ее, чтобы не спала – врачи считают, что заболевших убивает именно сон. Однако болезнь сильнее, чем крики бабушки и тетки. Энн падает на подушки, хватая ртом воздух, и проваливается все глубже и глубже в черное оцепенение, и только пальцы сжимаются и разжимаются. Он берет ее ладонь в свою, гладит, успокаивая, но рука – как у солдата, рвущегося в бой.
Позже Энн открывает глаза и зовет мать. Просит тетрадку, в которой написала свое имя. На заре жар спадает. Джоанна заливается слезами облегчения, и Мерси отсылает ее спать. Энн садится, она его узнает, улыбается. Приносят в тазу воду с розовыми лепестками. Энн осторожно притапливает их, так что каждый превращается в крошечную чашу на воде, благоуханный грааль.
Однако с восходом солнца лихорадка возвращается. Он не позволяет женщинам начать все сначала: трясти, щипать, хлестать по щекам. Он предает ее воле Божьей и просит Бога смилостивиться. Говорит с Энн, но непонятно, слышит она или нет. Сам он не боится подхватить лихорадку. Уж если кардинал переболел четыре раза, я тем более выдержу, а если умру, я составил завещание. Он сидит с Энн, видит, как она борется и проигрывает. Когда она умирает, его в комнате нет – заболела Грейс, и он смотрит, как ее укладывают в постель. Его зовут к Энн, он входит и видит, что суровое личико уже разгладилось. Черты умиротворенные, рука отяжелела – настолько, что он не в силах ее удержать.
Он выходит из комнаты. Говорит: «Она учила греческий». Конечно, отвечает Мерси, она была удивительный ребенок и воистину твоя дочь. Мерси утыкается ему в плечо и плачет. Говорит: «Она была умная, добрая и по-своему хорошенькая».
Целиком его мысль была: «Энн учила греческий, возможно, теперь она его знает».
Грейс умирает у него на руках, легко и естественно, так же, как родилась. Он кладет ее на сырые простыни – немыслимой красоты дитя с пальчиками, как только что распустившиеся белые лепестки, – и думает: я ведь совсем не знал ее, не знал, что она у меня есть. Невозможно поверить, что это он, что это они с Лиз дали ей жизнь, совершив что-то, не раздумывая, в самую обычную ночь. Они собирались, если родится мальчик, назвать его Генри, если девочка – Кэтрин, в честь королевы Екатерины; и в честь твоей Кэт тоже, сказала Лиз. Однако когда он увидел дитя, спеленутое, безукоризненно-прекрасное в своей завершенности, он назвал совсем другое имя, и Лиз согласилась. Грейс, Благодать Божья. Она дается как дар, незаслуженно.
Он спрашивает, можно ли похоронить старшую дочь с тетрадкой, в которой та написала свое имя: Энн Кромвель. Священник говорит, что никогда о таком не слышал. Он слишком устал и зол, чтобы спорить.
Теперь его дочери в чистилище, краю тлеющих костров и ледяных торосов. Где в Евангелии слово «чистилище»?
Тиндейл говорит, ныне же пребывают вера, надежда, любовь, сии три: больше же всех любовь.
Томас Мор считает, это гнусная ошибка перевода и тут должно стоять «милосердие». За ошибку в переводе Томас Мор закует вас в кандалы, за расхождения в греческом – сожжет на костре.
Он вновь думает: а нужны ли мертвым переводы? Быть может, в миг перехода к небытию они узнают все, что следует знать.
Тиндейл говорит: «Любовь николиже отпадает».
* * *
Октябрь. Вулси, как всегда, председательствует на заседании королевского совета. Однако в судах с началом осенней сессии получают ход кляузы на кардинала. Вулси обвиняют в богатстве. В использовании власти. И особенно – в действии на основании полномочий, не применимых на английской земле, то есть в том, что кардинал добросовестно исполнял обязанности папского легата. На самом деле они хотят сказать, что Вулси – alter rex, второй король. Его милость всегда был властнее Генриха – и если это преступление, то кардинал в нем повинен.
И вот они уверенно вступают в Йоркский дворец, герцог Суффолк, герцог Норфолк: два великих пэра королевства. Суффолк с ощетиненной светлой бородой похож на свинью среди трюфелей; полнокровный краснолицый человек, вспоминает он, в присутствии которого кардиналу всегда становилось не по себе. Норфолк опасливо смотрит, как перерывают вещи кардинала, явно ожидая увидеть восковые фигурки, истыканные иголками. Возможно, и свою тоже. Кардинал заключил сделку с дьяволом, таково убеждение Норфолка.
Он, Кромвель, отсылает их прочь. Они возвращаются. Возвращаются с новыми документами, новыми предписаниями, привозят начальника королевских архивов. Они забирают у милорда кардинала большую королевскую печать.
Норфолк смотрит на него искоса и вдруг усмехается своей хорьей усмешкой. К чему бы это?
– Загляните ко мне как-нибудь, – говорит Норфолк.
– Для чего, милорд?
Ответа нет. Герцог не имеет привычки объяснять свои слова.
– Когда?
– Можете не спешить, – говорит Норфолк. – Приходите, когда научитесь себя вести.
Это было 19 октября 1529 года.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































