Текст книги "Вулфхолл"
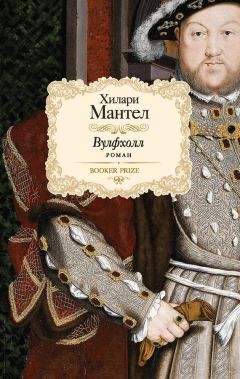
Автор книги: Хилари Мантел
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 38 страниц)
– Следующей весной ты сможешь вернуться сюда.
За разговором он достает джеркин[48]48
Джеркин – короткое верхнее мужское платье, как правило, без рукавов. – (Прим. О. Дмитриевой)
[Закрыть], выворачивает наизнанку и ножничками начинает распарывать шов.
– Стежок к стежку. Кто шил?
Мальчик мнется, краснеет.
– Женнеке.
Он вытаскивает из-за подкладки тонкий сложенный листок. Разворачивает.
– Глазки у нее, наверное, зоркие.
– Да.
– И хорошенькие? – Он с улыбкой поднимает взгляд. Мальчик смотрит ему в лицо и как будто хочет заговорить, но тут же смущается и вешает голову.
– Просто мучаю тебя, Том, не обижайся. – Он читает письмо Тиндейла. – Если она хорошая девушка, что тут дурного?
– Что пишет Тиндейл?
– Ты вез письмо не прочитав?
– Я решил лучше не читать. Вдруг…
Вдруг ты окажешься гостем Томаса Мора. Он перекладывает письмо в левую руку, правая сжимается в кулак.
– Пусть только приблизится к кому-нибудь из моих. Я его вытащу из Вестминстера и буду бить головой о мостовую, пока не приведу в разум. Он у меня поймет, что такое любовь к Богу и в чем она должна проявляться!
Мальчик издает короткий смешок и плюхается на табурет. Он, Кромвель, снова смотрит в письмо.
– Тиндейл пишет, что не сможет вернуться в Англию, даже если леди Анна станет королевой – чему он сам, должен отметить, никоим образом не способствует. Пишет, что не поверит гарантиям безопасности, даже за подписью короля, пока Мор жив и на своей должности, потому что Мор говорит, не обязательно держать обещания, данные еретикам. Вот. Можешь сам прочесть. Все равно наш лорд-канцлер невиновность или неведение в зачет не принимает.
Мальчик вздрагивает, но письмо берет. Что это за мир, в котором люди не держат обещаний?
Он говорит мягко:
– Расскажи мне про Женнеке. Хочешь, я напишу ее отцу?
– Нет. – Авери поднимает глаза, хмурится. – Нет, она сирота, воспитанница мастера Воэна. Мы все учим ее английскому.
– То есть денег она тебе не принесет?
Мальчик смущается.
– Думаю, мастер Стивен даст ей приданое…
Тепло, и камин не топится. Свечи еще не зажигали, так что он просто рвет письмо на мелкие клочки. Марлинспайк, навострив уши, съедает обрывок бумаги.
– Благочестивый кот, – говорит он. – Всегда любил слово Божие.
Scriptura sola. Только Писание утешит тебя и направит на путь спасения. Бесполезно молиться резной деревяшке и ставить свечи перед раскрашенной доской. Тиндейл говорит, «Евангелие» означает добрую весть, песни и пляски – в рамках приличий, разумеется. Томас Авери спрашивает:
– Мне правда можно будет вернуться, как только наступит весна?
Джону Петиту в Тауэре разрешили спать на кровати; впрочем, о возвращении узника домой речь не идет.
Как-то в ночном разговоре Кранмер сказал ему: святой Августин учит нас не спрашивать, где наш дом, ибо в конце концов все мы придем к Богу.
* * *
Великий пост изнуряет дух, для чего, собственно, и предназначен. Придя очередной раз к Анне, он видит Марка, который, согнувшись над лютней, наигрывает что-то заунывное, и, мимоходом стукнув того по голове пальцем, бросает:
– Сыграй что-нибудь повеселее, а?
Марк едва не падает с табурета. Ему думается, что они живут, как в тумане: все эти люди, которых так легко напугать, застигнуть врасплох. Анна, очнувшись от своей полудремы, спрашивает:
– Что вы сейчас сделали?
– Ударил Марка. – Он показывает палец. – Вот только им.
Анна спрашивает:
– Марк? О ком вы? А… Его так зовут?
Нынешней весной его задача – быть бодрым и жизнерадостным. Кардинал вечно на что-нибудь жаловался – правда, со своим всегдашним остроумием. И чем больше Вулси брюзжал, тем бодрее отвечал его слуга Кромвель; таков был их негласный договор.
Король тоже постоянно всем недоволен. Голова болит. Герцог Суффолк – тупица. Погода не по сезону жаркая. Страна катится к чертям собачьим. И еще король боится сглаза, боится, что о нем плохо говорят – по конкретному поводу или абстрактно. И чем больше король тревожится, тем оптимистичней его новый слуга, тем увереннее и тверже себя держит. И чем больше король рявкает и ворчит, тем больше просители стараются попасть к Кромвелю, неизменно учтивому и приветливому.
Дома к нему подходит Джо, чем-то не на шутку озабоченная. Она теперь барышня и по-женски хмурит лоб, в точности как ее мать Джоанна.
– Сэр, как нам красить яйца на Пасху?
– А как вы красили раньше?
– До прошлого года мы рисовали кардинальские шапки. – Говоря, Джо пристально наблюдает за его лицом; в точности моя привычка, думает он. Что ж, твои дети – это не только твои дети. – Нельзя было так делать?
– Отчего же? Жаль, я не знал. Я бы подарил кардиналу такое яйцо – ему бы понравилось.
Джо вкладывает свою мягкую ручонку – детскую, в цыпках, с обгрызенными ногтями – в его ладонь.
– Теперь я в королевском совете, – говорит он. – Можете рисовать короны.
То, что у него с ее матерью, это безумие надо прекращать. Джоанна и сама понимает. Она придумывала любые оправдания, чтобы жить там же, где он, однако сейчас если он в Остин-Фрайарз, то она – в Степни.
– Мерси знает, – шепчет как-то Джоанна, проходя мимо.
Удивительно, что Мерси так долго ни о чем не догадывалась, но здесь заключен урок: думаешь, будто люди постоянно за тобой наблюдают, а это просто нечистая совесть заставляет тебя шарахаться от теней. Однако в конце концов Мерси обнаружила, что у нее есть глаза, а кроме глаз – еще и язык, и улучила минутку поговорить наедине.
– Мне сказали, что король нашел способ обойти по крайней мере один камень преткновения – как вступить в брак с леди Анной, если он спал с ее сестрой.
– У нас есть к кому обратиться, – беспечно отвечает Кромвель. – По моему совету доктор Кранмер адресовал вопрос ученым венецианским раввинам, чтобы те сверились с древними текстами.
– Так это не кровосмешение? Если ты не состоял в законном браке с одной из сестер?
– Талмудисты говорят – нет.
– И во сколько это обошлось?
– Доктор Кранмер не знает. Ученые мужи заседают за столом переговоров, а после к ним подходят не столь праведные люди и передают деньги. Одним совершенно не обязательно замечать других.
– В твоем случае это не поможет, – говорит Мерси напрямик.
– В моем случае ничто не поможет.
– Она хочет с тобой поговорить. Джоанна.
– Что тут обсуждать? И так понятно… – И так понятно, что надежды никакой, пусть даже ее муж, Джон Уильямсон, по-прежнему кашляет – и здесь, и в Степни постоянно вполуха вслушиваешься, не раздастся ли на лестнице или в соседней комнате предупреждающее «кхе-кхе»; надо отдать Джону Уильямсону должное, вот уж кто никогда не застанет тебя врасплох. Доктор Беттс порекомендовал Джону свежий воздух, подальше от дыма и копоти.
– Это была минутная слабость, – говорит он. А потом что? Еще одна минутная слабость.
– Ты должен ее выслушать. – Мерси поднимает к нему пылающее лицо. – По совести.
* * *
– Для меня это все – часть прошлого. – Голос у Джоанны дрожит; она поправляет чепец и закидывает вуаль – легкое облако шелка – за плечо. – Я долго не могла поверить, что Лиз и вправду умерла – все ждала, что она сейчас войдет.
Его постоянно мучил соблазн наряжать Джоанну в красивые дорогие платья, и он, по словам Мерси, «швырял» деньги лондонским ювелирам и торговцам тканями, так что женщинам с Остин-Фрайарз завидовали все городские кумушки и, заходясь в молитвенном восторге, шептали им вслед: Господи милостивый, к Томасу Кромвелю деньги-то так и текут, ну чисто благодать Божья.
– И теперь я думаю, – говорит Джоанна, – это случилось оттого, что она умерла, а мы горевали и не могли поверить в ее смерть. И хватит. То есть мы все равно горюем. И всегда будем горевать.
Он понимает ее. Лиз умерла в другую эпоху, когда кардинал был первым лицом в стране, а он – слугой кардинала.
– Если ты надумаешь жениться, – говорит Джоанна, – Мерси кое-кого тебе присмотрела. Впрочем, думаю, и у тебя есть невесты на примете – и ни одной из них мы не знаем. Конечно, – продолжает она, – если бы Джон Уильямсон… прости, Господи, но я каждую зиму думаю, что он до весны не дотянет, то конечно, Томас, я бы сразу, как дозволяют приличия, чтобы не с кладбища да к алтарю, только ведь церковь не разрешит. Закон не разрешит.
– Кто знает, – говорит он.
Она раскидывает руки, слова так и хлещут:
– Говорят, будто ты намерен, будто ты хочешь сломить епископов и сделать короля главой церкви, отнять у папы церковную десятину и отдать Генриху, чтобы Генрих устанавливал законы по своей воле, мог прогнать жену и обвенчаться с леди Анной, решал, что грех, а что – нет и кому можно на ком жениться. А принцесса Мария, храни ее Господь, станет незаконнорожденной, и следующим королем будет сын леди Анны.
– Джоанна… когда парламент соберется снова, давай ты придешь и повторишь, что сейчас сказала? Это сбережет всем уйму времени.
Она в ужасе.
– Общины за такое не проголосуют. И лорды тоже. Епископ Фишер такого не допустит. Архиепископ Уорхем. Герцог Норфолк. Томас Мор.
– Фишер болен. Уорхем стар. Норфолк не далее как третьего дня сказал мне: «Я устал, – прости, но я повторяю его выражение, – сражаться под запятнанным знаменем Екатерининой брачной простыни, а уж смог тогда Артур или нет, теперь один… теперь все равно». – Он на ходу заменяет непроизносимое слово. – «Пусть уж моя племянница Анна покажет, на что способна».
– А на что она способна?
Джоанна, приоткрыв рот, ждет ответа. Слова герцога прокатятся по Грейсчерч-стрит, по мосту, на ту сторону реки, и размалеванные саутуоркские девки понесут их на языке, как заразу. А чего еще ждать от Говардов, от Болейнов, от всей их породы; молчи – не молчи, рано или поздно молва об Аннином нраве облетит и Лондон, и весь мир.
– Она испытывает королевское терпение, – говорит он. – Король жалуется, что Екатерина в жизни с ним не разговаривала, как Анна. По словам Норфолка, Анна обзывает короля хуже, чем собаку.
– Странно, что он ее не выпорет.
– Может, еще и выпорет, как поженятся. Понимаешь, если бы Екатерина отозвала из Рима свою жалобу и согласилась, чтобы дело разбирали в Англии или папа аннулировал-таки их брак, ничего такого – ничего из того, о чем ты говорила, – не произошло бы, просто… – Он делает плавное движение, будто сворачивает пергаментный свиток. – Если бы Климент в одно прекрасное утро подошел к столу и спросонок подмахнул левой рукой непрочитанный документ, кто бы его осудил? И остались бы ему его доходы, его власть, потому что Генриху нужно только одно – затащить Анну в постель, однако время идет, и, поверь мне, у Генриха появляются новые желания.
– Да. Например, поступать по-своему.
– Он король. Привык к этому.
– А если папа будет и дальше упорствовать?
– Значит, не получит своей десятины.
– Неужто король приберет к рукам деньги простых христиан? Он и без того богат.
– Тут ты ошибаешься. Король беден.
– Ой. А ему-то это известно?
– Я не знаю, ведомо ли королю, откуда берутся его деньги и куда уходят. Пока был жив милорд кардинал, его величеству довольно было захотеть новый алмаз на шляпу, красавца скакуна или роскошный дворец – все появлялось само. Сейчас личными средствами государя заведует Генри Норрис, и еще король берет из казны – на мой взгляд, многовато. Генри Норрис, – говорит он, не дожидаясь вопроса, – мой злой рок, – однако не добавляет: «вечно оказывается у Анны, когда мне надо поговорить с ней наедине».
– Пусть приходит к нам обедать, если проголодается. Не Генри Норрис, конечно, а наш нищий король. – Джоанна встает, видит себя в зеркале и тут же пригибается, словно испугавшись своего отражения. Он наблюдает, как она делает другое лицо: менее озабоченное, рассеянно-любопытное, не столь вовлеченное в разговор – чуточку поднимает брови, слегка выгибает уголки губ. Я мог бы нарисовать ее портрет, думает он, если бы владел кистью, я столько на нее смотрю. Однако от того, что смотришь, мертвые не возвращаются, и чем пристальнее всматриваешься, тем быстрее и дальше они уходят. Он никогда не думал, будто Лиз улыбается с небес, глядя на них с Джоанной. Нет, думает он, на самом деле я отодвигал Лиз в темноту и мрак, и внезапно ему вспоминаются давние слова Уолтера про мать. У нее была деревянная святая, которую она принесла в своем узелке, когда совсем молодой девушкой пришла в Патни с севера, и когда ложилась со мной в постель, рассказывал Уолтер, она поворачивала статуэтку лицом к стене. Боже мой, Томас, кажись, то была святая Фелиция, и уж точно она смотрела куда-то не на нас в ту злополучную ночь, когда я тебя сделал.
Джоанна идет по комнате. Комната большая и наполнена светом. Джоанна говорит:
– Все это… все эти вещи, которые у нас есть. Часы. Новый сундук, который ты выписал из Фландрии, резной, с цветами и птицами. Я своими ушами слышала, как ты сказал Томасу Авери, передай Стивену, мне нужен такой сундук, а цена меня не заботит. И картины с незнакомыми людьми, и, не знаю, лютни там, и книги по музыке, у нас ничего такого не было. В детстве я никогда не смотрелась в зеркало, а теперь смотрюсь каждый день. И гребень – ты подарил мне гребень из слоновой кости. У меня никогда не было своего. Лиз заплетала мне косы и убирала под чепец, а я – ей, и если волосы у нас растрепывались, кто-нибудь сразу кричал, чтобы мы не ходили, как чучела.
Чем нам так любы прошлые тяготы? Почему мы гордимся, словно заслугой, что сносили брань и побои, что дома не было дров для очага и мяса на обед, что родители держали нас в черном теле и бранили по всякому поводу? Даже Лиз, давным-давно, увидев, что он вешает рубашонку Грегори у очага, чтобы согреть, сказала, не надо, а то привыкнет.
– Лиз, – произносит он. – Прости, я хотел сказать, Джоанна…
Сколько ж можно уже, говорит ее лицо.
– Я хочу сделать тебе что-нибудь приятное. Скажи, что тебе подарить.
Он ждет, что она закричит, как все женщины, не думай, будто можешь меня купить, однако она выслушивает, зачарованно, как ему кажется, с лицом внимательно-сосредоточенным, его теорию о том, чем хороши деньги.
– Был во Флоренции один монах, фра Савонарола[49]49
Джироламо Савонарола (1452—1498) – доминиканский монах, яростный обличитель нравов церкви и папства, а также светских властей, вдохновивший флорентийцев на восстание в 1494 г., в ходе которого они изгнали из города правившее семейство Медичи и восстановили республиканский строй. Савонарола проповедовал труд, аскетизм, отказ от суетных развлечений и удовольствий. В ходе дальнейшей политической борьбы он был отлучен от церкви, схвачен противниками и сожжен в 1498 г. – (Прим. О. Дмитриевой)
[Закрыть], который внушил людям, будто красота греховна. Некоторые думают, что тут не обошлось без колдовства. Люди жгли на улицах костры и швыряли туда все, что любили, что сделали своими руками или приобрели на заработанные трудом деньги: шелковые ткани, белье, которое их матери вышили для брачного ложа, стихи, написанные рукою поэта, векселя и завещания, купчие на дома и закладные на землю, собак и кошек, рубашки с плеч и перстни с пальцев, женщины бросали в огонь покрывала, и знаешь, Джоанна, что хуже всего? они отправили в костер зеркала и теперь не видели своих лиц, не видели, чем отличаются от скотов бессловесных и от несчастной живности, которая корчилась в огне. А растопив зеркала, они вернулись в пустые жилища и легли на пол, потому что сожгли кровати, и когда они встали на следующее утро, у всех ломило поясницу от спанья на жестком, и не было столов, чтобы сесть завтракать, потому что из столов сложили костры, и не было стульев, потому что стулья порубили на растопку, и не было хлеба, потому что пекари бросили в огонь квашни с опарой, муку и весы. А знаешь, что хуже всего? Они все были трезвы. Накануне они вытащили на улицу бурдюки с вином и… – Он делает движение, будто бросает что-то в костер. – Они были трезвы, головы у всех прояснились, люди смотрели вокруг себя и не знали, что им есть, что пить и на чем сидеть.
– Ты сказал, хуже всего было не это, а зеркала. Невозможность посмотреть на себя.
– Да. По крайней мере, я так думаю. Я всегда смотрю себе в лицо. И у тебя, Джоанна, всегда должно быть хорошее зеркало, чтобы глядеть на себя. Потому что ты женщина, на которую стоит поглядеть.
Можно было бы написать сонет, Томас Уайетт мог бы написать ей сонет и все равно не произвести такого впечатления. Она отворачивается, но сквозь тончайшую дымку покрывала он видит, как вспыхивают ее щеки. Потому что женщины вечно упрашивают, скажи мне, просто скажи мне хоть что-нибудь, скажи, о чем ты сейчас думаешь. Вот он и сказал.
Они расстаются по-дружески, даже без последнего раза на прощанье. Не то чтобы они расстались совсем, просто у них теперь другие отношения. Мерси говорит: Томас, когда тебя зароют в могилу, ты с твоим умением уболтать кого угодно и оттуда выберешься.
Дома тихо, спокойно; городская суета и шум остались за воротами. Он заказал новые замки, более прочные цепи. Джо приносит ему пасхальное яйцо. «Глянь, это мы оставили для тебя». Яйцо белое, гладкое, без носа и глаз, только из-под скособоченной короны выглядывает одна курчавая прядь цвета луковой шелухи. Ты выбираешь себе государя, зная, каков он. Или не зная?
Девочка говорит:
– Мама просила: скажи дяде, пусть подарит мне кубок из яйца грифона. Это лев с птичьей головой и крыльями, таких теперь больше не бывает.
Он говорит:
– Спроси маму, какого цвета.
Она целует его в щеку.
Он смотрит в зеркало и видит там всю комнату разом: лютни, портреты, шелковые занавеси. В Риме был банкир по имени Агостино Киджи – на родине, в Сиене, его считали богатейшим человеком мира. Принимая у себя папу, он выставил на стол золотые блюда, а в конце пира, оглядев разморенных вином, пресыщенных кардиналов и груды безобразных объедков – полуобглоданные кости, устричную скорлупу и апельсиновые корки, – сказал: выбросьте это все, чтобы не мыть.
Гости пошвыряли золотые блюда через окно в Тибр, следом полетели грязные скатерти, салфетки парили над водой, словно голодные чайки. Раскаты римского хохота отдавались в римской ночи.
Киджи заранее натянул вдоль реки сети и поставил ныряльщиков, которые выуживали из воды то, что летело мимо сетей. Зоркий эконом стоял на берегу с описью, отмечая в ней булавкой каждый поднятый со дна предмет.
* * *
1531-й: год кометы. В летних сумерках под лодочкой встающего месяца и новой хвостатой звездой мужи в черных одеяниях расхаживают рука об руку по саду, беседуя о спасении. Это Томас Кранмер, Хью Латимер, капелланы и секретари Анны, сорванные с места и принесенные в Остин-Фрайарз свежим ветерком богословской дискуссии: где церковь сбилась с пути? Можем ли мы вернуть ее в верное русло?
– Было бы ошибкой, – замечает он, глядя на них из окна, – полагать, будто эти джентльмены хоть в чем-нибудь между собой согласны. Дай им три месяца отдохнуть от Томаса Мора, и они воздвигнут гонения друг на друга.
Грегори сидит на подушке и забавляется с собакой: щекочет ей нос пером и смеется, когда она чихает.
– Сэр, – спрашивает Грегори, – почему все ваши собаки зовутся Беллами и всегда такие маленькие?
Позади за дубовым столом сидит перед астролябией королевский астроном Николас Кратцер[50]50
Выходец из Мюнхена, Николаус Кратцер (род. ок. 1487) был весьма благосклонно принят при английском дворе. Получив статус королевского астронома, он изготовлял для Генриха VIII часы, астролябии и прочие научные инструменты. Кратцер был наставником детей Томаса Мора в астрономии, а также читал лекции в Оксфордском университете по приглашению кардинала Вулси. Известен портрет Кратцера работы его друга Ганса Гольбейна (оригинал хранится в Лувре, копия, выполненная в XVI в., – в Национальной портретной галерее в Лондоне). – (Прим. О. Дмитриевой)
[Закрыть] и что-то пишет, затем, отложив перо, приподнимает голову.
– Мастер Кромвель, либо мои расчеты неверны, либо Вселенная не такова, как мы думаем.
Кромвель спрашивает:
– Почему кометы предвещают дурное? Почему не хорошее? Почему они пророчат гибель государств, а не расцвет?
Кратцер – темноволосый, коренастый – примерно его ровесник, в Англию приехал из Мюнхена, а сюда пришел, чтобы в приятном обществе побеседовать на умные темы, в том числе по-немецки. Когда-то давно Кратцер сделал кардиналу, своему тогдашнему покровителю, золотые солнечные часы. Великий человек разрумянился от удовольствия.
– Говорите, они показывают истинное время, но только если светит солнце? Что ж, куда лучше герцога Норфолка, который не говорит истину никогда!
В 1456 году тоже была комета. Астрономы оставили о ней записи, Папа Каликст предал ее анафеме, и, возможно, живы еще два-три старика, видевшие ее своими глазами. Сообщают, что хвост кометы формой напоминал ятаган, и в том же году турки осадили Белград. Важно примечать все небесные знамения – монархи нуждаются в указаниях из самых авторитетных источников. Осенью 1524 года все семь планет выстроились в созвездии Рыб, предрекая войну в Германии, появление Лютеровой секты, восстание простолюдинов и гибель ста тысяч императорских подданных, а также три дождливых лета подряд. Разорение Рима предвозвестили, за десять лет до самого события, звуки битвы в небе и под землей: столкновение невидимых воинств, звон стали о сталь, смутные стоны умирающих. Сам он тогда в Риме не был и слышать этого не мог, однако многие рассказывают, что друзья их знакомых слышали.
Он говорит:
– Ну, если вы ручаетесь, что углы измерены верно, я могу проверить расчет.
Грегори спрашивает:
– Доктор Кратцер, а куда деваются кометы, когда мы на них не смотрим?
Солнце почти село, птицы затихли, через открытые окна из сада доносится аромат пряных трав. Кратцер застыл, сцепив длинные узловатые пальцы: не то молится, не то размышляет над вопросом Грегори. В саду доктор Латимер поднимает голову и машет рукой.
– Хью голоден. Грегори, зови гостей в дом.
– Я прежде перепроверю расчеты, – мотает головой Кратцер. – Лютер говорит, Бог выше математики.
Кратцеру приносят свечи. Зыбкие сферы света дрожат над дубовым столом, который в сумерках кажется почти черным. Губы ученого шевелятся, словно губы монаха, читающего вечерние молитвы, цифры льются с пера на бумагу. Он, Кромвель, обернувшись на пороге, видит, как они вспархивают со стола, скользят по стене и сливаются с тенями в углах.
* * *
Из кухни, тяжело ступая, приходит недовольный Терстон.
– Не понимаю, что все о нас думают. Надо срочно давать большой обед, а лучше – два, иначе нам конец. Ваши друзья – любители охотничьей забавы, да и любительницы тоже – прислали нам столько дичи, что можно накормить армию.
– Подари соседям.
– Суффолк присылает по оленю каждый день.
– Мсье Шапюи – наш сосед и вряд ли избалован подарками.
– А Норфолк…
– Вынеси туши к задним воротам и спроси, кто в приходе голоден.
– Но их надо свежевать! Рубить!
– Ладно, я тебе помогу.
– Это немыслимо! – Терстон в отчаянии теребит фартук.
– Мне будет только в удовольствие.
Он снимает кардинальское кольцо.
– Сидите! Сидите! Будьте джентльменом, сэр. Отдайте кого-нибудь под суд! Составьте закон! Сэр, вам следует забыть, что вы когда-то умели рубить мясо.
Он со вздохом опускается обратно на стул.
– Наши благодетели получают письма с выражениями признательности? Мне следовало бы подписывать их самому.
– Десять писцов целый день только и делают, что строчат такие письма.
– Тебе надо взять еще мальчишек на кухню.
– А вам – еще писцов.
Если король требует его к себе, он едет из Лондона туда, где сейчас король. Первое утро августа застает его в группе придворных, наблюдающих, как Анна в костюме девы Марианны стреляет из лука по мишени.
– Уильям Брертон, добрый день, – говорит он. – Вы не в Чешире?
– Именно там, вопреки очевидному свидетельству ваших глаз.
Сам напросился.
– Просто я думал, вы будете охотиться в собственном поместье.
Брертон скалится:
– Я что, должен давать вам отчет в своих действиях?
На зеленой поляне, в зеленых шелках, Анна швыряет лук на траву – тетива негодная, лук негодный, стрелять невозможно.
– Она и в детстве была такой.
Он оборачивается и видит рядом с собой Марию Болейн – на дюйм ближе, чем подошла бы любая другая женщина.
– А где Робин Гуд? – Он смотрит на Анну. – У меня срочные бумаги.
– До заката он их смотреть не будет.
– А после заката он не занят?
– Она продает себя по дюйму. Все джентльмены скажут, это ваша выучка. Чтобы продвинуться от колена еще чуть дальше, король должен всякий раз готовить денежный подарок.
– То ли дело вы, Мария, послушная девочка. Легла на спинку – получила четыре пенса.
– Ну да. Если укладывает король. – Она смеется. – У Анны очень длинные ноги. Казна истощится раньше, чем король дойдет до сладкого. Воевать во Франции куда дешевле.
Мистрис Шелтон протягивает Анне другой лук, но та, отмахнувшись, решительно идет к ним через поляну. Золотая сетка на голове Анны блестит крохотными алмазиками.
– В чем дело, Мария? Вновь покушаешься на репутацию мастера Кромвеля?
Среди придворных раздаются смешки.
– У вас есть для меня приятные новости? – Она берет его под руку, ее голос и взгляд мягчеют. Смешки разом стихают.
В комнате на северной стороне, где не так печет, Анна говорит ему:
– На самом деле это у меня для вас новости. Гардинер получит Винчестер.
Самую богатую из епархий Вулси; он помнит все цифры.
– После такого подарка мастер Стивен, возможно, станет добрее.
Анна улыбается, кривя рот.
– Не ко мне. Он старается убрать с дороги Екатерину, но не для того, чтобы ее место заняла я. И даже от Генриха этого не скрывает. Я бы предпочла, чтобы у короля был другой секретарь. Вы…
– Рано.
Она кивает:
– Да. Возможно. А вы знаете, что Маленького Билни сожгли? Пока мы тут играли в разбойников.
Билни арестовали, когда тот проповедовал в чистом поле и раздавал слушателям листки из тиндейловского Евангелия. В день казни был сильный ветер, который постоянно отдувал пламя от столба – Билни умирал долго.
– Томас Мор сказал, в огне он отрекся от своих заблуждений, – говорит Анна.
– Люди, присутствовавшие на казни, рассказывали мне иное.
– Билни был глупец! – Лицо Анны наливается гневным румянцем. – Говорить надо то, что сохранит тебе жизнь, пока не настанут лучшие времена. Греха в том нет. Ведь вы бы так и поступили?
Он мнется, что вообще-то не в его характере.
– Ой, полноте, наверняка вы об этом думали!
– Билни сам полез в костер. Я всегда говорил, что этим кончится. Он каялся после первого ареста, а пойманным во второй раз нет милосердия.
Анна опускает глаза.
– Какое счастье для меня и для вас, что милосердие Божие безгранично! – Она заметным усилием берет себя в руки. Распрямляет стан. От нее пахнет лавандой и зеленой листвой. В сумерках ее алмазы холодны, как дождевые капли. – Король разбойников скоро вернется. Идемте его встречать.
Заканчивается уборка урожая. Ночи лиловы, комета сияет над жнивьем. Охотники скликают собак. После Крестовоздвижения на оленей больше не охотятся. Когда он был маленьким, в это время года мальчишки, жившие все лето на пустырях, возвращались домой мириться с отцами – обычно старались прошмыгнуть незаметно, когда приход празднует завершение жатвы и все пьяны. С Троицы они жили чем придется: ловили в силки кроликов и птиц, варили их в общем котле, гоняли проходящих девчонок, которые с воплем разбегались от них по домам, холодными дождливыми ночами тайком залезали в сараи, где согревались песнями, шутками и загадками. В конце лета ему поручают продать котел, и он ходит от двери к двери, расписывая, что это за чудо-вещь.
– Купите котелок, хозяюшка, никогда не будете голодать. Бросьте туда рыбьи головы – выплывет палтус.
– Он дырявый?
– Целее не бывает! Не верите – помочитесь в него. Ну, сколько дадите? Таких котелков не видывали со дней, когда Мерлин был мальчишкой. Бросьте туда мышь из мышеловки – она превратится в запеченную кабанью голову с яблоком во рту.
– Сколько тебе лет? – спрашивает женщина.
– Не скажу.
– Приходи через год – полежим в моей пуховой постели.
– Через год я отсюда сбегу.
– Станешь бродячим фокусником? Будешь показывать всем свой котелок?
– Нет, лучше подамся в разбойники. Или буду поводырем с медведем – это надежнее.
Женщина говорит:
– Желаю успеха.
* * *
Вечером после купанья, ужина, пения и танцев его величество изъявляет желание прогуляться. Король пьет домашнее вино, не крепче сидра, однако сегодня быстро опрокинул первый кубок и потребовал еще, так что Фрэнсис Уэстон вынужден поддерживать захмелевшего монарха под локоток. Выпала обильная роса, и джентльмены с факелами осторожно ступают по мокрой траве, под ногами у них хлюпает. Король глубоко вдыхает сырой воздух.
– Вы не ладите с Гардинером, – говорит его величество.
– Я с ним не ссорился, – учтиво замечает Кромвель.
– Значит, Гардинер поссорился с вами. – Король исчезает во тьме и в следующий миг продолжает из-за горящего факела, словно Господь из неопалимой купины: – Я в силах управиться со Стивеном – как раз такой упрямый и решительный слуга мне сейчас нужен. Мне ни к чему люди, которые неспособны отстаивать свое мнение.
– Вашему величеству следует вернуться в дом. Ночные испарения вредны для здоровья.
– Ну в точности кардинал! – смеется король.
Он подходит к королю слева. У Френсиса Уэстона, молодого и хрупкого, уже немного подгибаются колени.
– Обопритесь на меня, сэр, – советует он, и король повисает на его плече, сдавливая локтем горло. «Или поводырем с медведем – это надежнее». Ему кажется, будто король плачет.
Он не сбежал на следующее лето ни в разбойники, ни в медвежьи поводыри. В тот год мятежные корнуольцы[51]51
Имеется в виду восстание в Корнуолле в 1497 г., когда, протестуя против сбора налога на ведение войны с Шотландией, корнуольцы двинулись через всю страну к Лондону, чтобы высказать свои претензии королевским министрам. Армия Генриха VII разгромила их, обратив в бегство значительную часть участников марша, которые вовсе не намеревались сражаться. – (Прим. О. Дмитриевой)
[Закрыть] двинулись на Лондон, чтобы захватить английского короля и подчинить своей корнуольской воле. Страх бежал впереди мятежного войска: все знали, что корнуольцы жгут стога и режут поджилки скоту, предают огню дома вместе с жителями, убивают священников, едят младенцев и топчут священные облатки.
Король резко убирает руку с его плеча.
– Идемте к нашим холодным постелям. Или она только у меня холодная? Завтра – на охоту. Если у вас нет хорошего коня, вам подберут из моих. Проверю, так ли вы неутомимы, как говорил кардинал. Вам с Гардинером надо научиться тянуть в одной упряжке. Этим летом я намерен запрячь вас обоих в плуг.
Королю нужны не подъяремные волы, а неистовые быки, которые столкнутся лбами, увеча себя в битве за монаршие милости. Пока он не в ладу с Гардинером, у него больше шансов оставаться приближенным слугой. Разделяй и властвуй. Впрочем, он и так властвует.
* * *
Хотя парламент еще не созывали, осень выдалась на редкость напряженная. Толстые кипы королевских бумаг приносят почти ежечасно. В доме на Остин-Фрайарз толпятся купцы из Сити, монахи, священники – все молят уделить им по пять минут. Словно почуяв, что близится некая перемена власти, некое занятное действо, у ворот с утра пораньше собираются кучки лондонцев, глазеют на входящих челядинцев, тыча пальцами: вот человек в ливрее герцога Норфолка, вот посыльный от графа Уилтширского. Кромвель смотрит из окна, и ему кажется, что он их узнает: это сыновья тех самых людей, которые по осени грелись и судачили в дверях отцовской кузни, такие же мальчишки, каким был он сам, нетерпеливо ждущие чего-то нового.
Он смотрит на них и делает подходящее к случаю лицо. Эразм говорит, что всякий раз, выходя из дома, следует придать своим чертам желаемое выражение, натянуть, так сказать, маску. Он натягивает маску, вступая в любой дом, будь то герцогский дворец или придорожная корчма. Он посылает Эразму деньги, как прежде кардинал. «На хлеб, чернила и перья», – говаривал милорд. Эразм удивлен, поскольку слышал о Томасе Кромвеле только дурное.
С того дня как его включили в королевский совет, он учился придавать лицу нужное выражение: наблюдал, как мелькают в чертах других придворных сомнения, опаска, непокорство, пока их не сменит всегдашняя угодливая полу-улыбка. Рейф говорит, не следует доверять Ризли, и он смеется: с Зовите-меня все ясно. Он хорошо устроился при дворе, но начинал у кардинала – а кто нет? Гардинер был его наставником в Тринити-холле; он наблюдал, как мы оба пробиваемся наверх, как обрастаем мускулами – два бойцовых пса, – и никак не решит, на которого ставить. Я бы на его месте, наверное, метался бы точно так же. В мои дни было проще: снимай последнюю рубаху и ставь на Вулси. Ризли и таких, как Ризли, бояться незачем: всегда известно, чего ждать от людей без совести. Покуда ты их прикармливаешь, они тебе служат. Куда непредсказуемее, куда опаснее такие, как Стивен Воэн, пишущий: «Томас Кромвель, ради вас я готов на все». Друзья и единомышленники, чьи объятья крепки, как на краю пропасти.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































