Текст книги "Культурология: Дайджест №3 / 2009"
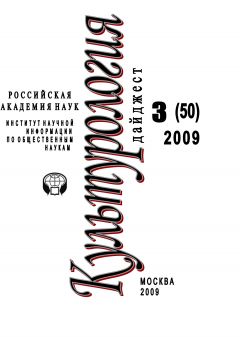
Автор книги: Ирина Галинская
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Силу музыкального искусства не отрицали и мусульманские теологи. Аль-Газали (1058–1111), автор труда «Возрождение наук о вере», яростно боровшийся с восточным аристотелизмом, писал, что слушание музыки запретно для молодежи и тех, для кого она лишь средство увеселения; разрешено для тех, кто наслаждается ею, получая наслаждение от прекрасных мелодий самих по себе; и желательно для тех, кто намерен посетить святые места или участвовать в джихаде.
Специфика эстетического воздействия музыки в арабо-мусульманской науке усматривалась в двух ее свойствах: во-первых, в том, что она трогает душу непосредственно, и, во-вторых, в том, что присущая ей гармония раскрывается не сразу, а во временной последовательности, поэтому музыкальная гармония вызывает эмоциональный отклик иного характера, чем при созерцании видимых форм. Так, в трактате «О музыке», написанном учеными, входящими в организацию «Чистых братьев и верных друзей», в главе «О редкостных изречениях философов о музыке» говорится:
«Другой сказал: “Нет, слух лучше зрения, ибо зрение блуждает в поисках предметов своего восприятия и, чтобы воспринять их, служит им, подобно рабу. Предметы же слухового восприятия доводятся до слуха, чтобы они служили ему, как царю”.
Другой сказал: “Зрение воспринимает только по прямым линиям, а слух воспринимает из сферической среды”.
Другой сказал: “Предметы зрительного восприятия имеют телесную <природу>, а предметы слухового восприятия имеют духовную <природу>”.
Другой сказал: “Посредством слуха душа получает сведение о том, что для нее не существует как по месту, так и по времени, а посредством зрения она может достичь только того, что налично в данное время”.
Другой сказал: “Слух различает четче, чем зрение, так как он благодаря своей утонченности узнает размеренную речь и гармоничные тона, замечает разницу между созвучным и несозвучным, определяет нарушение ритма и ровность мелодии, тогда как зрение относительно большинства воспринимаемых им предметов допускает ошибки: так, оно может принять большое за малое и малое за большое, близкое за далекое и далекое за близкое, движущееся за неподвижное и неподвижное за движущееся, прямое за кривое и кривое за прямое”.
Другой сказал: “Поскольку субстанция души имеет родство и соответствие с гармоническими числами, поскольку тона музыкальных мелодий размеренны и поскольку между периодами звучания тонов и разделяющими их паузами существует определенная пропорция, они приносят удовольствие природе <людей>, наслаждение – духам и радость – душам, ибо им свойственны подобие, соответствие и родство. Точно так же <душа> судит и о красоте лица и о прелести природных предметов, ибо красота природных предметов зависит от пропорциональности их строения и гармоничности составляющих их частей”» (3, с. 276).
Мусульманское искусство не создало крупных музыкальных форм. Круг тем вокальных или вокально-инструментальных сочинений тоже достаточно узок: любовная лирика, философское назидание, красноречивое, пышное восхваление. Именно в панегирической оде – касыде и в лирической газели – постепенно оттачивались выразительные средства развернутого вокально-инструментального цикла. В основе музыки мусульманского мира – понимание лада (макома, мугама, макама) в качестве определенной мелодической модели. Маком (мугам, макам) – это и лад, и вокально-инструментальный цикл, созданный на основе этого лада (2).
Все жанры традиционной музыки мусульманского мира – фольклор, ашугское искусство, мугамы – лиричны. Мугам тесно связан с восточным поэтическим жанром газели, которые обычно рисуют образы любви, наполненной драматическими переживаниями: любовь мучением полна…
Лирическая по своему существу мугамная «пьеса» окрашена в глубоко драматические тона. Косвенно на драматический характер мугамного искусства указывают и многочисленные сравнения мугама с сонатной формой в музыковедческих исследованиях.
Мугам существует и как «чистая», «абсолютная», т.е. инструментальная музыка, сохраняющая образно-эмоциональный строй своего предшественника. Мугам – это искусство, в котором музыкальное начало доминирует. Справедливость этого тезиса подтверждается сравнением с ашугским искусством, где роль собственно музыки не так значительна. Слушателя интересует в первую очередь исполнение дастана (поэтического сказания), а не того или иного напева. Музыкальное творчество ашуга вторично по отношению к искусству слова: прозаические отрывки декламируются, а метрика стихотворного эпизода диктует выбор напева. В мугамном искусстве иначе – к определенному мугаму подбираются соответствующие газели (2).
Различия художественного содержания ашугского и мугамного искусства аналогичны различиям между оперой и симфонией. В дастане ярко выраженный сюжет, история героев, а в мугаме воплощается образно-эмоциональный мир. Ашуг во время исполнения, точнее, представления дастана играет роль каждого из персонажей. Это своеобразная моноопера. Не случайно ашугские дастаны привлекают именно оперных композиторов. Дастаны легли в основу либретто таких опер, как «Асли и Керем», «Кер-оглы» Уз. Гаджибекова, «Ашуг Гариб» З. Гаджибекова, «Шах Исмаил» М. Магомаева, «Шахсенем» Р. Глиэра.
На протяжении веков восточная музыка не изменила своей монодической природе и импровизационному характеру. Мусульманская культура не приняла ни одной из существующих систем нотации. Импровизационная музыка Востока до сих пор существует в формах устной традиции.
Список литературы
1. История эстетической мысли: В 6 т. – М., 1985. – Т.2: Средневековый Восток. Европа XV–XVIII вв. – 456 с.
2. Карпычев М.Г. О содержании азербайджанской народной музыки в аспекте взаимодействия искусств // Взаимодействие искусств: Методология, теория, гуманитарное образование. – Астрахань, 1997. – С. 109–114.
3. Музыкальная эстетика стран Востока. – М., 1967. – 414 с.
4. Шахназарова Н. Музыка Востока и музыка Запада. – М., 1983. – 152 с.
Культура античной эпохи, средних веков и начала нового времени
Anima mundi гуманистов возрождения
С.А. Гудимова
Позднее Средневековье относилось к классическому миру не исторически, а прагматически, как к чему-то далекому, но в известном смысле еще живому и потому потенциально полезному и потенциально опасному одновременно. Античная цивилизация из-за отсутствия «перспективной дистанции» не поддавалась обозрению как некая связная культурная система, в пределах которой все соотнесено друг с другом. Даже XII в., отмечает Э. Панофский, «никогда не обращал внимания на классическую античность в целом… он смотрел на нее как на сокровищницу идей и форм, из которых присваивал себе то, что казалось подходящим мыслям и действиям сегодняшнего дня» (11, с. 98).
Для средневековых «ренессансов» – Каролингского renovato и «Возрождения XII в.» – античность по-прежнему была рядом. Ренессанс пришел, чтобы понять, что мир Древних Греции и Рима давно потерян, как рай Мильтона, и может быть обретен только в духе.
Франческо Петрарка (1304–1374) был прямым наследником и завершителем мощного движения средневековой культуры, начавшегося в Провансе, продолженного северофранцузскими труверами, немецкими миннезингерами, сицилийскими и, наконец, флорентийскими лириками и Данте.
«Сложу стихи я ни о чем» – так начинает свою «Песню ни о чем» первый трубадур Гильем Аквитанский (1071–1126); поэт может обойтись без темы для стихов, если он дышит ими как воздухом. «Поэт начинался тогда, когда любовь рождала в нем дар песни и слово было средой обитания проснувшейся души. Любовь к Даме размыкала прежде глухое существо человека, и для него начиналась новая жизнь в свете и славе» (2, с. 23). Провансальцы называли свою поэзию, поступки и жесты «куртуазными». Для нас теперь это слово звучит как «изысканно вежливый, любезный»», а для провансальцев и Петрарки оно означало «прекрасный, благородный». Петрарка, используя этот термин провансальцев, называет «куртуазным» даже Христа (сонет 81). Места, где живет избранница небес, поэт называет обителью благородной красоты и куртуазности (канцона 37).
За два века до Петрарки один из первых трубадуров Джауфре Рюдель (ок.1125–1148) увидел в своей Далекой даме, любимице Творца, сокровище «достоинств куртуазных». Если церковь звала к блаженству на небесах, то любовная поэзия напоминала ей, что все разговоры о блаженстве без опыта влюбленности – невразумительны. Например, Джакомо да Лентино (возможно, именно он был создателем сонета) «положил в сердце служить Богу», чтобы быть достойным рая, однако знает о рае только то, что видел от его сияния в ясном взоре своей златоволосой дамы и не хочет рая без нее.
Поэты «сладостного нового стиля» поют почти только о мадонне, но их поэзия становится настолько многозначной (все они философы и ученые), что за образом мадонны явственно встают космические и надмирные дали: она теперь почти небесная хранительница премудрости мира, Софии, и ключей блаженства. Провансальский и сицилийский каноны еще допускают соединение с любимой; для поэтов «сладостного нового стиля», для Данте, для Петрарки оно абсолютно исключено из-за неземного достоинства донны. Разделенная любовь и счастье означали бы изменение в космосе, возвращение рая на землю (2, с. 25). Один из поэтов «сладостного нового стиля» говорит Господу о своей даме: «Она была подобна // Созданьям ангельским обители небесной; // Не осуди, что я ее любил». Данте пишет к Беатриче: «Любовь гласит: “Дочь праха не бывает // Так разом и прекрасна и чиста… // Но глянула, и уж твердят уста, // Что в ней Господь нездешний мир являет”».
Всех предшественников Петрарки любовь к мадонне заставляет проснуться от сна. У Петрарки эта тема выражена с особой силой: «Вся жизнь, что в теле теплится моем, // Была подарком ваших глаз прекрасных // И ангельски приветливого слова; // Я тот, кто есть, – от них, мне это ясно: // Они, как зверя грузного бичом, // Дремотную во мне подняли душу» (сонет 63).
Ренессансное восприятие мира уникальным образом сосредоточено на полноте протекающей минуты. Оно редко устремляется с тоской к будущему и почти не мечтает о запредельных далях. Добродетель-счастье-слава – этот круг, в котором вращается ренессансное бытие, располагается здесь и теперь. Ф.Петрарка в «Книге писем о делах повседневных» говорит: «Я и советую, и зову со всей настойчивостью и с высшим напряжением сил изгонять душевный мрак и невежество в стремлении здесь, на земле, научиться чему-то, что откроет нам путь к небесам…»
Добродетель обязательно предполагает действие ради самоосуществления, в котором открывается счастье и за которым, как тень, следует слава. Самое главное в эстетике Ренессанса, подчеркивает А.Ф. Лосев, – «это такая личность, которая абсолютна не в своем надмировом существовании, но в своей чисто человеческой осуществленности» (8, с. 93).
Добродетель, Счастье, Слава, Искренность, Невинность, Чистота, Умеренность и Благополучие – постоянные фигуры ренессансного театра. Показательно, что одна из опер, поставленных во Флоренции в честь бракосочетания важных особ, называлась «Дом Славы». «Для изображения великолепия сего дому украшены были стены театра одним только хрусталем и зеркалами, а пол намощен был белым мрамором. В середине стоял преизрядною работою зделанный амбон, на котором сидела крылатая Слава с серебряною трубою, имеющая на себе из многих глаз, ушей и языков состоящее платье. […] Я оная вечно неумолкающая речь, говорила она, которая храбрые дела потомкам сказывает и украшает их память неувядаемыми венцами. […] Стихотворная наука, Историа и Живописное художество – это мои дети и помощницы, которые добродетельные дарования великих особ в вечной памяти содержать способствуют» (15, с. 545–546).
В эпоху Возрождения учение о предопределении не отвергалось полностью, оно сосуществовало с идеей свободы воли. Франческо Петрарка первый (по времени) человек Возрождения на протяжении всей своей жизни пытался примирить античность и христианство. «Петрарке, – пишет А.Н. Веселовский, – демоны сомнения проникали в душу, идеи аскетизма и славы, личного счастия и христианского самоотречения боролись в нем… Борьба не новая, хорошо знакомая средневековому человеку, с той разницей, что многое грешное и мирское, что прежде относилось на счет демонического соблазна, получило теперь освящение римского прецедента и, являясь в ореоле древнего величия, и пугало, и привлекало вместе» (цит. по: 7, с. 37). В диалоге «Тайна» (1342–1343) Петрарка исповедуется о мятеже в душе своей: «… я так упиваюсь своей душевной борьбой и мукою… что лишь неохотно отрываюсь от них» (цит. по: 7, с.38).
Личность Петрарки, несмотря на ее внутренние противоречия, воспринимается современниками как личность гармоничная в ренессансном значении этого слова. «О жизни и нравах господина Франческо Петрарки из Флоренции» Боккаччо пишет: «Поистине о добродетелях и познаниях этого поэта мое перо совершенно бессильно изъясниться сообразно с истиной».
Пожалуй, наиболее точно о типе ренессансного сознания говорится в «Эстетических фрагментах» Петрарки. В одном из фрагментов он подчеркивает: многое можно прочитать у древних философов, скажем, у Платона и Цицерона, такое, что «если тебе не покажут имени автора, ты решительно готов будешь поклясться, что читаешь Амвросия или Августина, – о Боге, о душе, о несчастьях и заблуждениях людей, о презрении к земной жизни и стремлении к иной», и это потому, что многое в христианстве принадлежит не одним христианам: сознание греха и уколы совести, раскаяние и исповедь и т.д. «одинаково присущи всем разумным существам» (13, с. 282).
Людям Возрождения открывалась необозримая сфера разнообразных возможностей и самостоятельных решений: человек сам может выбрать лучшую судьбу и осуществлять ее, не склоняясь перед роковой необходимостью. «Если божественное провидение есть условие существования всего космоса, – писал философ-неоплатоник Марсилио Фичино, то человек, который господствует над всеми существами, живыми и неживыми, конечно, является некоторого рода богом… Он – бог стихий, в которых он поселяется и которые он использует; он бог всех материальных вещей, которые он применяет, видоизменяет и преобразует. И этот человек, который по природе царит над столькими вещами и занимает место бессмертного божества, без всякого сомнения, также бессмертен» (цит. по: 8, с.327).
«Человеческое могущество почти подобно божественной природе; то, что бог создает в мире своей мыслью, [человеческий] ум замышляет в себе посредством интеллектуального акта, выражает посредством языка, пишет в книгах, изображает посредством того, что он строит в материи мира» (там же). Всякий художник, пишет Фичино, как и Творец, хочет увековечить себя в своем произведении.
Творенье может пережить творца:
Творец уйдет, природой побежденный,
Однако образ, им запечатленный,
Веками будет согревать сердца…
В этих строках Микеланджело – вызов Времени, Фортуне и художественное кредо эпохи.
Именно в эпоху Ренессанса возникло понятие «художественное» как характеристика произведений, принадлежащих к «благородным искусствам». Появившиеся одновременно понятия «изящное произведение» и «прекрасное произведение» не были его синонимами. Под «изящным» понимали «соразмерное», т.е. пропорционально выдержанное произведение, а под «прекрасным» такое, какое нравилось всем. Под эти понятия в равной мере подходили как творения искусства, так и изделия мастеров-ремесленников. И лишь понятие «художественное» сразу выделяло произведение, относило его к особой области – области «благородных искусств».
Художественность ассоциировалась и с объемом совершенной работы, и количеством затраченного труда, и вбирало в себя оценки произведений – «изящное», «прекрасное» и «совершенное», так как произведение могло стать прекрасным, изящным и совершенным лишь в результате огромного творческого труда и гениальной изобретательности его создателя. С этой точки зрения творения античных авторов действительно были удивительны, поразительны и уникальны, казалось, что они олицетворяли собой все, на что способны человеческий разум, фантазия и упорство. Произведения античных мастеров осознаются в качестве эталона – эталона художественности. Ни одно другое искусство мира, известное деятелям итальянского Возрождения, не могло в художественном отношении соперничать с античным, которое и стало почитаться образцовым.
Выдвинутая Дж. Вазари идея – подражать древним не копируя – ставила задачу: подняться на тот уровень художественности, какой уже был достигнут в Древней Греции. И в каждой сфере искусства «возрождение» принимало свой облик.
Данте, Петрарка, Боккаччо не возрождали ни латинское стихосложение, ни античные жанры и стили. Они создали рифмованную силлабику и новеллистическую прозу на «вульгарном» языке, и место литературы в жизни народа, в культуре и истории стало более значимым.
Возврат к природе играл главенствующую роль в живописи, обращение к классическому искусству было главным в архитектуре, «а равновесие между тем и другим как крайностями было лучше всего выражено в скульптуре» ( 11, с. 146).
Творения Брунеллески, несмотря на все романские влияния и «скрытые» позднеготические тенденции, восстановили как морфологию, так и пропорции классической архитектуры, вызвав к жизни довольно устойчивую традицию не только в архитектуре, но и в смежных искусствах – столярном деле, инкрустации, формах мебели. Эта классическая традиция «обрамляла» все реальное окружение людей, живших в эпоху Ренессанса.
Начиная с Петрарки, гуманисты пытались сформулировать и осуществить в собственной литературной практике представление о таком «подражании» античным образцам, при котором наилучшим образом проявилась бы творческая сила подражателя, вступающего в соревнование с Вергилием или Цицероном. Подражание истолковывали как «изобретение». Это называли «парафразой», так как понятия стилизации еще не было. Цель этого скрытого подражания – желанная первичность, неподражательность. В трактате Бальдассаре Кастильоне (1478–1528) «Придворный» (1528) автор, имитируя беседы реальных лиц, в частности, пишет, что в искусстве настоящий мастер «не похож ни на кого, кроме самого себя» и «подражает только себе же». А о Петрарке и Боккаччо он, в частности, пишет, что их истинным учителем был «талант и собственное природное суждение; и никто не должен этому дивиться, потому что к вершине всякого совершенства можно двигаться разными путями».
В XIV в. в Италии живопись и поэзия развивались почти параллельно. После смерти Петрарки в 1374 г. и Боккаччо в 1375 г. в Италии началось «столетие без поэзии» (Кроче). В ХV в. ведущим способом осмысления действительности становится изобразительное искусство. В ХV в. художник стал тем, кем в иные времена был поэт: философом, идеологом, ученым и даже… изобретателем. Историк искусства эпохи Ренессанса Джорджо Вазари отмечает, что выдающиеся живописцы и скульпторы получали в дар от неба поэзию и философию. И это справедливо в отношении итальянских художников XV–ХVI вв.
В Средние века художественная жизнь сосредоточивалась вокруг храма. Возведенный храм давал работу живописцам, школа при храме – каллиграфам и миниатюристам. В ХV в. этот тысячелетний порядок утратил свою непреложность, и живопись эмансипировалась от архитектуры. Полотна итальянских мастеров XV–ХVI вв. – это целый мир. Картина вмещает в себя и священную тематику, и философское и богословское содержание, и (благодаря перспективе) пространство, и архитектуру (итальянская живопись до второй половины XVI в. переполнена архитектурой, почти градостроительными проектами), и своеобразный текст (символические предметы и фигуры, разнообразные аллегории).
В эпоху Ренессанса живопись обратилась к поискам абсолютных первоначал сущего. Для Леонардо да Винчи живопись и есть истинная философия; для него зрительный образ всегда выше любых логических построений, тем более что картина способна преодолеть разрушительную силу времени. Эстетика Ренессанса доверилась зрению.
Еще поэты раннего Возрождения, отстаивая философское достоинство поэзии и ее место в ряду свободных искусств, наметили будущую философскую значимость живописи. Говоря о приемах астрономической науки, Данте упоминает «искусство, именуемое перспективой», прежде свободных искусств – арифметики и геометрии. Геометрия, пишет Данте, – «чистейшая» наука, поскольку «она не запятнана ошибочностью и в высшей степени достоверна как сама по себе, так и благодаря своей служанке, которая именуется Перспективой» («Пир», II, 3, 6, 13, 27). Перспектива, наделявшая живопись статусом науки, создавалась как научная, математическая проработка пространства. С живописной перспективой, отмечает Панофский, приходит новая философия пространства как непрерывного количества, состоящего из трех физических измерений, по природе существующего прежде всех тел и до всех тел безразлично вмещающего все. Петрарка, хорошо знавший место живописи в античной иерархии умений, не называет ее философией, а лишь помещает ее «выше всех остальных ремесленных искусств». В XVI же веке называть живописцев ремесленниками уже мало кто решается, и Кастильоне в трактате «Придворный» требует от достойного человека не только уметь красиво драться на шпагах, изящно ездить на лошади, изысканно танцевать, играть на многих музыкальных инструментах, но и знать живопись не в меньшей мере, чем литературу.
Освободившись от служебного статуса, ренессансное искусство и художественное изобретательство встали на путь исканий. У Леонардо да Винчи почти нет законченных произведений, в его записных книжках тысячи набросков и проектов, перемежающихся планами написать книгу на каждую из сотен мимолетно затронутых тем. Важнейшие работы Бенвенуто Челлини так и остались проектами, почти все работы Микеланджело тоже остались незавершенными. Славе художников это не мешало, они были заряжены энергией безудержного изобретательства. Специфическая черта Ренессанса, отмечает А.Шастель, – «это… чувство полной солидарности между всеми аспектами человеческой жизни и мысль, что все они могут быть одновременно преображены» (цит. по: 8, с. 74). Это был век «великого нетерпения» (Шастель) и страстного стремления к эстетическому удовлетворению в самых разнообразных сферах.
В ХV в. во Флоренции создается так называемая Платоновская академия – кружок гуманистов, основанный Козимо Медичи. Все, входившие в этот художественный союз, в совершенстве владели греческим, латинским и многими другими языками, обожали красоту во всех ее проявлениях, увлекались мифологией и искусством всех времен и народов. Члены «платонической семьи» – Марсилио Фичино, Франческо Каттани, Анджело Полициано, Кристофоро Ландино (комментатор Вергилия, Горация и Данте), Лоренцо Великолепный, Пико делла Мирандола и др. – стремились к эстетизации жизни на всех ее уровнях. Их балы, маскарады, карнавалы, турниры, переписка, как и дискуссии, научное и художественное творчество всегда по-светски непринужденны, красивы и изящны. В Красоте они видели победу Божественного Разума над материей и искренне верили в неограниченные возможности человека. «Убедись в том, что честно, – пишет в одном из писем Фичино, – и ты станешь прекрасным оратором; умерь свои душевные волнения, и ты будешь знать музыку; измерь свои силы, и ты сделаешься настоящим геометром» (цит. по: 8, с.321).
С 1469 г. правителем Флоренции стал Лоренцо Медичи. Описывая его славные дела, Н. Макиавелли, в частности, отмечает: «Величайшую склонность имел он ко всем, кто отличался в каком-либо искусстве, крайне благоволил к ученым… Так что граф Джованни Мирандола, человек почти богоподобный, всем другим странам Европы, где побывал, предпочел Флоренцию и обосновался в ней, привлеченный великолепием Лоренцо, который самозабвенно увлекался архитектурой, музыкой и поэзией. В свет выпущено было немало поэтических произведений, сочиненных Лоренцо, даже снабженных его комментарием. Чтобы облегчить флорентийской молодежи изучение изящной словесности, он открыл в Пизе высшую школу, куда привлекал искуснейших людей со всей Италии» (9, с. 339).
Во Флоренцию стекались драгоценнейшие рукописи, здесь встречались наизнаменитейшие эрудиты. «Если мы должны говорить о золотом веке, то это, конечно, век, который производит золотые умы, – пишет Фичино. – И что наш век именно таков, в этом не может сомневаться никто, рассмотрев его удивительные изобретения: наше время, наш золотой век привел к расцвету свободные искусства, которые почти погибли, грамматику, поэзию, риторику, живопись, архитектуру и древнее пение лиры Орфея. И это – во Флоренции» (цит. по: 8, с. 327). Члены академии много сделали для прославления флорентийского искусства, полагая, что герои и поэты достойны славы и их нужно окружать своего рода культом.
Во главе академии стоял Марсилио Фичино (1433–1499), философ, переводчик Платона, Плотина, Порфирия, Ямвлиха, Прокла и других античных мыслителей. Труды Платона были основным предметом изучения академии. Козимо Медичи утверждал, что без платоновского учения никто не может быть ни хорошим гражданином, ни хорошим христианином. Гуманистический неоплатонизм стал во второй половине XV в. чем-то вроде официальной философии Флоренции.
Неоплатоническая доктрина стремилась к слиянию философии Платона с христианством (само название главного сочинения Фичино «Theologia Platonica» было немыслимо в Средние века), а также пыталась доказать, что природа Откровения едина, что жизнь Вселенной, как и жизнь человека, подчиняется постоянному «духовному круговороту», ведущему от Бога к миру и от мира к Богу. Для Фичино Платон одновременно и «Моисей, говорящий на аттическом греческом языке», и наследник мудрости Орфея, Гермеса Трисмегиста, Зороастра и мудрецов Древнего Египта (11, с. 161). Поскольку откровение изначально едино, как едина и физическая Вселенная, то и миф – не аллегорическая параллель, а прямое утверждение религиозной истины. То, чему «справедливый Юпитер» научил Пифагора и Платона, не менее ценно, чем то, что Иегова открыл любому иудейскому пророку.
Для ренессансной эстетики, пишет А.Ф. Лосев, платонизм служил «оформлением ее стихийного индивидуализма, стремившегося обнять собою решительно все: и идеальное, и материальное. Платонизм в эпоху Ренессанса оформлял все его вдохновенные мечты, весь его и все его неудержимое стремление охватить бытие в целом, постоянно входить в глубины человеческой жизни и человеческой души, не сковывая себя никакими ограничениями. […] Древний Платон восторженно созерцал свои идеи, представляя их в виде каких-то субстанций небесного или занебесного мира и умилялся тому художественному осмыслению, которое они получают в мировой жизни, т.е. в космосе (слово, которое даже по своей этимологии указывает на красоту, лад, вечный порядок, гармонию). Нужен ли был возрожденческой эстетике такой платонизм? Он был для нее совершенно необходим. Мир и все живое для Возрождения, влюбленного в жизнь и ее красоту, обязательно должны были обрести свой безусловный смысл, свое оправдание и свою вечную одушевленную целенаправленность» (8, с. 70–71).
Это был «светский платонизм» (Лосев), далекий от абстрактной логики, аскетизма и дидактики. Сама логика развития неоплатонизма приводила его к разработке представлений, порывающих со статическим образом мироздания.
Соединяя герметические представления о мире – божественном живом существе – с астрологическим умозрением, а также с изучением созвучий и «магических» явлений, гуманисты пришли к мысли о такой цельности природы, такой связности в ее порядке, благодаря которым она одновременно становилась и математической системой, и совершенным организмом. Ее происхождение и цель, считали флорентийские гуманисты, необходимо связывать с определенным божественным планом, но сначала все явления чувственного мира следует осмыслить как эманацию некой «разумной силы», называемой «Душой мира» (Anima mundi).
Члены Платоновской академии занялись собиранием, переводами, изучением и пропагандой не одобрявшейся прежде эзотерической литературы. Старый пифагорейский символ яйца – малого изображения мира – они наделили новой символикой: его почти округлая форма стала означать чудо непрерывной и бесконечной эманации, а разнообразие составляющих его веществ говорило не только о равновесии различных по плотности стихий, но и о том, что мир способен раскрыться. В законченном и неподвижном с виду порядке проявляется бесконечная живая энергия; чтобы постичь тайну мироздания, нужно прочесть одно в другом. В конечном счете все в видимом мире есть символ. Существа, занимающие место в пространстве, и внутренняя реальность души постоянно взаимодействуют. Астрология в этом смысле становится ключом нового мировоззрения.
«Душа мира» – это начало единства форм, назначение которых – служить выражением космического порядка. Неопифагорейцы I в. до н.э. развили на основе диалога Платона «Тимей» музыкальную теорию мира, усматривая одни и те же интервалы в гамме тонов и порядке планет. На следующем этапе Макробий (комментатор этого классического текста), Боэций и Марциан Капелла создали учение о мировой гармонии. В его основе лежали схемы, легко поддававшиеся обобщению: каждая сфера соответствовала определенной науке, и все виды человеческой деятельности также могли быть вставлены в эту космологическую сетку.
В кругах флорентийских мыслителей учение о мировой гармонии получило новую жизнь. Музыка стала не просто выражением строения мира, но и посредником между «Душой мира» и душой человеческой. Выведенное из Ареопагита соответствие небесных сфер и ангельских чинов (что требовало добавить к классическим семи планетам Перводвигатель и Эмпирей) перестало быть чисто внешним: божества планет стали видимым, а ангелы – невидимым ликом одного и того же мира. Изначальная гармония на каждом уровне выражается в душе одной из сфер, на который Платон размещал сирен, а Плутарх – муз. Астрология – искусство счислять воздействие «лика небес» на подлунный мир – стала способом всегда, когда необходимо, схватывать глубокую внутреннюю связь не только человека с космосом, но главным образом того, что проявляется вовне, в природе, с тем, что происходит внутри, в психологическом и нравственном опыте (18).
Марсилио Фичино писал, что человек призван прославлять неизреченную красоту, царящую во Вселенной; все искусства соединяются в распорядке высшей гармонии, которой следует дать имя «музыка». По Фичино, музыка связана со всеми уровнями бытия, затрагивая и низшее сознание (musica instrumentalis), и просвещенное сознание (musica humana), и высшее сознание, постигающее Вселенную (musica mundane). Такое представление о музыке стало символом художественной деятельности, высшая цель которой – мировая гармония.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































