Текст книги "Поездка в ни-куда"
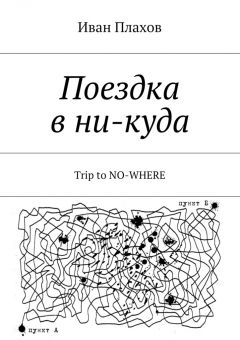
Автор книги: Иван Плахов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Наконец их желание вознаграждено: Скороходов с заговорщицким видом предлагает им выпить, в качестве закуски используя блины с копченым лососем, украденные с последнего завтрака в отеле, и, когда горячительное пойло проглочено и заедено, снисходительно интересуется у Гроссмана:
– Иван Степанович, скажите мне откровенно, зачем вам становиться писателем? Это же похабная профессия, ну совершенно не комильфо. То ли дело станкостроение – и благородно, и выгодно. Да и возраст у вас, вы уж извините, никак не позволяет менять образ жизни. Оставайтесь станкостроителем и не дурите.
– У меня уже нет никаких шансов состояться в моей профессии и стать знаменитым. Так же, как и у Кирилла. Тот же Малюта Скуратов, который у нас сейчас номер один, он же настолько преуспел в своем бизнесе, что нам вот с ним и не снилось. Все заказы его.
– Но он же вторичен, – искренне возмущается Огородов, – он просто все срисовывает в ноль с зарубежных образцов.
– Ну и что, но он же успешен. В нашей стране именно вторичность и есть главное достоинство. Зато его дыбы с инкрустациями и патинированные золотые гильотины вне конкуренции. Он заказами завален на много лет вперед. А мы с нашими бытовыми ручными манипуляторами для фригидных женщин – всего лишь жалкие дилетанты. Все-таки теория соматического зла в эксклюзивной упаковке куда более востребована, чем теория добра в эконом-варианте. А так я, глядишь, чего-нибудь напишу, да и прославлюсь. Один шанс из ста, но он все же есть.
– Только не в нашей стране, – смеется Скороходов, – вы рассуждаете, как дилетант. Сейчас писателей больше, чем читателей. Вас опубликуют, только если вы брендовый человек. Помните про ваши пятнадцать минут славы? Начинайте убивать, тогда народ к вам и потянется.
– Предлагаете начать с вас?
– Ха-ха-ха, у вас не получится.
– Почему?
– Ваша психосоматика для этого не приспособлена. Вы слишком стеснительный и нервный. Чтобы быть убийцей, тоже нужно призвание. Давайте за это выпьем и прикончим ликер. Мы покидаем-таки страну публичной трезвости и возвращаемся в мир свободного оборота алкоголя: в Дании его можно купить везде, в отличие от Швеции.
Они допивают бутылку и всю оставшуюся часть пути молча сидят, каждый занятый своим: Гроссман – мыслями о будущем, Скороходов – расчетами предстоящих трат в Копенгагене, а Огородов – банальной дремой.
За окнами совсем стемнело, и лишь редкие огни далеких селений мелькают меж деревьев и скал, мимо которых несется поезд. В полутемном вагоне бесятся лишь дети восточных мигрантов, равномерно загаживая пол следами своей бурной жизнедеятельности.
Незаметно прибывают в Копенгаген, где их встречает жена Скороходова Васса. Она услужлива и глуповата: пытаясь играть роль светской дамы, визгливо хохочет и лезет со всеми целоваться.
– Я вас поселила в самой крутой гостинице Копенгагена, – после обнимашек заявляет она безапелляционным тоном, словно это лучшее, что она только и могла для них сделать, – вы, когда ее увидите, то ахнете. Она получила все возможные архитектурные призы, которые только есть в Европе. Последний еврошик. Идемте скорей, идемте. Все за мной, не отставать.
По вокзалу, оформленному в фальшивое средневековье и превращенному в гибрид супермаркета и газетного киоска, движутся на выход в тусклом свете аляповатых фонарей, гуськом, словно выводок за наседкой, боясь отстать в чужом городе. На улице дождливо. Тоскливо. Ветрено. Часы перед вокзалом показывают девять часов вечера.
Гостиница располагается в непосредственной близости от вокзала, за унылым бетонным кварталом почтового ведомства в стиле семидесятых. Свернув за угол, по узкой улочке идут вдоль невероятно протяженного стилобата, на кровле которого видны футуристические изыски архитектурного слабоумия: у зданий нет ни одного прямого угла, обилие мятого железа и битого стекла на фасадах. В самом конце архитектурного экспансионизма торчит абсолютно черный параллелепипед – это место их проживания.
Отель называется «Wake Up», изнутри он весь выкрашен в ядовито-салатовый цвет: такое ощущение, что они попали внутрь наркотического бреда обдолбавшегося кислотой педика-яппи, решившего заняться дизайном для себе подобных. Все очень модно и нежизнеспособно. Еврошик. Гомонистическая архитектура. Как в ней жить обычным людям, непонятно. Испуг и растерянность читаются на лицах наших путешественников, за исключением четы Скороходовых: будучи общественными паразитами, они могут существовать в любой среде, где водятся деньги.
– Интересно, нас здесь на завтрак будут кормить таблетками? – робко шутит Маргарита.
– Зачем вам завтрак, – бурно протестует Васса, – здесь есть недалеко торговый центр с сетью фудкортов. Там и будете питаться. Это же так здорово, и с гостиницей не надо заморачиваться.
Неожиданно взрывается Огородов, категорически требующий, чтобы завтраки были включены в их проживание.
– Мы за это вам заплатили! – обиженно, почти с истерической интонацией бросает он последний аргумент Скороходову.
Скороходов растерянно смотрит на Вассу, плохо понимая, как ему поступить: завтраки стоят дополнительных пятьдесят крон на персону, а он уже мысленно потратил эти деньги на себя и дочь, – в то время как его жена пытается улыбаться, но ее изношенное лицо не держит улыбку, незаметно сползающую в злобный оскал.
– Я бы не стал так сильно нервничать, – наконец произносит Скороходов и отправляется к стойке регистратора оплачивать завтрак и получать электронные ключи от номеров.
Через пятнадцать минут они уже на седьмом этаже, вселяются в свои комнаты. Внутреннее устройство номеров еще ужасней, чем дизайн отеля: в центре – стеклянная сантехническая кабина, где унитаз и душ есть закономерное продолжение друг друга; кроме двуспальной кровати у окна, маленькой плазмы на стене и двух складных пластиковых стульев, внутри больше ничего. Уединиться в таком номере можно, лишь выставив своего партнера за дверь. Мечта вуайериста и эксгибициониста в одном лице.
– Порношик, – возмущенно выдавливает из себя Гроссман, с трудом впихивая сумку под кровать, – надо быть законченным идиотом, чтобы селиться в таком месте.
– А ты что, сомневался в умственных способностях Скороходова, – утешает его Света, – я ожидала худшего.
– Куда уж хуже. Такое ощущение, что мы с тобой попали на съемку порнофильма.
– В качестве главных героев? Я не против, – осторожно предлагает Света, но Гроссман лишь возмущенно отмахивается и идет к Огородовым. Дверь в их номер открыта, чета занимается тем, что пытается разместить свой багаж на свободном от кровати месте.
– Ну и как дизайн? – интересуется у них Гроссман.
– Жесть, – охает Огородов и сокрушенно качает головой, – такого ужаса я давно, да нет, никогда не видел.
– Мальчики, не возмущайтесь, – успокаивает их Маргарита, – это же только на время, пока мы тут. Лучше подумайте, где мы будем ужинать. Есть идеи?
– Давайте сбежим от Скороходовых, пока они нам не сели на хвост, и сами найдем подходящее место? – предлагает Гроссман.
– Окей, через десять минут встречаемся внизу, – соглашается Огородов, и Гроссман возвращается обратно в номер и сообщает Свете о решении сбежать в город. Но, спустившись, они застают в холле Скороходовых в полном составе; те в нетерпении ждут, когда их ужин оплатит кто-то другой.
– А мы вас ждем, – плотоядно скалится Васса, пытаясь разыграть радушие старшей наперсницы развлечений в этом городе, – а вот и вы. Сейчас дождемся профессора с женой и пойдем в ближайший торговый центр – ужинать.
Появляются Огородовы и тоже попадают в цепкие объятия Скороходовского гостеприимства. Им не вырваться… уже не вырваться. Под конвоем четы Скороходовых идут черт знает куда, в полной темноте, в сопровождении господина Тра-ла-ла и госпожи Бла-бла-бла. Когда выясняется, что их ведут не в центр города, а куда-то в темный лабиринт пустых офисных зданий, они молча разворачиваются и, не обращая внимания на возмущенные вопли Вассы, что они не имеют права так поступать, быстро уходят в противоположную сторону: обратно к вокзалу.
Город восхитительно пуст, и только желтые огни фонарей скрашивают их одиночество. Сначала они заходят в случайный бар с примечательным названием «Puk», но в нем нет ничего, кроме пива и группы пьяных местных, что-то бурно обсуждающих. Выпив торопливо пива, они продолжают свое самостоятельное движение в центр, руководствуясь скорее интуицией, чем знанием местной топографии.
Справа от себя, в конце бульвара, замечают темную громаду городской ратуши и устремляются к ней, предположив, что это и есть центр города. За ратушей начинается сеть пешеходных улиц, полных магазинов и ресторанов, большинство из которых почему-то закрыто. На улицах грязно и много восточных людей, энергично-бесплодных в поисках покупателей сомнительного качества товара. В самом конце, почти дойдя до плохо освещенной площади, перегороженной под стройку, находят продуктовый магазин, в котором покупают себе бутерброды и две бутылки бурбона, которые решают выпить в гостинице.
Возвращаются неспешно к себе мимо афиш, на которых Ди Каприо снят в роли энергичного мошенника с Уолл-Стрит. Громадное лицо породистого подонка излучает законченный оптимизм американской мечты, на его фоне бредут русские туристы с поломанной судьбой: каждый из них – законченный неудачник в собственной стране. В номере Гроссмана и Светы с неестественной веселостью начинают обсуждать побег и отсутствие Скороходова в их жизни последние два часа.
По мере того как алкоголь из бутылок оказывается в их крови, содержание дальнейшей беседы теряет всякий смысл, и сознание Гроссмана тухнет. Последнее, что он видит, это крокодил на экране работающей плазмы, хватающий пришедшую на водопой антилопу.
«Он ест ее заживо. О Господи, как такая жестокость возможна? О Господи-и-и-и…»
Все. Тьма кромешная и скрежет зубовный.
«Господи, ты здесь?»
Нет ответа. Пустота, гулкая, как пространство храма, он лежит в чем мать родила. Его обнюхивают два волка. Из их пастей несет тухлым мясом, а холодные мокрые носы тыкаются в плечи и затылок. Он боится даже дышать, не то что пошевелиться, чтобы они не начали его рвать на части. Вдруг раздается такой чудовищный по силе и пронзительности звук, от которого разум тут же раскалывается на свербящие болью части, и волки жадно пожирают их. Из чудовищно тошнотворной вони, выворачивающей наизнанку, Гроссман неожиданно превращается в гриб, растущий в мокрой хвое в лесу. По нему ползет муравей, щекоча красный бок, покрытый множеством белых глазков, а он видит все вокруг и удивляется своему стереоскопическому зрению. Он ощущает силу земли, в которой распростерты его корни, так как он часть чего-то такого огромного и древнего, что все его сейчас окружающее – лишь иллюзия того, что не имеет ни понятия, ни определения. Он осознает лишь только то, что его Я – это временное образование на периферии грибницы, на кончике ее самого мелкого отростка, мутировавшего в умственного паразита под видом Гроссмана, пытающегося безуспешно вести самостоятельный образ жизни, но неспособного помешать даже муравью отгрызть от него кусок плоти, чтобы отнести в муравейник. Он испытывает такое неизмеримое счастье простоты собственного бытия, когда нет никакой дистанции между чувствами и реакциями на них, что перед ним открывается целый космос мироощущений, в центре которого его тактильные ощущения гриба, над которым склонился большой вонючий человек, страдающий дисфункцией желудка. Прежде чем вырвать гриб из земли, гигант шероховатыми пальцами, благоухающими кисло-сладким запахом человечины, ощупывает его со всех сторон, проверяя на прочность, а затем легко прерывает родовую пуповину его связи со своим невероятным прошлым, которое гарантировало ему память собственного существования в этом мире. Секунда – и его жуют, размалывая на куски, плавающие в густой слюне неведомого рта, при этом части его плоти продолжают видеть и чувствовать изнутри, как его пожирают и усваивают. Пока его перемалывают в мелкие кусочки, которые растворяются в вонючем желудочном соке, становясь частью ментальной реальности наркомана, живьем сжирающего его, он осознает, что в этом и заключается его главное предназначение в этой жизни – быть источником галлюцинаций для другого. И вот уже внутри него бьется чей-то разум, словно голубь в силке, расставленном лукавым охотником; им, внедряющимся в свежую плоть человеческого разума. Он уже внутри чужого сознания, облаченного совершенно примитивными чувствами получения удовольствия. Но ужас в том, что теперь в его власти ручки, регулирующие интенсивность восприятия, словно он – главный по чувствам внутри психопата, желающего окончательно себя уничтожить очередной дозой наркотика. Он откручивает на максимум, и все тело наркомана сотрясается от звуков тяжелого рока, звучит «Black Sabbath», но Гроссману все равно: это лишь звуки, не имеющие никакого отношения к его существу. Дриблинг души колышется где-то внизу, но чувство эйфории захлестывает. В доме моего отца не счесть покоев. А в них нет никого. Гулкая, ужасная, страшная тишина. Ангелов нет, никого нет. Никого. Ты в доме с тысячью комнат, но в них никого нет. Никого. Только ты один, наедине с самим собой. Слезы душат, непроизвольно, буквально захлестывая, словно шторм – тяжело дышать. И ужас. И страх: страх за то, что не сумел сохранить что-то важное, ради чего ты, собственно, и родился. Что это – уже неважно. Ты – лишь часть плана. Чьего плана – уже неважно. Я лишь только гриб, который съели, я часть галлюцинации, яркие цвета на кромке чужого сознания, а цветомузыка уже такая, что только держись. Рамбла ускоряется, звук рвет сознания в клочья, которые с трудом складываются в очередной калейдоскоп, головоломку которого придумать такая мука. Здравствуй, Led Zeppelin. Я твой Rolling Stones. Боб Дилан отдыхает. Циммерману тут не место. Все, приехали. Вылезай. Этот голос, буднично сказавший: «Вылезай», подводит черту под всем, что он испытал, возвращая его в его привычный мир персонажа, сконструированного на потеху публике.
Вот он снова вываливается в комнату из войлочного кокона, где пытается написать книгу, которая его прославит. Гроссману так плохо от выпитого, что только рвота позволяет ему остаться в живых, избавившись от смертельной дозы алкоголя в желудке. Когда он наконец-то поднимается с колен, то, тяжело качаясь, идет на кухню, открывает вентиль и жадно пьет холодную воду прямо из-под крана, заглатывая ее с рук до тех пор, пока ему не становится чуть-чуть легче. Он чувствует, что он порядочно пьян, но быть пьяным во сне – это уже какая-то аномалия. Вернувшись в комнату, он долго смотрит на собственную блевотину посреди комнаты, затем устало садится за стол и обнаруживает, что выкинутые им листки рукописи возвращены на стол и аккуратно расправлены. Фраза «Я существую в коконе своего разума, который невидимой пленкой окутывает всего меня вокруг и через которую я только и могу воспринимать окружающий мир» обведена красным, и сбоку сделана приписка рукой Колосова «Неплохо». С трудом сдерживая отвращение к тому, что он делает, медленно выводит:
Глава пятая
Немецкая речь
«Какая мерзкая рожа! Маленький лоб, тяжелая челюсть, свиные глазки так и бегают под густыми бровями. Явно видны следы вырождения. И какое непропорциональное сложение: огромная голова на теле карлика. Неужели это существо держит в страхе всё село? Ему бы в цирке выступать, клоуном на арене».
Русская речь
– Йэто, nah, я йэто, blja, не понял, nah, зачем вы, йэто, к нам сюды, граждане-начальники немцы? У меня здесь уссё под контролем: в прошлом месяце сдали в призывной пункт двадцать робят и двадцать девок, как и требовалось по разнарядке. У мине здесь красных нет, радиов котрабандных нет, фернзейнаппарат только у мине и попа Гаврилы. Усё под полным контролем. Если вам нужна свежая, еще не вскрытая девка или schmal’ какая, – только скажите, я организую. Не вопрос. Семёныч сказал – Семёныч сделал. Век воли не видать, мамой клянусь, преданней меня здесь у вас, немцев, нет человека. Меня каждый знает, я их во как держу: в кулаке! Меня все боятся, даже отец Гаврила.
Немецкая речь
«Интересно, насколько он искренне говорит? Судя по людям рядом с ним за столом, мы прервали их беседу в самое неподходящее время. Вон какие красные и злые лица. А один сидит заплаканный, и ухо оттопырено, красное».
Русская речь
– Я смотрю, ты здесь, Семёныч, не один, а во главе всей твоей банды. Текущие дела в общаке обсуждаете? Мы помешали?
– Ну, что вы, граждане-начальники, разве ж можно без вашего спросу собираться? Это мы после вечери сошлись, чтобы чаю выпить, ну, типа, blja, о церковной службе потолковать. О Боге же не запрещено, nah, говорить. О вере, то бишь, ebis kolom, о вере в Иисуса Христа. Ну да, blja, в него самого. Мы же все русские, православные, nah, мы в Бога верим, в Пресвятую Троицу и, ebity в душу мать, в православную церковь. Мы вот решили помолиться дополнительно о здравии вашего фюрера, чтобы у него всё хорошо было.
– А у него и так всё хорошо.
– Дык я знаю, я что, я только чтоб еще лучше было. Это же можно? Чтоб, понимаешь, никто даже думать не смел, что я что-то против Рейха имею. Да я за фюрера любую padly задушу вот этими самыми руками. Blja буду, если не так.
– Хорошо, хорошо. Я тебе, староста, охотно верю. Ты человек авторитетный.
Немецкая речь
«Странно, зачем староста сует соседям под нос кулак? Может, он полоумный? И всё его окружение какое-то чудное. Громила с татуировкой на лбу, человек с суетливыми руками, толстячок с лицом Оле Лукойе. А вон тот – совсем как крыса; рыжий, зубы вперед торчат. Под стать старосте-дегенерату. О чем они вообще могут говорить? Они же идиоты, судя по выражениям их лиц. И говорит староста на странном языке, я половину его слов не понимаю, – а его товарищи явно понимают. Рычит, будто медведь на цепи. Интересно, как оберлейтенант разбирает этот язык? Может, местное наречие изучил, пока здесь служил? Надо будет спросить».
Русская речь
– Мы к тебе зашли вот зачем. Это роттенфюрер из фюрерюгенда Ганс Мюллер. Он прислан сюда с ознакомительной миссией – изучает ваши обычаи и порядки. Ты как представитель местной власти должен ему всё рассказать и показать: как живете, как у вас здесь всё устроено.
– Blja, это можно, граждане-начальники! У нас усё просто: кто пахан – тот пайку делит, а кто петух – тот shkonku стелит. Я, значит, пахан, у меня всё есть – деньги, еда, девки, а остальные ко мне в очередь стоят, чтоб мой член сосать и терпилами работать. Это моя bratva: слева Очко, затем Фраер, а справа Адвокат и Прокурор. Мы, значит, с братанами всё село крышуем, включая бани. Каждый pedrila должен нам дань платить, если хочет и дальше очком работать. А в остальном мы урядникам да околоточным помогаем призыв набирать и следить, чтобы никто из молодых друг друга не покалечил. Да что я, это, blja, межнуюсь, не царское это дело, nah, за себя говорить. Ты, Прокурор, szuko, речь держи. Понял, nah?
– В натуре, Семёныч, blja буду, если oblazhajus’. Но только, в натуре, граждане немцы, Семёныч уже всё сказал. Ни добавить, ни прибавить. Шито-крыто, белыми нитками дело шито. У нас все zaebiz, последний pedrila жизнью доволен. Зуб даю за базар. Спасибо фюреру и Рейху за то, что urki ныне сверху. Большое patsanskoe спасибо.
Немецкая речь
«Интересно, почему он всё время голову втягивает в плечи и поводит ими в стороны? И что это за жест – выставляет вперед указательные пальцы и мизинцы, а остальные поджимает в кулак? Неужели это что-то вроде итальянской пантомимы? Крайне любопытно».
Русская речь
– Предлагаю выпить за здоровье нашего великого фюрера и за тысячелетний Рейх. Ура, ура, ура!
– Категорически поддерживаю Прокурора. Господа немцы! Уважьте нас, русских, не побрезгуйте выпить с нами за здоровье фюрера. Фраер! Метнись к двери, вели кликнуть стаканы, шнапс и закуску дорогим гостям.
– Ну да, это, blja, правильно Адвокат толкует. Кликните халдеям, пусть нас обслужат как следует. Я не хочу, чтобы из меня, nah, абажур сделали. Вы поняли меня, patsany, или до кого-то еще не дошло, нужно кулак нюхать?
– Нет.
– Нет.
– Нет.
– Нет, и, слава богу, мечите икру, пока я вас не кастрировал.
– Семёныч, не успеешь сосчитать до трех, уже всё будет сделано. Эй, холуи! Шустрите, пока яйца не оторвали!
Немецкая речь
«Ишь ты, какой этот Фраер произвел переполох. Мальчики с испуганными лицами, как наши воспитанники из начальных классов, несут еду и бутылки, вилки, ложки… Неужели у них дети работают на взрослых? Дети должны учиться, а не накрывать на стол для воров и разбойников. Спросить оберлейтенанта? А может, так у них принято? Интересно, как они меня воспринимают: как ребенка или как должностное лицо Рейха? Неловко получается: я сижу за столом, а мне прислуживают такие же, как я, мальчики. Есть в этом что-то противоестественное. Неудобно как-то. Хотя почему я стесняюсь? Они же недочеловеки, они призваны мне служить: в этом их биологическая функция. Надо научиться дистанцироваться от русских. Хотя они и выглядят, как мы, они другие – нравственные уроды. Значит, эти мальчики ничем не отличаются от старосты и его приспешников. Ведь этот Семёныч, или Очко, или Прокурор – они же были такими же мальчиками, как те, что нам сейчас прислуживают. Но превратились в тех скотов, что сейчас сидят напротив меня за столом. А рядом со мной сидит старший егерь СС оберлейтенант Цинобер – полноценный ариец, как и я. Мы – люди, а они – недочеловеки. Это очевидно. Даже визуально, не беря в расчет наше интеллектуальное и моральное превосходство над ними. Если они животные и чувствуют, что я для них чужой, то мне нужно гнать прочь всякую жалость к ним. Окружной комиссар предупреждал меня об этом. Окажись русские на нашем месте, а мы – на их, нам бы не поздоровилось. Но я не должен их ненавидеть: ненависти достойны только равные нам. Верно: я должен презирать русских. Проклятье! Я совершенно запутался в своих чувствах. Не понимаю, как мне поступать. Если потребуется убить таких выродков, как староста и его друзья, то я это охотно сделаю. Но если я буду должен прикончить одного из мальчиков, что сейчас ставят тарелки на стол… Я не смогу. Не чувствую к ним ни презрения, ни отвращения, ведь они ничем от меня не отличаются. Нет, отличаются! Я лучше их, я для них – бог. Я бог. Выше меня только фюрер и Рейх».
– Эй, Ганс, ты что, заснул?
– Нет-нет, оберлейтенант, задумался.
– О чем? Съедобно ли угощение русских?
– Не совсем.
– Тогда что же тебя тревожит?
– Я в затруднении. Я не могу презирать русских подростков, мне их жалко. Я в них вижу себе подобных, а не животных. Вот, к примеру, со взрослыми всё понятно: это скоты, их участь – служить нам. Но из детей, наверное, можно было бы воспитать что-то путное. Ведь они ничем не отличаются от меня.
– Тебе это только кажется, потому что ты с ними еще не общался. Они ничем не отличаются от своих биологических отцов – такие же тупые и хитрые. Обещаю: ты удивишься низости этих мальчиков, узнав их поближе. Сейчас сам убедишься.
Русская речь
– Эй, староста! Вели одному из твоих служек подойти к нам. Мы поговорим с ним.
– Blja! Они что, что-то сделали не так? Так вы, господа-начальники, не беспокойтесь, я их самолично накажу, nah.
– Нет, нам надо его кое о чем спросить.
– Кого, Ваньку или Витьку?
– Все равно, хотя можно и обоих.
– Ванька, Витька, blia, nah, быстро к офицеру метнулись, и чтоб у меня ни гу-гу, иначе вам обоим pizdets устрою!
– Дяденька, мы ничего не сделали.
– Да, мы только ложки с вилками перед вами ложили и тарелки ставили.
– За что нас наказывать?
– Мы ничего не делали!
– Итак, кто из вас кто?
– Я Ванька.
– А я Витька.
– Ганс, спроси их, о чем хочешь.
– Сколько вам лет?
– Нам-то? А чо?
– Отвечайте господину Мюллеру, не то будете биты. Понятно вам, русское отродье?
– А мы че, мы ниче. Мне десять, а Витьке одиннадцать. Мы че, мы ниче.
– Вы учитесь?
– Зачем? Мы ученые! Азбуку знаем, а больше и не надо.
– Ага. От большой учености будет много strjomnosti. Как говорит поп Гаврила: «Ученый всегда pedrila, потому что хорошему научить нельзя, а можно только плохому – от злого ума болит голова».
– Так вы нигде сейчас не учитесь, никаких научных предметов не проходили?
– Всякая наука есть злобесие.
– Ага, от науки одно зло. Чем меньше знаешь, тем крепче спишь.
– Это точно, Ванька! Голова нам надобна, чтобы шапку носить да пищу вкушать. Зачем мне голову ломать? Она у меня одна, паря. Вам, фрицам, нас не понять.
– Ваше дело – править, наше – подчиняться.
– Так вам что, не нравится учиться?
– Ага, не нравится.
– А зачем? Чем быстрее выучишься, тем быстрее на завод или рудник отправят, паря, а нам это надо?
– Не-а! Лучше на печи лежать и щи хлебать. А робить завсегда успеем. И без нас есть кому робить, паря.
– А что вам нравится больше всего делать?
– В секу резаться.
– Ага, в секу можно, паря. И поп не запрещает, значит, каяться не надо.
– За что каяться?
– А за азартные игры. Это же смертный грех: ежели смертный грех, то сто Иисусовых молитв нужно произнести с земными поклонами и епитимью испросить у попа. А ежели просто грех, то можно его и не отмаливать. Это так, все равно что в церкви пернуть, естественная слабость.
– Ага, как говорится, и смех и грех.
Немецкая речь
«Какая бессмысленная жизнь у этих мальчиков! Ничего не хотят и ни к чему не стремятся. Почти как животные. Ими правят одни инстинкты».
Русская речь
– А чего вы больше всего хотите?
– Эх, кабы мне где финский нож достать, так я бы им пырнул Ваську, suku, чтоб он знал, кто здесь кто.
– А мне бы шоколаду с орехами. Вот было бы здорово. И чтоб, сколько захочу, чтоб можно было есть от пуза с утра до вечера, паря. Это было бы zaebis’.
– У меня есть с собой одна шоколадка, на, возьми.
– Ух ты, спасибо! Вот свезло так свезло!
– А ну, Ванька, отдай мне половину сейчас же!
– Пшел nah, suka! Немец мне дал, а ты ножик хотел: вот о нем и мечтай дальше, mudila!
– Я сейчас тебе в ухо заеду, тогда увидишь, кто из нас mudila! Отдавай всё, suka, ублюдок, пальцем деланный!
– Ну держись…
– Стойте, стойте! Перестаньте драться. Цинобер, остановите их!
Немецкая речь
«Бред какой-то. Сцепились из-за шоколадки, как два звереныша. Зачем они дерутся между собой, когда можно договориться? И никто их не разнимает».
– Вот видишь, парень, что ты наделал.
– А что?
– Теперь, пока один другого не поколотит, они не уймутся.
– Почему же их не разнимают?
– Здесь все живут по уголовным понятиям. Сильнейшему принадлежит всё. Кто наверху, тот и царь горы.
– Но это же неправильно.
– Почему? Для нас – как раз наоборот. Чем сильнее будет вражда между ними и чем более жестокий у русских староста, тем проще нам ими управлять. Мы давим на старосту, староста давит на них, а они послушно делают то, что нам нужно, предавая друг друга. Править можно только страхом. Моральные стимулы здесь бесполезны. Это еще коммунисты поняли.
– Коммунисты?
– Ну да. Сталин и его комиссары создали систему лагерей, куда загнали полстраны, заставив заключенных издеваться друг над другом. Когда режим Сталина был разгромлен, мы депортировали согласно плану «Ост» остатки свободного населения сюда, на север, где уже сидела половина русских. В итоге все оказались в лагерях. Внутри лагерей среди заключенных царил тюремный закон, который поощряли еще коммунисты. Вновь прибывшим пришлось подчиниться принятым тюремным порядкам. Единственное, что мы добавили, – разрешили церкви их контролировать. В каждом лагере поставлены попы – наши негласные надзиратели и информаторы. В результате получилась идеальная система. Русские никогда не восстанут: они заняты истреблением друг друга.
– Какая же бессмысленная у них жизнь! Жизнь без цели: просто тупое существование. Как же, наверное, скучно вот так жить, только во имя своей плоти?
– Идеалист! Эх, Ганс, в сущности, и наша жизнь не сильно отличается от русской, с той только разницей, что они скоты, а мы люди. Им проще. На недочеловеках не лежит никакой ответственности, а на нас – забота обо всем мире.
– Даже о таком ужасном, как этот?
– Этот мир создан русскими. Они его сами построили, задолго до нас, без нашей помощи. Мы лишь сохраняем статус кво.
– Мир без любви, без надежды. Среди снегов, во мраке зимней ночи, на краю земли…
– Ага, звучит очень поэтично, почти Данте. Чем-то напоминает ссылку Прометея на Кавказ, с той лишь разницей, что он создал европейскую цивилизацию, а эти попытались ее разрушить.
– Вы верите в миф о Прометее?
– Как ни странно, да. Я убежден, что человек стал человеком только благодаря тому, что изобрел технику, освободившую его от оков природы. А мы, немцы, развили нашу технику до такого высокого уровня, что превзошли все остальные народы. Мы создали идеальную машину убийства, завораживающую совершенством. Теперь всё, даже то, что нам мешает, не пропадает даром и служит нашим целям.
– Например?
– Ну, взять хотя бы тех же русских. Они нужны нам для работы на рудниках и заводах Сибири. Но никто не вечен. После того как рабы дряхлеют, мы их не просто убиваем, а перерабатываем в мясные консервы, которые им же и скармливаем. Самое смешное, что недочеловеки об этом отлично знают. Читать они умеют, а на банках написано: «Произведено из 100% человеческого мяса». Но ведь едят же. А знаешь, почему?
– Почему?
– Они всеядны.
Перестав писать, Гроссман задумывается, а есть ли смысл продолжать сочинять книгу, ни сюжет, ни характеры героев которой ему не ясны.
«Ну, черт побери, можно разве начинать восхождение на гору с Голгофы? Меня же распнут, если это кто-либо попробует опубликовать».
Перебирает свои исписанные листки. Их немного, всего-то штук десять. Даже на повесть не наберется, не то что на роман.
«Да, хреновый из тебя писатель, – морщится Гроссман, прикидывая, что бы ему сделать с написанным, – даже во сне и то не можешь творить. Все самокопаешься в собственном дерьме, вместо того чтобы просто писать что-нибудь простенькое и эффектное. Порнодетектив, например, или любовную историю о двух гомиках с каким-нибудь слезливым сюжетом: может быть, один из них смертельно болен или они хотят усыновить мальчика-аутиста, а им не дают. Американцам бы понравилось. Господи, почему я не гомик? Ну как можно писать о том, что никогда не встречал. А правда, встречал ли я гомиков в своей жизни? Почему я решил, что Сатана имел лицо породистого пидараса? И вообще, что я помню из своей жизни? Лицо матери? Не помню. Лицо отца? Не помню. Я помню, что учился в Воронеже, но не помню ни город, ни студентов. Помню название своей дипломной работы, но не помню, с кем тогда встречался и кого любил. Что-то со мной неправильно, такое ощущение, что вся моя биография какая-то выдуманная».









































