Текст книги "Поездка в ни-куда"
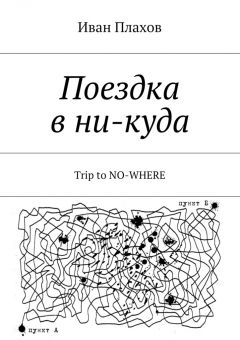
Автор книги: Иван Плахов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Гроссман перелистывает страницу чужого дневника и читает:
«Сентябрь 1992 года был для нас очень тяжелым. Мы не ожидали тогда, что может существовать такая несправедливость и что с людьми могут так обходиться. Это было настолько сильное потрясение, что на нервной почве мы – я и Оксана – простудились и заболели. Через две недели, кое-как оправившись, мы продолжили работу в НРР, докалькулировали „many from capitalistic company“ до 15 тысяч DM на человека и сказали good-bye to mr. Faust. Кстати, смешная деталь. До того как мы нашли работу в НРР, мы спрашивали место в KSP, другой довольно крупной компании во Франкфурте, директором которой являлся м-р Angele. После разговора с этим, с позволения сказать, ангелом ада на следующий день мы имели интервью с мистером Фаустом. Прям так и напрашиваются аналогии с И. В. Гете. Смешно, но вместе с тем не менее интересно. Бог смеется над нами. Мистер Фауст – директор филиала НРР во Франкфурте, и мы работали под его началом целых три месяца, – кстати, такой же мягкотелый, как и гетевский Фауст: благодаря его нерешительности мы проиграли вчистую наш конкурс на Чекпойнт Чарли. Смешная деталь. Приятель Фауста, один из инженеров, работал вместе с Ф. Джонсоном в его бюро в Берлине над проектом для того же места – к сведению: Ф. Джонсон получил один из участков под застройку в Берлине без всякого конкурса, как раз напротив нашего участка, и был председателем конкурсного жюри, – и работал для нашего шефа как шпион, переедая ему конфиденциальную информацию. За две недели до конца проекта он выслал факсом фасад Ф. Джонсона к его заданию. Наш шеф, предвкушая радость награды от начальства, что это поможет разработать наши фасады более удобоваримыми для престарелого эклектика и гармонично сочетающимися с его собственным дизайном, переслал фасад Ф. Джонсона без всяких комментариев главному шефу НРР в Дюссельдорф (его имя было Томма, ударение – на последнее „а“). На следующий день он получил фасад обратно с корректурой шефа НРР, где стояло: „Почему несимметричный вход? Почему сочетание „стекло – камень?“ Зачем постмодернистские формы дизайна?“ и т. д., и т. п. Весь офис смеялся, что Томма раскритиковал престарелого классика и что этот факс с его комментариями и поправками следует выставить наряду с проектом НРР в том же самом ряду, как нечто самостоятельное. Ф. Джонсону понравилось бы несказанно. Если же исключить этот забавный эпизод работы над проектом, остальное было скучно и бездарно. Brutal commercial art and nothing more…»
Чужие неудачи, о которых говорится в дневнике, радуют Гроссмана несказанно.
«Так вот ты кто, демиург, теперь я все о тебе знаю», – думает он, пролистывая, не читая, дальше страницы, пока не натыкается на последнюю запись, от 20 марта 1995 года.
«FFM. Боже, как я устал. Чертовски. За все время, что отделяет эту запись от предыдущей, в моей жизни не произошло ничего, что бы хоть как-то существенно изменило все положение и продвинуло меня вперед в моих поисках неизвестного. Тому, кто хочет познать непознаваемое и измерить неизмеримое, порой чертовски трудно найти точку опоры, чтобы перевернуть этот мир. Боже, иногда я спрашиваю себя: „Почему я обречен быть совершенным, призванным подниматься все выше и выше, оставляя позади себя все больше и больше людей? Почему я должен быть Богом, если я этим по-человечески гнетусь?“ – эти вопросы все больше и больше отдаляют меня от людей, а вещи, которые я делаю, не находят никакого понимания окружающих. Такое ощущение, что под конец меня вообще перестанут замечать, и я растворюсь в действительности, как сахар в горячей воде. Какое бы ни было хорошее вино, а после чрезмерно выпитого и пережитого остается горечь осадка на языке, которую пророки когда-то отливать в чеканные слова библейского Бога. Порой меня охватывает отчаяние, когда я, стоя перед немыслимой громадой непознаваемого, должен научиться понимать, что это такое, и дать ему точное определение, выразив простыми словами границы того, что я описываю. Но разве можно описать Бога, дав ему точные параметры и границы того места, которое он занимает, т. е. превратив его в вещь? На это я отвечаю только одно – можно все, только нужно быть последовательным до конца». Дальше в тетради шли простые страницы, еще не заполненные или, может быть, уже не заполненные.
– Бог посмеется над тобой, немудрое мудрым сделав, – тихо говорит Гроссман и кладет тетрадь обратно, на то же место, где она лежала.
«Ну что ж, теперь роль Бога предстоит сыграть мне, – самодовольно думает он, смутно представляя себе безграничные перспективы для будущего творчества, – уж я-то не устану сочинять себе подобных, заставляя их жить так, как я им велю. Я населю этот мир психопатами и извращенцами, описывая устройство их психологопатии с точностью натуралиста. Миру, уставшему от красоты, я противопоставлю мир хаоса и уродства».
Он садится за стол, берет несколько листков из стопки бумаги, кладет их перед собой и первой попавшейся под руку ручкой начинает писать.
Глава первая
Немецкая речь
«Когда я гляжу сверху на красоты нашей родины, на безграничность ее просторов, меня охватывает гордость за то, что эти земли вечно будут принадлежать нам, немцам, благодаря гению фюрера».
– Далеко летите? – В Герингбург
– Ого, далековато! Это же за Уралом, на севере Сибири.
– Да, я еду туда для знакомства со славянами. В первый раз.
– Если вы еще ни разу не были в Сибирском комиссариате, то это на вас, мой милый друг, произведет сильное впечатление. Как вас зовут?
– Ганс. Ганс Мюллер. Роттенфюрер из фюрерюгенда, Данцигский 12-й приют Трудовой армии.
– Очень рад. Позвольте и мне представиться: Вальтер Циммерман, предприниматель. Помогаю строить дороги в Сибири.
– Разве дороги не в зоне компетенции Восточного министерства?
– А вы, я смотрю, юноша осведомленный. Да, конечно, прокладывают дороги и инфраструктуру подразделения рейхсминистерства. А мы им поставляем строительные материалы и технику по госконтрактам.
– Простите меня, господин Циммерман, но зачем вам нужно быть частным предпринимателем? Разве не лучше работать в одном из министерств Рейха и приносить там пользу нашей державе?
– Ах, милый Ганс, мой друг. Я, в отличие от вас, из поколения немцев, выросших при старом режиме. У меня были когда-то папа и мама, сестра и брат. Поэтому я предпочитаю ездить на персональном «Майбахе» и жить в собственном доме с прислугой из трех человек. Казенные «Фольксвагены» и гостиницы не для меня. Я таким вырос, еще до того, как возникло ваше поколение новых немцев из пробирок рейхсфюрера СС. Не спорю, идея разводить немцев как племенной скот вполне себя оправдала, но я предпочитаю старый добрый способ зачатия детей в постели.
– Но это же отныне строжайше запрещено?
– Потому я и живу один. Для немца закон есть закон. Максимум, что я себе могу позволить, – это посещать бордели в Герингбурге, когда бываю там по делам моей фирмы. Кстати, вы сами-то не планируете экскурсию в один из них? Могу дать пару адресов. Там узнаете, на что способно ваше тело помимо того, чтобы служить фюреру и Рейху.
– Какие ужасные вещи вы говорите, господин Циммерман! Я же член юношеской партии национал-социалистов, мы давали клятву на верность фюреру и Рейху.
– Сколько вам лет, милый Ганс?
– Уже семнадцать. Через два месяца буду сдавать экзамен на расовую зрелость.
– Ну а мне уже шестьдесят два года. Я родился в Дармштадте в 1932 году, за год до прихода фюрера к власти. В семь лет, когда я пошел в первый класс гимназии, началась Великая война. Для меня, маленького мальчика, ничего не предвещало грандиозных перемен, которые случились в следующие десять лет. Триумфальная победа Германии и союзников над Англией и Америкой, захват Британских островов и ядерная бомбардировка Вашингтона и Нью-Йорка, заключение Токийского мирного договора 1944 года и раздел мира с установлением вечных границ Рейха… В 1949 году в 17 лет я должен был окончить гимназию. Тогда наш фюрер провозгласил новую национальную политику. Институт семьи на территории Рейха был отменен, и я лишился права называть отца и мать родителями. Все немцы стали соратниками и друзьями, а иметь детей разрешалось лишь самым достойным – разумеется, членам партии. А я, знаете, в партии никогда не состоял. Моя мать, на четверть француженка, происходила из Эльзаса, и стать отцом я по закону не мог. Меня, такого же юного, как и вы, тогда это мало волновало. Больше всего было обидно, что отныне я стал сиротой при живых родителях, брате и сестре. Понимаете, я ничего не имею против национал-социализма. Я, как и фюрер, считаю, что только Германия, свободная от неарийцев и большевиков, была способна спасти цивилизованный мир от краха перед идеями коммунизма. Мы спасли Европу и мир, победили всех врагов… Но зачем было нужно лишать меня родителей? Почему наши чувства стали вне закона?
– Вы что же, господин Циммерман, подвергаете сомнению решения фюрера и партии?
– Упаси боже, мой юный друг! Я первым готов кричать: «Да здравствует фюрер», но зачем у меня отняли отца и мать сразу после школы? И не только у меня, юный Ганс, заметьте! Восемьдесят миллионов немцев, молодых и старых, начинающих и заканчивающих жизнь, одним росчерком пера нашего любимого фюрера лишились семей во имя интересов Рейха и партии.
– Я намного моложе вас. И странно мне объяснять вам, почти старику, что национал-социализм – это не что иное, как прикладная биология. Сверхлюдей объединяет не любовь или ненависть, а долг и раса.
– Неужели вы, столь молодой человек, ничего и никого не любите?
– Я вас плохо понимаю, господин Циммерман. Что это значит?
– Вы должны любить, Ганс! Ведь любовь – это лучшее, что случается с человеком.
– Я не знаю такого чувства. В приюте нас учат повиноваться, а не любить. Любовь – удел славян или поляков. А это слово устарело, оно выходит из употребления. Вместо него мы говорим «нравится».
– Хорошо, я объясню. Это чувство доставляет нам максимальное удовольствие. Ради него человек готов отказаться от всего остального. Слово «нравится» здесь совершенно не подходит.
– Тогда считайте, господин Циммерман, что я люблю только Рейх и фюрера. Это единственное, ради чего я готов отказаться от всего.
– Как жаль, как жаль… Похоже, ваше поколение, сконструированное в недрах министерств здравоохранения и госбезопасности, не способно понять таких, как я, ретроградов. Единственное, что остается мне в этой жизни, – заниматься моим садом в пригороде Майнца и услаждать плоть в борделях Герингбурга во время деловых визитов в Сибирь.
– Но ведь это государственное преступление!
– Только не в борделях Рейха, мой милый юный Ганс. Вы, в сущности, еще ребенок и мало знаете о биологической природе мужчин. Вам неведомо, что после взросления им нужно удовлетворять потребность в размножении. Как? Периодически совокупляясь с женщинами. Запрет чреват большими неприятностями для режима. Но жениться на территории Рейха запрещено, а гомосексуализм – еще большее преступление, чем просто беспричинная любовь между мужчиной и женщиной. Так что остается одно: посещать бордели. У любого немца старше двадцати одного года есть право пятнадцать раз в месяц бесплатно наведываться в публичные дома. Вы не знали? Неудивительно. Это не входит в программу подготовки вас к будущему служению Рейху. В приютах о таком не говорят. Но когда у вас появится возможность воспользоваться этим правом, вы поймете, что это лучшее, что у вас есть.
– По-моему, вы абсолютно неправы, господин Циммерман. Когда мне будет двадцать лет я впервые встречусь с одной из воспитанниц, прошедших подготовку в Союзе немецких девушек. Наш оберфюрер Йохан Вайс говорит, что нет ничего прекрасней для настоящего арийца, чем совместные занятия спортом и трудом с достойной его девушкой. Так мужчина может наглядно показать, на что он способен, проявляя благородство перед избранницей.
– Что за ерунда? Какой чепухой вам забивают голову в ваших приютах! Вы что же, мой юный друг, действительно верите, что идеальная немецкая женщина – это обязательно воспитанница «Веры и Красоты»? Что союзы готовят из них идеальных немецких женщин для идеальных немецких мужчин? Да черта с два! Их основная задача – хоть чем-то занять несчастных баб, которым отказали в праве на материнство, заменив его родильными фабриками СС. Все эти массовые занятия спортом, бесконечные фестивали и шествия – зачем? Чтобы отвлечь их от прямой биологической обязанности – рожать и воспитывать детей. В обществе идеальных мужчин женщинам теперь не место. Все заняты тем, что делают карьеру, выслуживаясь перед партийным начальством. Немцы даже пиво перестали пить, черт побери, представляете? А, вы же не представляете! Фюрер создал мир сверхлюдей, где нет места человеческим слабостям – обжорству, разврату, пьянству, лени… Он сделал то, что не смогла сделать католическая церковь за две тысячи лет, – отменил все человеческие грехи. Но все не могут соответствовать столь высоким требованиям, которые предъявляет Рейх к человеку. Что делать остальным?
– Я не знаю, господин Циммерман. Я еще только ученик. Но вы можете переселиться в анклав простых немцев или в ту же Швейцарию, где не действуют законы Рейха. Места для слабаков. Их мы, граждане Рейха, имперские немцы, презираем. Вы что, такой же отщепенец?
– Нет, нет, что вы, нет! Черт побери, абсолютно нет. Рейх для меня – это всё! Я осознаю, что быть богом – это тяжело, но я хочу, я желаю быть богом для других. Мы, немцы, призваны править миром! Это право дал нам фюрер. И раз меня ради этого права лишили чего-то, я взамен хочу получить всё, что мне полагается.
«Надо же! Как старикан перепугался, что его депортируют к несогласным. Как странно, глядя на него, осознавать, насколько ничтожна жизнь человека без служения обществу. Насколько ничтожны интересы отдельной личности по сравнению с устремлениями реализовать идеи фюрера, пусть даже ценой жизни. Как странно сознавать, что до сих пор целое поколение немцев живет мелкими интересами удовлетворения личных потребностей. Как же все-таки велик гений фюрера! Он сумел изменить ход истории человечества, освободив его от иллюзий достижения личной свободы в ущерб интересам коллектива. Зачем нужна семья? Все немцы – братья по крови, объединенные волей партии и вождя править миром, переделывая его и улучшая».
– Почему вы молчите, Ганс? Неужели вы не верите в то, что Рейх для меня – это всё, а фюрер – мой Бог?..
– Господин Циммерман, кто я такой, чтобы ставить под сомнение вашу веру? Я ведь всего лишь ученик. Я впервые самостоятельно путешествую в Сибирь, где должен встретиться со славянами и доказать свое превосходство над ними. Поймите меня правильно и позвольте впредь не отвечать на ваши вопросы.
– Вы на редкость, не по годам развитой молодой человек. Вас ждет великое будущее, Ганс. Желаю удачи в вашей миссии. И простите за излишнюю словесную несдержанность. Знаете, за стариками водится: любим поговорить…
«Как странно наблюдать с высоты причуды земного рельефа, расстилающиеся под нами. Как все-таки обширна и не освоена та земля, что передана нам навечно в управление первым фюрером. Какой контраст между ухоженными полями Европы и дремучими лесами Азии. Даже Гиперборейские горы – бывший Уральский хребет – совсем не похожи на Альпы. Альпы исхожены вдоль и поперек, пронизаны железными и шоссейными дорогами. А здесь… Как много нам еще предстоит сделать на этой земле, как много!
Высота пять тысяч метров. Мы летим над Московским морем. На месте снесенной варварской столицы – мемориал фюрера. Как здорово наблюдать отсюда грандиозный монумент, воздвигнутый в честь нашей победы в Великой войне. Циклопическая фигура арийского воина попирает мечом пятиконечную коммунистическую звезду. Он столь велик, что даже отсюда, из-за облаков, во всех подробностях можно разглядеть черты его сурового лица и складки одежды. Ничего величественней я в жизни не видел. Легко представить, какое неизгладимое впечатление он производит на любого путника, взирающего на него снизу.
Вальтер спит. Заснул после пятого стакана «Асбаха», жадно выпитого во время обеда. Мерзкий старикан. Громко храпит, раззявив слюнявый рот, и шмыгает. Он чем-то напоминает мне нашего сторожа Уве Фромаде – туповатого швабского крестьянина. Такой же жадный и трусливый. Как все-таки правильно поступила наша партия, лишив его права на размножение. Уж больно подозрителен его образ мыслей. Христианам в нашем мире нет места. Прилечу в Герингбург и обязательно напишу рапорт встречающему оперуполномоченному. Изобличу идеи мерзкого клеветника о расовой политике Рейха. Это мой долг – выводить на чистую воду инакомыслящих, изолируя их от общества добропорядочных граждан. Кстати, в рапорте надо будет особо указать на то, что старикан посещает бордели со славянскими проститутками в Сибирском комиссариате. Нарушать закон о кровосмешении никому не позволено. Неважно, где находится публичный дом. Это, в конце концов, оскорбление всех немцев, а не просто физическая слабость отдельного человека. Национальность накладывает на нас особые требования вне зависимости от возраста и воспитания. Интересно, слушает ли этот старикан вражеские голоса? Собирает ли пластинки с рок-н-роллом? Говорят, в Сибирском комиссариате купить их так же легко, как апфельвайн во Франкфурте-на-Майне. Ребята просили привезти последние диски Элвиса Пресли, Луи Армстронга, «Yes» и «Чикаго». Даже денег дали – целых триста рейхсмарок. Как все-таки странно: здоровое, выверенное искусство Берлинского мюзик-холла в молодежной среде непопулярно, его разве что слабоумный не высмеивает. А извращенная музыка американских дегенератов пользуется бешеным успехом. Абсурд. Интересно, будет ли у меня свободное время, хотя бы часа три, чтобы сходить в кино: посмотреть запрещенного Чарли Чаплина и Мэрилин Монро? В Герингбурге американские фильмы вполне легально крутят везде, где есть доступ славянам. Умники из министерства Рейхбезопасности убеждены, что разлагающее влияние дегенеративного американского кинематографа подрывает нравственные устои славян. По мне, очень странная позиция – глупо беспокоиться об их растлении, ведь они от рождения лишены морали.
Интересно, а какие они, эти славяне? Тот же Дитер говорил, что на самом деле не мы, а они – истинные арийцы. И что если бы не наша победа в Великой войне, то неизвестно, кого бы из нас объявили расово чуждыми. Прямо скажем – государственно опасная точка зрения. За такие взгляды можно угодить в трудовой лагерь на перевоспитание. Еще Дитер утверждал, что история, которую мы учим, не имеет ничего общего с той, которая была в мире до победы Германии в Великой войне. Его для изучения истории Прусского государства командировали в Германский университет. И там в закрытом фонде Дитер читал книги. Факты, изложенные в них, по его словам, не имеют ничего общего с теми, что мы учим и сдаем на экзаменах…
В конце концов, какая разница, кто правил миром до нас? Важно только одно: теперь отныне и навек мир принадлежит нам, немцам, во главе которых стоит партия и фюрер. А мог бы я быть фюрером? А почему нет! Нет, правда, если представить себе: я оказался во главе Рейха. Что бы я сразу сделал? Отменил экзамен на расовую зрелость? Пожалуй, дельная мысль. Кому нужно знать пять законов и двенадцать доказательств расового превосходства немцев? Всё равно всех расово чуждых депортировали с территории Рейха еще пятьдесят лет назад. А вот что бы я разрешил – это мультфильмы Уолта Диснея и американские вестерны. Нет, правда, кому мешает смотреть, как Грегори Пек или Чарли Бронкс борется с Фрэнсисом Фондой или Фрэнком Синатрой? Разве это расовое преступление, как сейчас считают? Я же не изменяю идеям Рейха. Я просто смотрю, как ковбои защищают мирное население – престарелых одиноких фермеров и их красавиц-дочек – от озверевших банд мародеров и бандитов, верящих только в свою силу и искусство стрельбы из кольтов. Ведь это же только кино, это всё не по-настоящему, понарошку: выдуманная жизнь. Ее разглядывание никому ничего плохого не сделало. А еще лучше разрешить немцам посещать страны, въезд в которые сейчас запрещен. Чего бояться? Пускай все наши граждане лично убедятся, что мы живем лучше всех и у нас самые правильные законы. Разрешил бы читать любые книги, а не только те, что одобрила Палата искусств при Рейхскомиссариате по культуре и спорту. Кстати, и в баскетбол и хоккей надо разрешить играть, а не штрафовать мальчиков из приютов. Спорт еще никому не мешал стать отличным воином, а то, что баскетбол изобрели янки, – ну и пусть. Когда я бросаю мяч в кольцо или гоняю шайбу по льду, я же не совершаю идеологическую диверсию, не пропагандирую нездоровый образ жизни? (Так школьный комиссар Майер говорил. Редкостный дурак. Кто его только на такой ответственный пост назначил?) Я просто хочу победить. Вот и всё! За что же меня штрафовать и наказывать? Вот докажу, что достоин стать штурмовиком и носить коричневую форму, вернусь и напишу письмо лично фюреру. Предложу сделать баскетбол и хоккей обязательными предметами обучения. Ведь с чего-то же надо начать изменять нашу жизнь – хотя бы со столь малого, как спорт. А литература как же? Пусть Гёте и Шиллер останутся; в конце концов, «Фауст» ничем не хуже «Гамлета», которого мы обязаны учить. Но зачем нам Рильке или Новалис? Лучше читать «Песнь о Нибелунгах» и восхищаться Хагеном или Атли Гуннаром,…
Гроссман перестает писать и задумывается, правильно ли он делает, что заставляет персонажа повторять его собственную жизненную мотивацию.
Его жизнь – это вечное одиночество и обида: обида на весь мир за то, что мир не видит, как Гроссман хорош, и им не восхищается. Он хочет всемирной славы и поклонения и одновременно этого боится, так как тогда его жизнь изменится, он лишится частной жизни. А это его тяготит.
Ему, в сущности, никто не нужен, кроме него самого. Он сам – и Бог, и мир в одном лице, но Бог, которому мир противен, и мир, в котором этого Бога нет.
Вдруг раздается чудовищный грохот, и Гроссман проваливается в черную и вязкую пустоту.









































