Текст книги "Поездка в ни-куда"
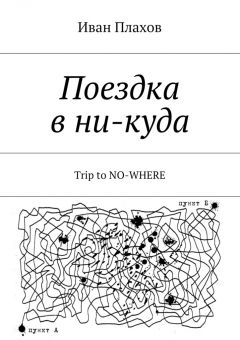
Автор книги: Иван Плахов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Состояние, в котором Бог находится, это состояние покоя активности недвижимости движения, неизменности изменения, неубывания убывания, непричастности сопричастности и непричинности любой причинности. Это все значит, что, творя из самого себя, посредством своей природы окружающий его мир, он, являясь его причиной и основанием, пребывает в этом мире, который может существовать только через него и вокруг него.
Являясь источником и причиной мира, он находится в его центре и, как все к нему устремляется, так все от него отпадает, двигаясь вокруг него, недвижимого, изменяясь вокруг него, неизменного. Куда бы он сам, Бог, ни пожелал, он бы смог передвинуться, но вместе с ним неизбежно и соразмерно ему (его месту) передвинулся бы и мир, в котором он пребывает, а это значит, что Бог всегда остается в центре и состоянии полного покоя по отношению к миру.
Как нематериальное тело он является источником идей о телах, которые имеют свои образы в мире телесном в виде вещей. Будучи телесным в мире идей, в мире вещей Бог всего лишь идея, в то же время как вещи, из которых состоит наш видимый мир, всего лишь идеи в мире Бога. Бог не может быть идеей в мире идей, так как всякой идее соответствует какая-нибудь вещь в материальном мире. Это значит, что в противном случае Бог был бы в нашем мире в образе какого-либо тела, вещи, через которое он, будучи первым и причиной всего, полагал бы законы и границы этого мира и которое было бы видимо и ограничено в своей природе, так как пребывало уже в чем-либо. Но Бог не может где-либо начинаться и где-либо заканчиваться, иначе это был бы уже не Бог, также у него не может быть начала и конца во времени. Бог же невидим и безграничен, безначален и вечен.
Итак, всякой идеи как творению Божьему соответствует только одна вещь, носящая телесный характер в нашем мире. Бог же, будучи телом в мире идей, но не материальным телом, есть сам Творец и начало всякой идеи и в мире вещей первая и единственная идея и никакое ни тело или нечто вещественное, что можно осязать или созерцать буквально».
Гроссман плохо понимает смысл прочитанного.
«Галиматья какая-то. Тело – не тело, какая разница, тоже мне философ хренов. Чушь собачья. Это же как нужно не уважать самого себя, чтобы тратить свое время на такую ерунду».
Захлопывает записную книжку и небрежно бросает ее на стол перед собой.
– Мне бы чего-нибудь стоящее написать, на века. Я бы за это душу продал, лишь бы имя свое обессмертить, – говорит Гроссман и вдруг замечает, что он не в комнате демиурга, а в каком-то другом месте с облезлыми стенами, весь пол завален мусором, а в нем копошатся тараканы. Гроссман испуганно вскакивает со стула и пытается их давить, но они только лопаются с легким треском и рассыпаются на новых тараканов, которые разбегаются в разные стороны, пытаясь спрятаться под кучами старого хлама на полу. Неожиданно вокруг начинают гореть стены. Огонь пылает беззвучно. Гроссману страшно, что будет жарко, что будет больно от огня, но вместо жара его охватывает ледяной холод: он находится в сплошном пламени, но у него мерзнут ступни, словно он стоит босым на льду, этот огонь не греет и не обжигает. Это всего лишь прелесть, обман. На самом деле он находится в кромешной тьме, в мировом полюсе холода. Он весь замерзает, превращается в ледяной столб и с хрустальным звоном рассыпается на миллионы острых, как бритва, треугольных частиц. От страха он просыпается. Жив. Померещилось.
День пятый
В голове сами собой складываются слова нелепого стихотворения, выныривая в сознание, словно скользкие рыбы, из темной воды омута бессознательного.
«Ночь наступила везде,
И в душе
Моей одиноко.
С Тьмою вокруг
Борется только лишь
Свет
Редких звезд и луны,
Посылая надежду
Живущим
В ночи,
Где тьма
Не до конца победила,
Свет
Лишь на время прикрыв
От жаждущей Солнца
Земли».
Тяжело ворочается и открывает глаза. В номере темно. Включает ночник и смотрит на часы. Восемь утра. Будит Свету словами «Пора вставать» и, включив телевизор, идет совершать утренние гигиенические процедуры. Двери между ванной-туалетом практически нет, и звуки, издаваемые там, беспрепятственно проникают в комнату, лишая стыда самые низменные физиологические процессы.
«Это какой же сволочью нужно быть, чтобы заставить подслушивать, что я делаю, сидя сейчас на толчке, – с раздражением думает Гроссман, громко вздыхая нижней частью тела, – надежда только на телевизор. Никаких секретов от двоих. Как же стыдно перед Светой».
Спустив воду в унитазе, умывается, бреется, принимает душ, вытирается насухо полотенцем. Пара секунд, и он снова в комнате. Торопливо одевается, в то время как Света идет в ванную повторить ту же процедуру, что он уже совершил. Делает звук погромче и садится за стол, выдвигает его нижний ящик. Там книга, в ярко-желтой обложке. New Testament.
«Что это? Евангелие от Сатаны?» – удивляется Гроссман и, взяв его в руки, открывает. Первые страницы на всех европейских, русском, арабском, семитском, азиатских языках, хинди цитируют одно и то же: «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Единородного, чтобы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную».
«Насколько по-разному мы понимаем эту книгу. У них все о мире, а у нас о душе. У нас бы написали: „Терпением вашим спасайте ваши души“ или, что еще хлеще, „Господу твоему поклоняйся и Ему одному служи“. О мире бы никто и никогда не сказал. С миром мы всегда в состоянии войны, „не мир пришел Я принести, но меч“. О мире в этом мире, получается, заботится только „враг“ рода человеческого, потому что ему есть что терять – этот мир».
Кладет книгу обратно в стол и закрывает ящик. Достает из сумки тетрадь, в которой начало романа, написанное еще год назад в Венеции, но так и не продолженное. Перечитывает:
«В некотором роде он считал себя поэтом Смерти, призванным увековечить ее триумфальное шествие по планете в своей архитектуре. Ему в Венецию нравилось приезжать только лишь потому, что в этом городе везде пахло тлением – запахом времени, сквозь который проступала сырость старых стен, людей, еды, неоднократных наводнений, тысячи идей и мириады прожитых секунд здесь и сейчас теми, кто уже навсегда покинул этот мир. Легкий флер минувшего лежал на каждом уголке этого города, скрывая от ныне живущих тайны предыдущих его обитателей. С одной из них сейчас столкнулся и он сам, обнаружив предмет, способный преображать его в существо противоположного пола…»
Возвращается из ванной Света, тряся мокрыми волосами и целлюлитом широких ягодиц, начинает одеваться. Он боится, что она спросит его, о чем он пишет. Но она старательно делает вид, что ничего не замечает. И он, и она всего лишь притворяются, что они здесь и сейчас: на самом деле каждый из них живет в своем мире на разных полушариях Земли и занят только собой. Он благодарен ей, что она никогда его ни о чем не спрашивает, и ему не приходится лгать, как это он делает постоянно с другими людьми. Ему даже не надо делать вид, что он ее любит, так как и это ей не требуется. Достаточно того, что они вместе.
Время завтракать, Света одета и накрашена. Они спускаются вниз, в ресторан, и застают там мирно беседующих Огородовых. Маргарита радостно приветствует их и указывает на свободный столик рядом. Подсаживаются. Говорят. Сплетничают. Услужливый пакистанец послушно наливает кофе, с низким поклоном исчезает. По очереди ходят за едой. Едят, снова сплетничают. Обсуждают предстоящий отъезд и Скороходова. Вкусно, весело, интеллектуально, тонко и бессмысленно одновременно, так как обсуждаются вопросы нумерологии в станкостроении: Маргарита в прошлом году защитила кандидатскую диссертацию по этому вопросу, а Гроссман полжизни посвятил каббале и масонской эзотерике.
Беседа носит ярко выраженный иронический и провокационный характер, ведь оба считают себя знатоками данного вопроса. Света и Кирилл – всего лишь наблюдатели их пикировки.
– Вчерашнее посещение музея Вазы наглядно продемонстрировало нам, что древние прекрасно знали символику чисел и правильно их применяли.
– Ага, поэтому-то она и перевернулась, как только вышла на рейд: уж очень сильно была символикой перегружена.
– Ваня, я не разделяю твою иронию. Ну как ты не можешь понять, что нумерология – это основа любой техники. Числа правят миром. Ведь греческое «техне» помимо мастерства означает еще и искусство, а искусство – это гармоничное сочетание начал мира, коих четыре: огонь, вода, земля и воздух. Как говорил Хайдеггер…
– Перестань, Рита, умоляю. Перестань. Ведь это же профанация – сведение всей полноты смыслов к четырем началам. Квадратура круга не проясняет природу мира, а, наоборот, затемняет. Апологетика чистого разума стоит на страже любых суетных попыток объяснить все лишь только простыми числами и их внутренней символикой. Вот, например, ты утверждаешь, что если магические колеса небесных колесниц мерить пядями, то получаются числа, означающие одно: например, богородичное значение в виде восьми, а если те же колеса мерить уже византийскими футами, то другое: например, адамическое девять.
– Но девять и есть богородичное число. Взять, к примеру, Покровский собор: у него девять глав. А он посвящен Богородице.
– Рита, но ведь девять – нечетное число. А все нечетные числа мужские по своей природе. Это же Пифагор. Азы нумерологии. Я не понимаю, как в твоем сознании уживаются такие взаимопротивоположные понятия, как православие и эзотерика: у них же разные цели.
Маргарита хитро смотрит на Гроссмана и ничего не отвечает, лишь помешивая ложечкой свой чай, наконец произносит:
– Но ты же в курсе, что зло есть недостаток добра, то есть тварная природа Сатаны та же, что и у ангелических сил. Следовательно, если какой-либо догмат вероучения становится слишком понятным, то это значит, что он не подлинен и берется не во всей своей божественной глубине. На самом деле основой православия является правильное чинопочитание и имяславие, то есть знание тайных имен Всевышнего, а имя Бога дает нам власть над всем его творением. А кто же знает так хорошо имя своего врага, как не лукавый. Ведь эзотерика занимается тем же – поисками правильного звучания имени Тетраграммона. Поэтому нет ничего зазорного, чтобы изучать эзотерику во всех ее частях, включая магию и алхимию.
– Да, надо шлифовать, шлифовать форму, – поддерживает жену Огородов, мотая кудлатой головой из стороны в сторону, – изо дня в день. Из года в год.
– Ага, Кирилл.
Из года в год,
Из века в век
Стремится к небу
Человек.
Но не достигнет он
Небес,
Его обманет
Хитрый бес.
А что ты скажешь, Маргарита, если я тебе скажу, что сегодня во сне я читал часть трактата о Боге как о нематериальном теле?
– Бог не может быть телом, так как не является частью нашего пространства. Это ересь.
– Наконец-то, но не там, как говорил Бродский, – хохочет Гроссман, – наконец-то произнесено главное слово: ересь. Но кто не грешен Богу своему? А ведь рассказывая, я ни разу ничего не придумал, не сочинил, а если и ошибался, то нечаянно. Но я хотя бы не считаю себя православным, так как не верю, что личное спасение зависит от соблюдения ритуалов. Но вы-то, вы-то оба считаете себя православными, а занимаетесь тем же, что и я: заигрываете с Дьяволом.
– Мать твою, снова переводишь разговор на нечистого, – злится Огородов, – сказал же: не говори об этом. Не хочу ничего слышать.
– Боишься, что ли?
– Да, боюсь. И не скрываю. Все, прекращаем разговор. Баста.
Огородовы встают из-за стола и молча идут на выход. Глядя им вслед, Света с грустью спрашивает:
– Зачем ты его провоцируешь? Он же твой друг.
– Но я правда ничего не придумываю. А бояться Дьявола так же глупо, как не верить в него. Вот он собирается попробовать грибов в Христиании, а ведь это то же самое, что вызвать Дьявола к себе домой по телефону. Просто он боится признать очевидное… Ладно, пошли выписываться.
Они возвращаются в номер, складывают вещи, спускаются в холл, усаживаются в кресла, ждут. К ним присоединяются Огородовы, садятся напротив, жду-у-у-т. Появляется Скороходов с дочерью, страшно довольный собой. Он – сама энергия и деловитость. Оставляет дочь рядом с Гроссманом, как ненужный хлам, и устремляется к стойке дежурного администратора, энергично размахивая руками и лопоча что-то трудноразличимое по-английски. После напряженных и бесплодных переговоров возвращается к подопечным и просит их подождать: ему нужно снять деньги с карточки на оплату номеров, а пакистанская девушка, с которой он вел переговоры, не умеет этого делать. Исчезает надолго. Сидят, ждут, начинают нервничать. Особенно Огородов. По холлу разгуливают два огромных черных ворона, но их никто, кроме Гроссмана, не видит. Они громко щелкают клювами, широко их раскрывая и демонстрируя языки.
«О, Хугин и Мунин, дайте мне силы разуметь и помнить все, что с нами случится, – безмолвно взывает к ним Гроссман, вжавшись в кресло от внезапно нахлынувшего прилива страха, – не дайте мне погибнуть, когда я спущусь в хель, позвольте мне с миром уйти с вашей земли».
Возвращается Скороходов и вновь вступает в переговоры с администратором. Наконец-то они заканчиваются успешно: номера оплачены, багаж оставлен в отеле, все снова на улице и лениво бредут в старый город в плотном облаке из Скороходовских слов, словно слепые за своим поводырем-сумасшедшим с глазами-пуговицами, не видящими ничего, что не имеет гедонистического смысла.
Впереди и сзади цепочку неудачников сопровождают два волка с оскаленными клыками, из пастей свешиваются бледно-розовые тяжелые языки. Звери неторопливо вышагивают, лениво помахивая метлообразными хвостами, словно домашние собаки на прогулке.
Ветер, скупое солнце сквозь облака. Серый гранит тротуаров и гулкая пустота в небе. Королевский дворец в скудном великолепии северного барокко. Выходят на набережную позади дворца, всю заставленную экскурсионными автобусами с петербургскими номерами. Чувство умиротворенности накрывает их с головой, словно волна-убийца, погружая в нирвану праздного злопыхательства. Встав перед памятником очередному Густаву от благодарных сограждан, Гроссман не просто смеется, а по-лошадиному ржет, с трудом удерживая свои внутренности обеими руками, чтобы не лопнуть от злости.
– Что с тобой? – недоумевает Огородов, с опаской наблюдая за телодвижениями своего визави.
– Ненавижу их, сукиных детей. Я не понимаю, совершенно не понимаю, – с трудом выплевывает из себя слова Гроссман, продолжая ржать, – как им удается так жить, что нам остается только завидовать.
– О чем ты?
– А ты разве не знаешь?
– Да забей! Конечно, тут хорошо, но дома-то лучше.
– Не уверен, – выблевав всю свою злость, твердо возражает ему Гроссман, снимает очки и начинает тереть глаза, словно они у него болят, – видишь ли, Кирилл, дома нас ждут дураки и дороги, по которым даже нельзя ходить, а здесь лишь только чувство собственной неполноценности при виде мира, в котором все устроено по-человечески. Но это ненадолго?
– Почему?
– Потому что рано или поздно, но сюда придут наши с деньгами и все здесь скупят на корню, а потом руинируют нах…
– Почему? Из принципа?
– Да вовсе нет, просто это единственное, что у наших людей хорошо получается. Они искренно хотят вести европейский бизнес и его развивать, но это противоречит самой природе русского человека. Русские по природе разрушители… они не способны ничего созидать.
– То есть рано или поздно, но им придет конец?
– Очевидно. Посмотри на эти автобусы с питерскими номерами. Пройдет еще лет двадцать, и все местные заговорят по-русски и начнут мочиться в подъездах, как это делают все наши сограждане. Из принципа, как пьяницы, которые воюют с режимом.
– Пьяницы не воюют, они просто бухают.
– Ты неправ, Кирилл. Жизнь алкоголика в России – это тип социального юродства, но без веры в Бога. Это тяжелый труд сознательного, наперекор здравому смыслу, разрушения собственного организма в знак протеста против окружающего мира. Это социальный протест в виде асоциального существования. Вот, например, ты? Ты ведь пьешь не от хорошей жизни?
– Ну, я просто алкоголик с поломанной головой. Я таким образом борюсь со стрессами. Ты же знаешь, я работаю с бандитами, продаю им мебель. Очень нервная работа.
– Вот видишь, ты работаешь с самыми уважаемыми людьми в нашей стране – с бандитами! При этом для них ты полное ничто. Они тебе говорят: «Кто ты? Говно! А я человек! А ты говно, да ты и сам это знаешь. Просто молчи и жди, когда тобой потребуют удобрить посев: будешь подтиркой какой-нибудь ухаря, отъебавшего твою жену по случаю за деньги. Ведь деньгами ты же не рулишь». Не так ли? Но ведь бандиты лишь только отнимают и делят, в то время как ты, станкостроитель, созидаешь если не миры, то по меньшей мере механизмы, призванные изменить нашу жизнь. В этой стране ты бы решал, с кем тебе работать и достоин ли этого человек, который должен тебе заплатить: достоин ли, чтобы ты улучшил его жизнь, – чтобы платить тебе ту цену, что ты сам назначишь.
– Звучит слишком фантастично, чтобы в это поверить. Вань, я скорее поверю, что мы вчера встречались с Сатаной, нежели в то, что здесь я сам могу назначать заказчику цену за мои услуги. Я думаю, что здесь то же дерьмо, что и у нас: тот, у кого деньги, диктует другим, что они для него должны делать.
– Только не в нашем случае, Кирилл, только не в нашем случае. Дело в том, что в нашей стране просто деньги ничего не значат. Нужна еще сила, которая заставит эти деньги служить тебе. Разве не так? Скажи мне, скажи?
– Ну это, в принципе, да. Да. В принципе, да. Согласен. Если ты платишь, но тебя никто не боится, то в результате ты получаешь вместо того, чего хотел, полную хуйню. Когда я подвизаюсь на очередную сделку с клиентом, то никогда не знаю, чем закончатся мои отношения с ним. Бывает так, что жопой чувствуешь: нельзя брать деньги, потому что это всего лишь повод для того, чтобы тебя поимели. Господи, Степаныч, ты даже не знаешь, сколько наших закопано на грядках новых русских под Москвой. У меня есть клиент, Семеныч, вор в законе. Так у него есть собственный передвижной крематорий. Мы обставляли ему с моим партнером Георгием загородный дом в Малаховке: так каждая встреча с ним была равна шансу оказаться последней в этой жизни. Маленький, большеголовый, уродец. Но сила от него исходит нечеловеческая. Не поверишь, я никого не боюсь, но как его видел, у меня душа в пятки уходила. Ссался от страха. А еще мой Георгий круглый идиот. Он же не понимает, с кем имеет дело. Все время лез на рожон, в армии не служил, а мне разруливай. Зато он за свои деньги, упырь большеротый, получил полный люкс. Круче не бывает. Мы когда ему заказ сдали и он с нами все-таки расплатился, то я в церковь пошел и свечку поставил. Пронесло.
– Что, так было страшно?
– Знаешь, когда он хрипел: «Молодой человек, вы понимаете, что для владельца передвижного крематория избавиться от тела ненужного человека не проблема», то я понимал, что он не шутит. Для таких людей главный принцип – наказать, если ты его чем-нибудь заденешь. Тяжело.
– Зачем же ты с ними тогда работаешь?
– С бандюками-то? Ну, так получилось. Долгая история, из девяностых. Вообще, как ни странно, но тех, из девяностых, можно было уважать хотя бы за то, что они жили на всю катушку, без тормозов, никого не боялись. А нынешние все заказчики – это сплошные воры-чиновники, подлые и трусливые. Знаешь, они даже не скрывают, что хотят тебя обмануть, и при этом боятся, что ты их уличишь во лжи. Противно, но как-то надо деньги зарабатывать, вот и приходится клиентов кидать на авансы. Из десяти сделок только две от силы доводились до конца. Когда все пытаются обмануть друг друга, то сложно вести нормальный бизнес.
– Но здесь же у них получается.
– Они другие люди, Степаныч. Посмотри на них – они же викинги. Они всей Европе задницу надрали и ушли на покой: закопали свой топор войны. Навсегда.
– Навряд ли, Европа беременна войной. Люди здесь устали от хорошей жизни.
– Только не мы, – смеется Огородов и буквально тащит Гроссмана обратно к своим; те, как завороженные, слушают Скороходова, рассказывающего, как необходимо праздновать Новый год по-скандинавски.
Гроссман предлагает найти вчерашний ресторан в старом городе, украшенный дракарами викингов, там пообедать. Предложение принимается, и все дружно идут на поиски. Находят, но ресторан закрыт: начинает работать с 16.00, а сейчас лишь час дня. Обидно.
Лениво бредут по лабиринту улиц, мимо памятника св. Георгию, поражающему дракона в шипах, мимо витрин и дверей, украшенных рождественскими венками, по тротуарам, мощенным любовью и трудом, к черной громаде кафедрального собора, на шпиль которого опирается серая масса всего небесного свода над городом.
Внутри собора гулко и пусто: белые стены и высокие своды, черные скамьи и голый алтарь с распятием. Стерильно, как в больнице. Здесь верят в Бога, которому нет необходимости курить фимиам и бить поклоны: нужно лишь молиться и совершать добрые дела, чтобы спастись. Каяться не надо. Золото внутри, а не снаружи.
Становится неловко находиться в месте, где люди исповедуются перед Богом так искренно и просто, и они выходят пристыженные наружу, неожиданно оказываются напротив двери во вчерашний ресторан с русской надписью и витриной с загадочной фигуркой манэки-нэко рядом. Незамедлительно, несмотря на возражения Скороходова, оказываются внутри, где уютно и вкусно пахнет свежеиспеченным хлебом. Заказывают сливочный суп с морскими гадами и белое вино. Когда блюдо отведано и вино пригублено, Огородов уверенно заявляет:
– Нет, все-таки они не умеют верить в Бога. Не то что у нас, где алтарь украшен иконостасом. Бедно у них, красоты мало.
– Зато у них на улицах чисто и в общественных уборных мочой не пахнет, – возражает ему Гроссман. – Какой вкусный суп, согласись. Меня вообще удивляет желание русских монополизировать право на духовность. Такое ощущение, если послушать нас, что никто в мире не имеет право молиться Богу. Только мы имеем право. Почему?
– Мы это заслужили. Всей нашей историей.
– Однако, Кирилл, позволь с тобой не согласиться. А как же Ленин и вся русская революция в течение всего XX века?
– Ленин – антихрист. Камень преткновения.
– Но ведь его же не выкинули до сих пор с Красной площади.
– Господа, ну какой смысл говорить о столь ничтожных вещах, как коммунистическое прошлое, – снисходительно мямлит Скороходов, лениво разминая хлебный мякиш в руках, – оставьте это журналистам. Ну а европейской духовной содомии в свете их толерантности сложно предложить что-либо альтернативное нашей культуре. Вспомните, что мы видели у них в музее.
– Синди Шерман, что ли? Но у них есть и другое?
– Например?
– Ларс фон Триер! – радостно выдыхает Огородов, страшно довольный тем, что сумел продемонстрировать свою осведомленность. – Сейчас все ждут его «Нимфоманку». Я очень хочу посмотреть. Он псих, наверняка покажет такое, что всех обескуражит.
– Духоподъемное искусство, – брезгливо кривится Гроссман, – с легкой неподражаемой дрочинкой. Умственный онанизм у нас всегда приветствовался. Например, его «Меланхолию» я не сумел посмотреть. Мой предел – десять минут.
– А мне понравилось, – мягко возражает ему Маргарита, – я ее пересматривала три раза.
– Что ты там интересного увидела? – удивляется Гроссман.
– Я нечто похожее переживала. Он это тонко уловил.
– Ну, не знаю, – фыркает Гроссман и разводит руками. – Jedem das Seine, как говорили немцы.
– Ты еще скажи «Arbeits macht frei», – возражает ему Огородов, – если тебе что-либо не нравится, это не значит, что это не искусство.
– Как мы установили вчера, искусство теперь принадлежит технике, а мы лишь жалкие подражатели прошлого. Копиисты форм.
– А как же современный модернизм?
– Ах, Рита, оставь. Все это несерьезно. Раньше ломали традиционную форму. Мастера – смело, имея свою задачу: удивить. А все остальные – просто так, думая, что так и надо. Теперь же пришли к тому, что из готовых форм мы лепили что-то новое, скрещивая все подряд и получая hircocervus-ов направо и налево.
– Кого-кого?
– Hircocervus-ов. Это латинское слово, образовано от hircus, то есть козел, и cervus, то есть олень. В мифологии – животное, наполовину козел, а наполовину олень. Маргарита, ты должна это знать.
– Я знаю, Ваня. Только я не могу понять, что ты имеешь в виду. Поясни нам на каком-нибудь примере.
– Да, Иван Степанович, не отрывайтесь от масс, поясните народу, что ымэиты в вэду-у-у? – язвит Скороходов и тянет последнюю фразу со сталинской интонацией.
– Ну, например, коммерчески успешный авангард или маргинальный андеграунд. Предел абсурда – это классика модернизма: все эти эпигоны в лице Ричарда Майера и ему подобных, типа выжившего из ума Филиппа Джонсона, занимающихся тем, что копируют в ноль своих мастеров, – ведь это же бред. Это как девочка-блядь, с которой я познакомился в канун Нового года у Смирнова.
– Девочка-блядь?
– Да, да, вы будете удивлены, но это так. Маргуша-Добруша. Девочка-блядь, восхитительно веселая и открытая в желаниях. Она отдается Смирнову просто за платье или за ужин в ресторане. У нее есть ребенок – сын, но она к нему относится, как к своей живой игрушке, которую, по ее словам, любит больше всего на свете. Секс для нее только развлечение, хотя и яркое по чувствам, позволяющее ей зарабатывать деньги на безалаберную, яркую жизнь.
– Позволь, Ваня, я совершенно не уловила ход твоих мыслей. Причем здесь классика модернизма и какая-то девочка-блядь? Вот уж воистину понятийный hircocervus.
– Ну как же, по существу, это одно и то же: профанация чужих идей за деньги – это тоже блядство. Корбюзье был архитектурным фашистом по своей идеологии, а Майер – это гуманитарный фашист, который зарабатывает деньги на корбюзианской антиэстетике. И искусство для него – не тяжелая работа по ломке формы, а такое же развлечение, как для Маргуши-Добруши. Он из готовых, отточенных до мелочей штампов модернизма лепит нечто свое, прямо противоположное авангарду по идеологии и существу. Это та же хрень, что продавал Энди Уорхол: это дерьмо, но позиционированное для всех как искусство; если это стоит кучу денег и это покупают, значит, это нельзя игнорировать. Умом понимаю, но принять не могу.
– Все потому, Ваня, что ты русский человек. У тебя есть душа, а душа по определению христианка. Вот она и сопротивляется бесовскому наваждению. Не наше это все.
– Что все?
– Ну все, что здесь вокруг.
– Тебе не нравится?!
– Нет, очень, очень нравится. Я бы хотела так жить.
– А ты, Свет?
– Конечно. Что за вопрос.
– А ты, Кирилл?
– Эх, хорошо бы…
– А вы, Валерий Евгеньевич?
– Ну, я не знаю. Нужно посмотреть.
– Итак, большинство за. То есть все не наше нам так нравится, что хоть кричи. Хотим так жить, но не можем. А почему?
– И почему? – искоса смотрит на Гроссмана Огородов.
– А потому, что мы в историческом плане совершенно не состоявшийся народ: у нас есть страна, но нет государства. В результате мы все время говорим о духовности и о своем особом пути, вместо того чтобы заняться обустройством теплых сортиров, как здесь. Нас надо немедленно запретить. Иначе мы будем по-прежнему мучиться и мучить других.
– Ваня, ну почему так радикально? – тревожится Маргарита. – Мы тоже рано или поздно, но эволюционируем.
– Не получится.
– Почему?
– Дело в том, что эволюция присуща только социальным институтам, но никак не самим людям. Человек современный такой же, как и тысячу лет назад его предок. Разница только в том, что…
– Алхимия, Степаныч, просто алхимия, – перебивает его нетерпеливо Огородов, подняв руку, и назидательно трясет указательным пальцем, – надо шлифовать форму, как они. Заниматься внутренним деланием, то есть искать философское золото. Они эту фишку просекли, и их мир изменился.
– Ты в это веришь, Кирилл?
– Я не верю, я знаю.
– А как же народ-богоносец?
– Ага, святой народ-богоборец, – злорадствует Скороходов, – сплошь святые Георгии со святыми драконами. Ха-ха-ха.
– Не вижу в этом ничего смешного, – неожиданно обижается Огородов, с откровенной неприязнью буравя взглядом Скороходова, – да, мы оступились. Мы предали и распяли царя. Но мы искупили вину, мы спасли эту вот Европу во Второй мировой войне. Мы выиграли войну и разгромили Гитлера. Разве этого мало?
– А может, зря, Кирилл? – вздыхает Гроссман. – Может, было бы лучше, если бы нас всех сожгли в печах нацистских концлагерей, освободив нашу землю для другого, более полноценного народа.
– Вы, Иван Степанович, говорите совершенно крамольные вещи, – брезгливо кривится Скороходов и пару раз поглаживает свою плешивую голову правой рукой, словно проверяет ее наличие. – Сейчас за это срок могут дать на Родине. От двух до пяти.
– Ваня, нам ничего не остается, как только верить в Бога, видя, как живут другие нормальные люди в нормальных странах, – старается снять вдруг возникшее напряжение Маргарита, – и выдавливать из себя раба по капле.
– Я это делаю каждый день в сортире, – возражает ей Гроссман, – но ничего, кроме дерьма, из меня не выходит. Видимо, прав был Христос, когда сказал, что оскверняет человека не то, что в него входит, а то, что из него выходит.
– А я, пожалуй, закажу-ка себе дижестиф, – неожиданно громко объявляет Огородов и, подозвав официанта, просит принести ему порцию Фернет-Бранко.
– Это что такое? – интересуется Гроссман.
– Горькая настойка, – пригубив принесенную рюмку, охотно поясняет Кирилл, – привык я, понимаш, к хорошей жизни. В Италии все пьют дижестиф после еды. Помогает пищеварению. Один заказчик меня приучил.
Когда все выпито и съедено, расплачиваются и покидают кафе. Не торопясь возвращаются в отель, стараясь напоследок получше запомнить город. Забирают вещи из багажной комнаты и перемещаются на центральный вокзал. Недолгое ожидание в предотъездной суете перрона – и они уже в вагоне скоростного экспресса. Следующая их остановка – Копенгаген.
Незаметно начинается движение поезда, которое все ускоряется и ускоряется, из-под вокзала выныривают наружу и прямо по трамвайным путям несутся вдоль набережной мимо старого города, затем ныряют в туннель и через гремящую темноту оказываются за пределами Стокгольма.
В вагоне, кроме них, группа шумных агрессивно-пассионарных эмигрантов откуда-то с Ближнего Востока и чопорные шведы и датчане, а также семейная русская пара – муж с крашеной женой-стервой и двое разнополых детей, – которая самостоятельно путешествует. Они старательно делают вид, что не замечают соотечественников и погружены в чувство собственного превосходства над соседями. Единственное, что не дает покоя Гроссману и Огородову, – это желание выпить, но спиртное, по их расчетам, осталось только у Скороходова, предусмотрительно припрятавшего бутылку ликера еще на пароме. Они шепчутся между собой украдкой, жадно ощупывая взглядами его баул, в котором должна быть бутылка.









































