Текст книги "Поездка в ни-куда"
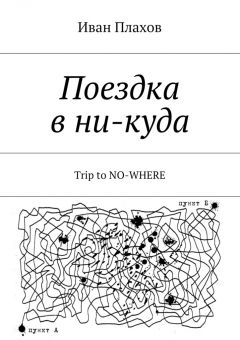
Автор книги: Иван Плахов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
– Ну почему, не согласен, – возражает ему Огородов, – все в мире подвержено какому-то единому ритму. Мы просто не видим. Не видим всей картинки. Во, смотрите, мухомор! – восторженно, как ребенок, радуется он, увидев на выходе из последнего зала скульптуру гриба выше человеческого роста, расписанную флуоресцентными красками.
– Вот этого нам в жизни как раз и не хватает, – замечает Скороходов, подходя к скульптуре поближе, – были бы с нами всегда наши фантазии и жизнь стала бы ярче.
– Что, Валерий Евгеньевич, пойдете с нами с Христианию, когда мы в Копенгагене окажемся? – подначивает его Гроссман.
– Обязательно, Иван Степанович. Я вам покажу это место как никто другой.
Раздается громкий звонок, и женский голос по-английски и по-шведски объявляет, что музей закрывается через пятнадцать минут, просит покинуть залы.
Мужчин у выхода уже ждут женщины. Все вместе с чувством исполненного долга отправляются обратно в город. Через полчаса они уже на улицах старого города, разглядывают рождественские витрины и ищут ресторан, в котором можно поужинать. На площади в центре города, со всех сторон зажатой разновеликими домами и украшенной рождественской елкой, натыкаются на бар с загадочным названием «Pharmarium. Bar-mat-mixologi».
Его обнаруживает Гроссман, совершенно случайно: ему видится издалека, что на углу дома, где располагается бар, изображена богородица с младенцем; решив разглядеть ее поближе, он подходит к дому и вместо иконы видит лишь доску, всю залепленную разновеликими разноцветными бумажными объявлениями и афишами.
– Померещилось, – констатирует он, – что за день сегодня обманный.
Рядом с доской объявлений блестит новенькая вывеска бара. На ней змея обвивается вокруг жезла, увенчанного короной.
Гроссман предлагает зайти, уж больно название интригующее. Скороходов против, но, презрев его мнение, остальные устремляются внутрь, оставив его с дочерью на улице одних.
Полутемно и загадочно. Перед ними материализуется официант-педик с подведенными глазами и любезно предлагает занять места за круглым столом справа от входа. Все садятся, разбившись на пары, и с интересом изучают названия коктейлей и блюд. Решают, что мужчины закажут себе по пиву, а женщины коктейли: Света остановилась на «Парфюмере», а Маргарита – на «Философском камне». Оглашают свой выбор официанту, он исчезает, а они оживленно обмениваются первыми впечатлениями от окружающего дизайна.
Низкий темный расписной деревянный потолок, обилие стекла и декоративных бутылок, горящая свеча на столе настраивают на мистический лад: хочется говорить о чем-то загадочном и невероятном. Приносят пиво и коктейли: красную и зеленую жидкости, разлитые в полулитровые хрустальные рюмки. Пьют и разговаривают.
Неожиданно для всех в бар входит Скороходов с дочерью и подсаживается к ним за столик. Долго изучает меню и заказывает бутылку воды, мотивируя свой выбор тем, что перед ужином необходимо проголодаться.
– Ну, и как коктейль? – интересуется Гроссман у Маргариты.
– Ты же понимаешь, как человек, активно интересующийся метафизикой, я не могла не заказать «Философский камень». Ведь это же вершина всего алхимического опыта.
– Вообще-то слово «метафизика» впервые ввел в обращение Аристотель, но им он обозначал совершенно иные вещи, нежели нечто заумное или недоступное опыту знание сокровенных начал мира. Слово «метафизика» Аристотеля понимают неправильно.
– Вообще-то метафизику Мефистофель понимал по-другому, сильно заблуждаясь.
– Ха-ха-ха, Маргарита, ты оговорилась.
– А что я сказала?
– Ты сказала, что Мефистофель понимал метафизику, сильно заблуждаясь, ха-ха-ха.
– Я так сказала? Да, оговорилась. Ну посмотри, в каком метафизическом баре мы сидим. Здесь вполне можно встретить Мефистофеля, и он тут будет к месту.
«Какая замечательная оговорка по Аристотелю. Фрейд позавидует. Вот какие черти бродят в закоулках ограниченного ума, занятого бесплодными попытками поженить западную эзотерику и православное богословие», – ликует Гроссман.
– Вообще, алхимию у нас всегда понимали неправильно, думая, что это буквальные физические опыты. На самом деле алхимия – это наука о совершенствовании души. Эзотерическое знание о движении к совершенству.
– Да, – горячо поддерживает жену Огородов, – алхимия – это шлифовка формы. Вот посмотри, как у них здесь здорово. А почему? А потому, что они здесь все занимаются шлифовкой формы. Вот взять, к примеру, их автомобили – да это же произведение искусства.
– Кирилл, техника уже давно превратилась в искусство, заменив ручной труд всякими там гаджетами и примочками. Пройдет еще какое-то время, и мы будем иметь новые тела, новые глаза. Скоро мы изменим себя до такой степени, что в своих предках не увидим никаких корней, удерживающих нас от того, чтобы порвать с традиционным образом жизни: семья, дети, любовь – основным будет желание творить иные миры, создавать новые формы жизни.
– То есть уподобиться Богу?
– Нет, стать богами.
– Ваня, это уже кощунство. Обожиться человек может только во Христе.
– Но вера в Бога не мешает тебе пользоваться сотовым телефоном?
– Нет.
– Ну а если бы у тебя он был в пятнадцатом веке, тебя бы объявили еретичкой, колдуньей и сожгли. Человек совершенствуется. Может быть, в этом и есть промысел Божий, может, это и значит облечься во Христа.
– Обожиться в Христа – это значит в него уверовать.
– Но что есть вера без дел – одна видимость. Взять, к примеру, того же Ивана Грозного – он верил в Бога?
– Конечно, он же был помазанник божий на земле. Все цари святы.
– А то, что он митрополита Филиппа святого убил, не кощунство?
– Ему было можно, потому что он царь. Он пред богом свят.
– И тот святой, и этот святой? Как же может один святой другого убить? Ерунда какая-то. Или более святой может убить менее святого? Борьба среди русских святых за стяжание благодати.
– Наивысшая власть дает тебе наивысшую благодать и святость, – возражает ему почти кротко Маргарита, – очищает от всех пороков тем, что делает тебя перстом Бога карающим. То есть его Воля, его Власть, его Слово.
– Умная у меня жена, Вань, согласись, – самодовольно хмыкает Огородов с хитрецой в поросячьих глазках.
– Святые убивают святых в поисках стяжания большей благодати. В конечном итоге должен остаться один святой – самый сильнейший. О Святые Драконы, о Святой Георгий, максимус-благус.
– Получается, что Дракон так же свят, как и Георгий, так как тоже изображен на иконе, – поддерживает Гроссмана Света. – Просто в нем святости меньше, чем в Георгии.
Все смеются ее шутке, за исключением Скороходова, который снисходительно молчит.
– Н-да, простая человечность чужда православным, – сокрушается Гроссман.
– Не православным, а православнутым, – поправляет его с улыбкой Маргарита. – Нам ничего не остается, как только верить в Бога, видя, как живут другие, нормальные люди в нормальных странах.
– В таких, как эта? – уточняет он.
– В такой, как эта, – подтверждает она.
– А все потому, Рита, что у нас народ говно.
– Это ты верно сказал, – оживился Огородов, отхлебывая пиво, – люди у нас симпатичные, но жизнь чудовищна.
– А все потому, что русский народ несостоятелен с исторической точки зрения. У нас никогда не было государства, как здесь, на Западе, а были лишь цари. Ненавижу эту страну, этот гнусный, вороватый народ с вечно жлобскими, жабскими мордами, с глазами пустыми, будто это горлышки от водочных бутылок или обмылки стеариновых свечек, которые эти твари ставят в церквях Богу, которого они понимают как главного пахана, с которым можно договориться, если отбашляешь ему пару сотен с украденного миллиона. Вся эта биомасса должна сгореть дотла в топке плавильного тигеля Страшного суда. Они нуждаются в палачах, иначе они начинают грызть друг друга, словно дикие звери. У этих людей с рыбьей кровью нет никакого личного достоинства: из них можно строить пирамиды, на которых воскурять фимиам главным вождям этого народа. Публичное унижение они воспринимают как норму и, не уважая себя, совершенно не уважают и других. Их держит в узде только страх. Собственность для них – пустой звук. Все лучшее в своей среде они выдавливают из себя, как выдавливают прыщи: равнодушно, буднично, как нечто, что просто раздражает, без всяких эмоций.
– Иван Степанович, мощный монолог. Впечатляет, – шутливо аплодирует Скороходов. – Но другого народа у нас нет, как говорил товарищ Сталин. Или вы предлагаете вместо русских заселить нашу страну шведами? Немцами? Не получится, место гиблое.
– Верно, – вздыхает Огородов и снова прикладывается к пиву, – все русские страдают метафизической похотью.
– Это как? – недоумевает Гроссман.
– Просто мы все совершаем предательства от души. Искренно. После этого даже обижаться как-то неловко.
– Это ты верно сказал – целая страна иуд.
– Ну почему, можно начать с чистого листа, – возражает Скороходов, – народ, по словам Мао Цзедуна, – чистый лист бумаги, на котором можно написать все, что хочешь. Была бы политическая воля.
– Боюсь, что с русскими так не получится.
– Почему?
– На нашем листе уже написано слово, но не сакрально-матерное из трех букв, а другое: «жопа». В этом все дело.
– Давайте оставим в покое русский народ, тем более что ему это все до лампочки. Лучше расскажите нам, вашим поклонникам, над чем вы сейчас работаете.
– Неужели это вам интересно?
– Правда, Вань, ты что-то пишешь? – удивляется Маргарита, – Кирилл вот что-то рисует и рисует, но мне не показывает. И книгу твою мне не дает читать.
– Рита. Это не для тебя, – старается мягко оправдаться Огородов, – это не для таких домашних девочек, как ты.
– Можно подумать, что там написано о чем-то, чего я не знаю.
– Поверь, тебе лучше не читать.
– Ладно, расскажу, над чем работаю.
– Просим, просим.
– Я пишу книгу во сне, попадая в мир демиурга, который в это время, как он утверждает, пишет книгу обо мне. Я там читаю его дневники, заметки, а заодно сочиняю повесть – антиутопию об альтернативном будущем. Предположим, что нацистская Германия сумела одержать над союзниками антигитлеровской коалиции полную победу, установив в мире новый мировой порядок. Все это показано через личный взгляд германского подростка, в виде хроники его первого посещения Сибири и знакомства с различными типическими персонажами того народа, которым ему предстоит в будущем управлять и все такое прочее. Как-то так, если в двух словах. М-да, звучит, наверное, несколько странно, но мне интересно раскрыть именно эту тему.
– Смотри, Степаныч, с огнем играешь. Сейчас о войне ничего плохого писать нельзя. Посодють.
– Ты знаешь, Кирилл, а я не боюсь. После «Дневника педофила», когда его все отказались публиковать даже за деньги, мне уже все равно. Ну не опубликуют, зато я напишу все, что об этом думаю. Я уже написал все, что хотел. То, что я могу еще написать, мне не интересно, а то, что мне интересно, я не могу описать. Не хватает таланта. Значит, я обречен на забвение и литературную смерть. Зато я хотя бы демиургу отомщу.
– Это как?
– Ну, я же в его мире пишу свою повесть. Он считает, что это он выдумал меня. Так? А я как персонаж, его персонаж, попадаю в его мир и пишу нечто, что противно самой его сути. Так? И он вынужден это читать, так как свою рукопись я оставляю ему на столе. Так?
– Иван Степанович, это шизофрения, вам есть грибы нельзя, раз такое дело. Светлана, вы его доктору не показывали?
– Ну почему же так сразу – шизофрения. Это же со мной не наяву происходит, а во сне. А во сне все можно.
– Ненормально верить, что существует некто, кто вас придумал.
– Почему? Если вот, к примеру, Кирилл и Маргарита верят в Бога, как их создателя, то они же нормальные. Вы же их шизофрениками не считаете.
– Так они и не верят на самом деле, как и все человечество. Просто так легче объяснить устройство мира. Но они не подвергают сомнению свое существование.
– Так и я в своем не сомневаюсь. Просто сон – это нейтральная территория, где нет, скажем так, телесных границ. Во сне мы можем увидеть то, чего нет на самом деле. Поэтому я легко попадаю в пространство демиурга, где нет никаких ограничений, и творю: это мир, в котором легко снимаются всякие противоречия, так как отсутствует причинно-следственная связь, есть только моя воля. У меня, к примеру, есть одна идея книги, на снах основанная.
– И какая же? – с нескрываемым скепсисом интересуется Скороходов, всем своим видом давая понять, что говорит с сумасшедшим.
– Идея о том, как люди попадают в чужие сны и живут в них, как в коммуналках: в тесноте и с чужими мыслями и фантазиями. Как вам? Из этого может получиться что-то дельное.
– Почему же вы ее до сих пор не написали?
– Скучно.
– Скучно?
– Ну да, скучно. Мне хочется писать о чем-то, чего я до конца не понимаю. А тут все ясно с самого начала.
– То есть вы пишете и никогда не знаете, чем ваша история закончится?
– Ага, а иначе скучно-о-о-о-о. Все, давайте закругляться: все выпито, все важное сказано, – пора искать место для ужина.
Подзывают официанта, расплачиваются и покидают бар. Скороходов вновь пытается руководить, ведет всех вниз, на оживленную пешеходную улицу, полную праздношатающихся. Они вливаются в их ряды и пытаются высмотреть подходящий ресторан. Находят один, всех заинтересовавший входом, оформленный скандинавскими дракарами. Пытаются проникнуть вовнутрь, но он полон людьми, сидящими за столами в густых облаках пара: они раскачиваются из стороны в сторону и поют: «Фрея, фрея, фрея».
– Эти уже грибов наелись, – констатирует Скороходов. Все одобряют его шутку и идут дальше искать. Находят один с надписью «Мы говорим по-русски», но он уже закрыт. А времени всего девять вечера. Рядом освещенная витрина с золотистой фигуркой манэки-нэко, улыбающейся им по-чеширски, словно она знает какой-то их секрет.
Ведомые Скороходовым сквозь лабиринт старого города, уставшего праздновать Рождество, наконец-то находят подходящий ресторан, бездарно ужинают и возвращаются в отель. Уставшие, разбредаются молча по своим номерам.
Гроссман и Света снова одни. Им снова нечего сказать друг другу, так как каждый занят самим собой: она хочет любви, а он – отмщенья. Ложатся спать, гасят свет и с привычно ласковым «Спокойной ночи» смыкают глаза. Гулкая тишина, прерываемая лишь собственным дыханием. Как страшно оказаться наедине с самим собой, отлично зная, что сейчас произойдет.
«Из года в год,
из века в век,
стремится к Богу человек.
Но не достигнет он Небес,
его обманет
хитрый бес»,
– сами собой у него в голове начинают складываться стихи, а какое продолжение? Все, за весь день всего лишь несколько строчек сомнительной ценности. Как говорится,
«Он был городской сумасшедший,
Она проституткой была,
Они занимались любовью
Во время большого поста».
Тоже мне, второй Бродский. Пристойная непристойность.
Он решает раствориться в небытии. Вначале исчезает задняя часть его тела, затем, спустя какое-то время, пропадает и передняя. Дольше всех держится на поверхности зеркала жизни, если можно так выразиться, лицо, но и оно постепенно исчезает, растворяясь без следа во времени.
Сколько длится это небытие, он не знает, но, открыв глаза, оказывается в комнате демиурга, за столом. Перед ним чистый лист бумаги. На листе его рукой уже написано:
Глава четвертая
Немецкая речь
«Вот мы и подъезжаем. Еще немного – и я увижу русских и заговорю с ними. Это так волнующе. Никогда не думал, что я, немец, буду переживать из-за таких пустяков. Наверное, так же волнуются молодые солдаты перед первым боем. Какая впереди убогая застройка! Скопище деревянных избушек вокруг шатровых сооружений с восьмиконечными крестами. Это и есть поселение славян? Разительно отличается от наших ухоженных городков и сел. Всё такое неряшливое, серое. Уныние словно придавило это убожество тяжелым облачным сводом сумеречного неба. Сущий ад. Наверняка разумному человеку жить здесь – настоящая мука. Вероятно, оберлейтенант страдает, что ему приходится здесь служить. Оттого он так раздражен на Министерство просвещения и пропаганды от отсутствия каких-либо стоящих развлечений. Наверное, блокворт плохо работает, уделяет мало времени морально-нравственному состоянию членов местной ячейки НСДАП. Интересно, можно ли сойти с ума от того, что ты бо́льшую часть года не видишь солнце и постоянно мерзнешь? Надо спросить оберлейтенанта, пока мы наедине».
– Скажите, геноссе Цинобер, как вы выживаете в этом аду? Кто-нибудь из наших сходил с ума от того, что здесь все время темно и холодно?
– Это закрытая информация, парень. Но скажу тебе по секрету: половина из тех, кто отсюда возвращается, явно нуждается в лечении. Здесь люди низведены до уровня животных, а животные возведены до уровня людей. Мы, егеря, называем это место сумеречной зоной, где выживает сильнейший: и телом, и душой. Я спасаюсь от окружающего ужаса шнапсом и сексом: напиваюсь до бесчувствия или сношаюсь с проститутками до полного изнеможения. Когда и это не помогает, просто слушаю музыку: Бетховена или Моцарта, его «Волшебную флейту» – это последнее, что меня удерживает от самоубийства. Фюрер нас, немцев, освободил от человеческих обязанностей: любить и ненавидеть, страдать и помогать, бояться, плакать или смеяться, – взамен обязав быть сверхлюдьми, то есть богами. А боги, парень, не знают слабости и стоят выше морали, олицетворяя собой мировой порядок. Мы здесь осуществляем этот порядок без жалости к тем, кем управляем.
– А вам приходилось убивать, геноссе Цинобер?
– Конечно, я же егерь.
– Вы тоже проходили посвящение в арийцы, выполняя миссию №6?
– Нет, это нововведение последних пяти лет, призванное повысить качество арийского воспитания в приютах трудовых армий. В отличие от тебя, парень, я окончил военное училище. Нас готовили убивать с пяти лет. Сначала тренировались на животных, а потом и на людях.
– А вы помните, кого убили в первый раз?
– Если честно, нет. Правда, парень, забыл уже, когда это было и где. Кажется, в Африке, в Сомали – мы тогда помогали дуче расширять его империю. Итальянцы провели неудачную военную кампанию, и их штурмовую бригаду окружили местные племена. Наше подразделение перебросили с Аравийского полуострова, где мы помогали спецотделу СС изымать камень Каабы, чтобы отправить его в Германию. Мы все тогда были штандартенюнкерами, ни разу не участвовали в боях. И вдруг всех нас, молодых, срочно погрузили в самолеты и в составе двух штурмовых бригад Абвера десантировали в гущу боевых действий на помощь итальянцам. Ночью. Тогда я наверняка кого-то и убил. Много стреляли вслепую, пока не рассвело. Утром обнаружили, что негры разбежались, а мы одни в саванне. Вокруг горы черных трупов, облепленные тучами мух. Вообще, скажу тебе, Африка не очень уютное место для белого человека: чудовищная антисанитария, куча ядовитых насекомых… Если выпить местной воды, к примеру, то наверняка будешь две недели страдать диареей, и никакое лекарство не поможет. Ну а жара, будь она неладна, никак не лучше холода: всё время потеешь, как в бане, а пот разъедает кожу, и покрываешься сыпью с головы до пят. Никакого спасения. Слава богу, этот ад закончился довольно быстро: через две недели нас перебросили на юг Италии, где мы вволю повеселились после боевого крещения. Поселили в гостинице ничтожного городка Кротоне. Господи, какое блаженство вспоминать его. Когда это было? Миллион лет назад. Многое уже забыл. Помню только, что наша гостиница «Конкордия» располагалась на Виа Виттория, рядом с торговыми рядами. Мой товарищ Клаус Рут, знаток античной литературы, предложил всему отделению пройти еще одно крещение, не боевое. В тамошнем борделе мы все потеряли невинность.
– Зачем? Почему в этом городке, почему всем скопом? Чтоб не было стыдно перед другими?
– Ха-ха-ха… Парень, ты такой наивный, аж смех берет. Вас не учили, что удел мужчины – не только воевать, но и спать с женщинами? Однако правда жизни всё равно берет верх. Наверняка многие из твоих товарищей по ночам под одеялом мастурбируют. А ты сам пробовал? Теребил хвост, чтобы никто не видел?
– Геноссе оберлейтенант, попрошу меня не оскорблять. Я пожалуюсь вашему партийному начальству. Прекратите обвинять меня в непристойностях, о которых мне даже думать стыдно.
– Ну ты и даешь, парень! Неужели ты думаешь, что твой отросток дан тебе только для мочеиспускания? Хотя, может, вас в приюте бромом поят, чтобы плоть не восставала?
– Я не знаю ни о каком броме. Я просто спросил, почему вам не было стыдно всем отделением идти в бордель, к проституткам? Разве общение арийцев с ними не унижает нас как личностей?
– Унизить арийца может только ариец. А проститутка много лучше, чем резиновые надувные женщины производства AEG для удовлетворения половых потребностей солдат в полевых условиях. Кстати, такие женщины входят в список походного обмундирования солдат вермахта. А знаешь, для чего? Просто наше командование хочет избежать венерических заболеваний среди личного состава. Вот так-то! А ты говоришь – проститутка! Что лучше, а точнее – что естественней, совокупляться с живой или искусственной женщиной?
– Я не могу вам ответить. Никогда об этом не думал. В приюте нас готовили к другому: беззаветно служить партии и фюреру, стремиться улучшить жизнь всех германцев. Половые вопросы из нашего образования исключены. Я не вижу разницы между живой или искусственной женщиной: не знаю, как та или другая может доставить удовольствие. Наивысшее удовольствие для меня сейчас – петь гимны и играть в спортивные игры. Когда ты член команды и понимаешь игроков без слов – момент единения с другими в одном порыве, в одной воле – вот это здорово, вот от этого захватывает дух. Когда поднимают наш флаг по утрам и играет горн, у меня наворачиваются слезы на глаза, а я ведь не плакса, я награжден ножом «Blut und Ehre» за стойкость и мужество.
– Ты еще слишком молод, парень, чтобы понимать то, о чем я тебе говорю. Твое время пока не пришло, у тебя всё впереди: любовь к женщине и разочарование в ней.
– В ком? В любви?
– В женщине как форме жизни, конечно же. Вот ты говоришь, что для тебя наивысшее удовольствие – момент единения с другими в одном порыве и воле. А знаешь ли ты, что, совокупляясь с женщиной, ты этот порыв испытываешь с ней физически? Не знаешь, конечно… Эх, мой юный друг. Человек способен получать наивысшее удовольствие только тогда, когда размножается: так уж устроена наша природа.
– А творчество? Разве искусство не доставляет нам наивысшее удовольствие?
– Творчество – то же размножение, только не физическое, а духовное. Так человек пытается оставить память о себе в других людях: инфицировать их своими мыслями и чувствами. Я ведь тоже в твоем возрасте, когда был юнкером, хотел стать поэтом. Даже кое-что опубликовал, но потом бросил стихи писать. Война, брат, куда интересней, а главное – всё, что вокруг, с тобой по-настоящему происходит, а не в грезах жалкого ума.
– А можете что-нибудь из вашего почитать, из того, что тогда опубликовали?
– Да чушь это всё была, дешевая, пафосная чушь типа:
Германский гений
Крылья распростер
Над всей Европой,
Из городов изгнав
Унынья дух навечно,
Взамен дав людям
Радость и веселье,
Чтоб новый мир
Построить на века.
– А по-моему, очень даже ничего. Патриотично.
– Да ну тебя, салага. Это же не Гёте, а хуже писать нет смысла. Разве что статьи в газетах, но журналистика – не литература. Ладно, сменим тему. Хочешь, объясню, почему мы все решили потерять невинность в Калабрии?
– Охотно выслушаю.
– Дело в том, что этот городок – конечный пункт приключений героев «Сатирикона» Петрония. Врубаешься?
– Нет, не очень. Я такого автора не знаю. В нашей учебной программе его нет.
– Естественно, это же античный автор, да еще и непристойный. У него нет никаких шансов попасть в школьную программу для имперских приютов, одобренную министерством народного просвещения. Нас, весь взвод, с Петронием познакомил Клаус Рут: он нам зачитывал в казарме в свободное время по многу раз самые смачные места из этой истории. В частности, о том, как герои посещали бордели. Вот мы и решили на деле проверить, так ли хороши итальянские девки, как об этом писал автор. Сказано – сделано, искать проституток было несложно: их дверь была смежной с дверью нашего отеля. Даже название до сих пор помню: «Casa Blanca». И белую розу на вывеске. Мы, значит, вваливаемся в бордель, нас там встречает мадам: женщина с выдающимися формами, очень похожая на Софи Лорен. Знаешь такую итальянскую актрису?
– Нет. Нам в приюте показывают только немецкие фильмы.
– Она у них, в Италии, очень знаменита. В общем, выставляет она перед нами всех своих девок. Мои ребята тут же разобрали высоких и фигуристых, а мне досталась маленькая и худенькая – почти подросток, сущая девочка – с огромными черными глазищами. Что делать? Подхожу к ней и говорю мадам: «Выбираю эту. Она моя на ночь». А та мне на ухо шепчет: «Господин штандартенюнкер, Франческа – самая лучшая шлюха в моем заведении. Самая выносливая и ненасытная. На прошлой неделе она за раз обслужила двадцать немецких моряков с подводной лодки, вернувшейся с боевого дежурства. Они с ней любовью занимались восемнадцать часов подряд – так Франческа не хотела их отпускать, просила добавки. Она вас растлит самым изысканным образом, можете на меня положиться». Представляешь?
– Что?
– Она меня действительно растлила самым изысканным образом, ха-ха-ха!
– Это как же?
– Э, парень, заинтересовался? Не скажу. А вообще, иногда мне порой кажется, что я существую в коконе разума, который невидимой пленкой опутывает всего меня вокруг и чрез которую я только и могу воспринимать окружающий мир. Все как во сне: нечетко и зыбко, – ни до чего окружающего мне нет дела. Так, объекты восприятия, продукты жизнедеятельности моего мозга.
Перестав писать, Гроссман задумался над последним предложением, насколько это верно по отношению к нему самому.
«У меня какая-то ненастоящая жизнь. Все как будто придумано. Но кем? Мною? Я живу как будто понарошку, надеясь, что все самое важное, настоящее со мною еще только произойдет. А жизнь-то протекает, как песок сквозь пальцы, а со мной ничего не происходит. Я никого не люблю, меня никто не любит. Зачем я живу, кто я такой? Почему я здесь, в этой комнате? Я же графоман. То, что я пишу, никто читать не будет. Это никому не интересно».
Он с отвращением сминает написанные листки в один комок и швыряет их в сторону, словно это кусок дерьма. Гроссману тошно и противно, словно у него приступ тяжелого похмелья. Тошнота подкатывает к горлу и мешает дышать. Ему так плохо, что нет сил сидеть: хочется лечь на пол и свернуться калачиком, как в детстве.
Когда приступ проходит и он снова может дышать, Гроссман дрожащей рукой тянется к тетради демиурга и, открыв ее на очередной странице, читает.
«28 августа 1993, Франкфурт, снова Франкфурт. Только один день здесь, но такое ощущение, будто отсюда и не уезжал. Скучный, бездарный, типичный немецкий город. Моя ситуация так и не прояснилась. Я послал Мираллесу факс, в котором подробно описал свою идею кладбища, но так и не получил никакого ответа. Я этого не понимаю, не понимаю такой двухличности, черствости и равнодушия. Из его отношения ко мне я могу только заключить об одном – моя учеба в Stadele закончилась. Все. Баста. Он меня не сохранит и вышибет этой осенью окончательно. Как говорится, секрет Полишинеля, но тем не менее неприятно. По сути дела, это конец пребывания в Германии и учебы, изучения западной архитектуры. Единственное, что мне остается еще, – это постараться использовать все время для сбора «фактического» материала путем покупки книг и, наверное, фотографирования объектов во Франкфурте, плюс свои впечатления. Смешно, но каждый приезд в Германию обратно с Родины приносит мне все и больше проблем, ситуация становится все хуже и хуже. А, ладно, как бы то ни было, у меня остаюсь я сам: этого для начала достаточно. Некоторые не имеют и этого. Я верю, верю и хочу надеяться, что я не обманываюсь, веря в свою звезду и свое предназначение. Я буду, буду тем, кто повернет этот мир вокруг своей оси. Но пока, в доказательство обратного, я получил открытку от NIAE, где стояло, что я ничего не выиграл: из 154 работ моя не прошла даже в призеры. Жаль. Хотя нельзя на красоте делать деньги, тем более на красивых идеях. Их можно только дарить. (Было бы что, мой дорогой друг, было бы что…).
Кратко говоря о моих впечатлениях от пребывания в Москве. Я должен заметить, что ожидал худшего. У нас есть, есть будущее. И неплохое будущее. И меня не забыли, не забыли еще. Москва находится в стадии подготовки к буму, в экономике и политике все стремительно изменяется и набирает обороты. То, что коммунисты искусственно тормозили столько лет, теперь прорвалось наружу. Москва строится, и строится стремительно, лихорадочно. Я думаю, что самым правильным сравнением было бы сравнение с голодным, которому наконец-то дали есть. Он потребляет все, не разбирая, лишь бы было много. Но ничего, со временем придет и вкус. Главное, что теперь можно. И хотя это звучит банально, тем не менее, для тех, кто помнит застой и беспросветность перестройки, это все обнадеживает. Ну, значит так написано на моем роду, что если я должен закончить my bizness in Germany so fast, I can… I will follow to my way».
Гроссман в раздражении швыряет тетрадку в самый дальний угол стола и недоумевает: «Что за черт, это никуда не годится. Мне этот газетный позитив ни к чему. Тоже мне неплохое будущее! Как наше? Господи, знал бы ты, чем закончится этот прорыв наружу, сто раз подумал бы возвращаться на Родину-уродину. Интересно, есть у него тут что-нибудь еще почитать. Надоело это нытье слабака, упустившего свой шанс состояться в карьере». Перебирает стопку книг и тетрадей, натыкается на записную книжку, заполненную рисунками и чертежами зданий, какими-то цитатами и расчетами. Его привлекает следующая запись, которую он с трудом разбирает из-за плохого почерка автора:
«Бог есть нематериальное тело, естественными границами которого являются идеи о Благе и которое состоит из идей Чистого Добра. Телесность Бога говорит о том, что у него есть форма, и форма конкретная, выраженная в образе совершенного человека, через образ которого он полагает начало и источник идеи Красоты в космосе. Являясь образом совершенного человека, Бог не есть человек, так как имеет иную внутреннюю природу, не имеющую ничего тварного, и которая, оставаясь единой по своей природе, состоит в то же время из трех начал: воли, ума, духа, – это внутренний образ Бога. Через эти ипостаси он определяется.
Внешний образ Бога как совершенного человека определен через тройную природу формы (благо): число, фигура, объем. Через эти три ипостаси определяется его внешняя природа. Как всякое тело, он занимает место и пребывает в одном из двух состояний, которые чередуются между собой. Его место центральное, состояние – активное. Весь мир он делит на три части, каждой из которых правит одна из его внутренних и внешних ипостасей. Единственное место, достойное его вместить, это он сам. Бог пребывает в самом себе, полагая через себя себе границы, в которых он пребывает вечно без недостатка ни в чем.









































