Текст книги "Поездка в ни-куда"
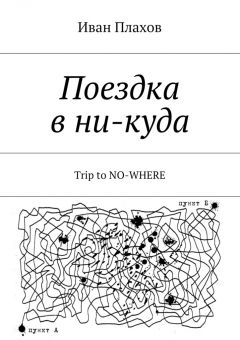
Автор книги: Иван Плахов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Подняв Кирилла с колен, устремляются мимо картин с астрологическими темами вниз и вновь оказываются на улице, где беспечные пешеходы никуда не торопятся, уличные музыканты играют блюз, нищие побираются, а в киосках торгуют рождественскими сладостями. Взглянув вверх, с облегчением обнаруживают, что над башней пустое серое зимнее небо, пламя исчезло. Привычная пустота обыденного бытия города, в котором живут добропорядочные буржуа, любящие порядок и предсказуемость жизни.
Оставив башню позади, они идут сначала в центр города, но затем сворачивают в первый переулок направо, по которому выходят на узкую вытянутую площадь, образованную боковым фасадом церкви и тяжеловесной и нелепой архитектурой безразмерного серого здания; оно оказывается университетом. Вдоль фасада стоят бюсты выдающихся выпускников, среди которых выделяется кустистыми бровями голова Нильса Бора.
Обойдя церковь, оказываются у ее главного фасада в виде дорического портика с двумя статуями ветхозаветных пророков по бокам. Это церковь Торвальсена, который украсил ее своей скульптурой. Через стеклянные двери, на которых выгравировано название «Church of our Lady», проникают вовнутрь и оказываются в греческом храме, беломраморном, периптообразном. В конце безупречной перспективы золотая ниша с белоснежной статуей Христа, перед ней – коленопреклоненный ангел с чашей. Совершенство их форм заставляет содрогаться от отчаяния, что ты всего лишь прах, временно наделенный жизнью. Здесь они сталкиваются лицом к лицу с тем, что есть только две вещи в этом мире, о которых нужно думать, – Смерть и Господь.
Раздавленные божьей красотой, они поспешно удаляются в мир, где все культивируют чувство самопотребления. Пытаются вернуться в центр, но набредают на циклопических размеров собор, увенчанный многоярусным медным шпилем, каждый уровень которого – словно память обо всех облаках, на которых возносились святые на небо. Огромные контрфорсы подпирают кирпичную башню, увенчанную апофеозом вычурных форм. На стене собора огромный баннер, где белым по черному сказано, что это не церковь: «I am not a church». Внизу приписка «Nikolay KUNSTHAL». Кирпичный барочный портал увенчан статуей святого Николая, с боков два плаката: один – это сплошная абракадабра из разноцветных букв, другой – это объявление о выставке «MARIKA SEIDLER: HUMAN ANIMAL».
Единодушно решают в переделанный из церкви выставочный зал не ходить, так как это святотатство. Вместо этого отправляются в совершенно пустой итальянский ресторанчик неподалеку, где позволяют себе легкий обед из супа и белого вина. Во время еды их осеняет, что они не видели главную достопримечательность – русалочку. Сразу после обеда идут ее искать и проходят через весь город, мимо здания оперы и плакатов с рекламой нового фильма Ларса фон Триера «Нимфоманка», мимо витрин с разноцветными кошками и милыми вещицами для интерьера, сквозь роскошь Фредерика-Кирхе и звуки хоралов, струящиеся в церковной темноте.
В движении к русалочке они обнаруживают, что вход в любую церковь Дании свободный, за исключением русской, случайно попавшейся на пути: в нее можно попасть только по расписанию и за деньги.
– Такова вера русских, – злорадно замечает рой мух, – прием у Господа Бога по расписанию.
Напротив церкви – приходской дом с рождественской елью во дворе, украшенной игрушками, ворота в который закрыты на здоровенный замок на цепи. Рядом с домом спортивный мерседес-кабриолет с русскими номерами.
– Машина попа, – гудят мухи, – видимо, хорошо подают. Видимо, без подаяния не пускают к Господу.
– Не пускает, – поправляет его Маргарита.
Сразу целая дюжина мух влетает ей в уши и рот. Идут по карте на север, все дальше и дальше от центра, пока не оказываются в парке, раскинувшемся вдоль порта на другом берегу открытой воды. Не без труда находят статую на камне, напротив которой роятся разноязычные туристы. Уже почти стемнело – сиреневые сумерки стремительно скрадывают очертания всех форм, и смотреть уже нечего: пора возвращаться в отель. Даже Гроссман, парящий над ними, ничего в наступившей мгле не может разобрать.
Возвращаются в город, изрядно уставшие и голодные, по дороге ужинают в скучном полумраке случайного ресторана, дорого и невкусно. По ночному городу в жгуче-янтарном свете фонарей через ратушную площадь мимо парка Тиволи обратно в отель, где пары молча разбредаются по своим номерам.
Гроссман в углу комнаты обнаруживает свою пустую голову, куда и юркает трусливой мышкой, зажмурившись со страху, и в надежде, что метаморфозы с его сегодняшними превращениями наконец-то прекратятся.
«Господи, помилуй, Господи, помилуй», – скороговоркой шепчет он про себя до тех пор, пока гул молитвы не превращается в шум воды, уносящий его куда-то в вязко-липкую тягучую прозу Сартра, где у него нет места хранить воспоминания и где плоть так оголена. Ни дать ни взять – ну да, ни дать ни взять, природа без человека.
Глава седьмая
Русская речь
– Добро пожаловать, гости дорогие, хранит вас Господь, многие лета вашему фюреру. Проходите сюда, проходите.
Немецкая речь
«Вот он какой, их священник. Как странно он одет: весь в черном, в широком платье до пола, рукава длинные. И толстый до чего – настоящий шар. Ручки маленькие, детские, пальцы очень ухоженные, все в перстнях. Лицо плоское, красное, почти пунцовое. А глаза узкие и раскосые. Похож на монгола из учебника евгеники. Интересно, поп тоже русский? Он совсем не похож ни на воров, ни на учителя. Что же их всех объединяет?»
Русская речь
– Русский дух!
– Что?
– Русский дух в доме русского человека. Чувствуете?
– Вареной капустой пахнет и дымом. Вы какую-то смолу жгли здесь?
– Ах, молодой человек! Стыдно не знать, как пахнет ладан. Вы что же, в Германии в церковь не ходите?
– Все немцы – атеисты. Мы верим не в Бога, а в законы природы.
– Так ежели у нее есть законы, то их кто-то свыше установил, не так ли?
– Не знаю, не думал об этом.
– А вы подумайте, подумайте. Это никогда не поздно сделать, вы еще так юны. Кстати, герр офицер, представьте мне вашего друга.
– Это Ганс Мюллер, роттенфюрер из фюрерюгенда. Он из города Данцига, что в Восточной Пруссии. Приехал знакомиться с вашими обычаями и народом.
– Поп Гаврила, я думаю, что законы природы устанавливает сама природа.
– Нет. Их устанавливает сам Господь Бог, ее Творец. Это же очевидно.
– Только не мне. Это голословное утверждение, не подкрепленное научными доказательствами.
– А вам, немцам, всегда нужны доказательства. Ничего на веру не принимаете. А мы, русские, без веры в Бога перестаем быть людьми – тут же превращаемся в скотов. Поэтому нам надо культивировать в себе духовность. Герр офицер, рюмочку кагора с морозца? Не откажетесь?
– С удовольствием, Гаврила. И чаем нас угости. А то после разговора со старостой меня изжога не отпускает.
– Охотно, герр офицер. Для наших спасителей у меня всегда найдется отменный английский чай. Из Индии.
– Контрабанда?
– Зачем же – помощь наших прихожан.
– А у них откуда?
– Герр офицер, почем я знаю. Негоже мне, священнику, спрашивать у дарителя, откуда у него дары. Сие есть жертва, угодная Богу, а я лишь его слуга, врачующий пороки мира его именем. Я вымаливаю им спасение, а они мне жертвуют. Такова воля нашего Спасителя.
– А если они отобрали эти дары у нуждающихся?
– Мы все нуждаемся: кто-то в хлебе, а кто-то в вине, а Бог за нас решает, в чем нам терпеть нужду и как долго.
– Ты-то нужды ни в чем не терпишь. Как сыр в масле, как у вас говорят, катаешься.
– Мне положено, я же настоятель. Ничто не должно отвлекать меня от молитв за вашу власть и за мой народ. Вы, немцы, наши спасители, истребили зло коммунизма и безбожие в моей стране. И какой парадокс – вы, немецкие безбожники, истребили русских безбожников, чтобы вернуть нам нашу матушку-церковь. Поистине неисповедимы пути господни.
– Нам просто это выгодно, поп Гаврила. Alzo, здравый немецкий расчет.
– Так-то оно так, только нам, русским, во благо. Теперь мы снова верим в Бога и в церковь ходим.
– Да куда же вам еще ходить? Кроме церкви и бани, нет общественных мест.
– И хорошо, а большего и не надо. Первостепенная задача русского человека – забота о духовной и телесной чистоте. Эй, матушка, неси скорее самовар, а то гости ждут.
– Несу, несу, батюшка. Несу, несу, родимый.
Немецкая речь
«Так вот как выглядит русская женщина: маленькая, аккуратная, суетливая. Лицо глуповато-просветленное. Сложно понять, что оно выражает. Вот ведь как странно: вошла она – и стало так уютно, будто я дома, в приюте. Нет, даже лучше».
Русская речь
– Alzo, господин поп, представьте меня ваш женщина. Я правильно говорю, геноссе Цинобер?
– Да, Гаврила, представь попадье Ганса Мюллера.
– Это жена моя, Авдотья Филиповна. Вот, Авдотья, знакомься с новым человеком из самой Германии. Зовут Гансом Мюллером.
– Да я уж поняла, батюшка, чай, у самой уши есть, имя расслышала. Берите чаек, берите. И баранки берите, господин Мюллер, угощайтесь. У вас, небось, в Германии баранок-то нет. И винца, винца в чай добавьте: ложечку или две, чтоб вкусней было. Пробуйте.
Немецкая речь
«Как странно – мужчина и женщина живут вместе. Это то, что называется „семья“? Неужели они не надоедают друг другу? У нее такое лицо… Все-таки в ней есть что-то ненормальное. Как странно: душевное расстройство придает ее облику удивительную интеллигентность. Что это – моя врожденная сентиментальность, характерная для всех немцев? Интересно, у них есть дети? Может, спросить?»
Русская речь
– Гаврила! Мы только что от старосты, а у него лежит донос на тебя. Еврей ты, оказывается, расово чуждый Рейху элемент. Что скажешь в оправдание?
– Клевета! Какой же из меня еврей? Русский я. Отец в Соловках еще при коммунистах сидел за то, что боролся против евреев-безбожников у себя в приходе. Потом его перевели в лагерь под Воркуту, а после всеобщего восстания в лагерях он женился на моей матери, Анне Петровой. Отец ее был местным оленеводом и уж точно не евреем. У нас, в Сибири, евреи не водятся, герр офицер.
– Ну и хорошо. А что ты знаешь о последнем нападении на казаков?
– Думаю, малолетки из Красных бригад шалят. Это не наши, а залетные гастролеры. Иначе бы я вам первому доложил. На исповеди от своих ничего не слышал.
– Правда? Не врешь?
– Как можно! Я при рукоположении клялся фюреру и Рейху на верность. Подвигом я подвизался, веру вам храню. Век воли не ведать, последней padloj буду, коли соврал.
– А сложно быть попом? И почему вам можно жениться, а католикам или нашим пасторам нельзя?
– Потому, что и католики, и протестанты – еретики. Они не придерживаются апостольского правила. Католики вообще в других богов верят, каковых мы не признаем, догматы ложные создают, а протестанты отвергают церковные таинства и иконы не почитают, священников сами из себя избирают, Священное Предание отвергают. Хорошо, что фюрер запретил католикам папу избирать, а пасторам проповедовать. Хочешь служить или крестить – пожалуйста, а всё остальное ни-ни, как говорится, Verboten.
– А жениться вам почему можно, а им нельзя?
– Потому, молодой человек, что у русских нет целибата для белого духовенства. Мы живем по заповедям церкви, и гласят они, что священник должен во всем уподобиться братьям по вере, чтобы быть милостивым и верным перед Богом. Искушения, испытания, скорби – всё то же, что и у народа. Живу я той же жизнью, что и мои духовные дети. Одним govnom, как говорится, мазаны, одним грехом повязаны. Не то что католические попы да ксендзы. Воображают, раз дали обет безбрачия, значит, уже непорочны и чисты.
– А разве не так? Ведь давать пример безгрешной жизни – ваша прямая обязанность.
– Господи, ну конечно же, нет, мой юный безбожник! Моя задача – врачевать человеческие души, спасать их – от греха, между прочим. Но все грехи проистекают от искушений, а искушения возникают от запретов. Вспомним хотя бы историю грехопадения человека: был всего-то один запрет от Бога – и тут же его нарушила праматерь Ева, ввергнув нас в царство скорби. Надобно с грехом бороться.
– И как вы боретесь?
– Подобное всегда лечится подобным, молодой человек, а грех изгоняется грехом. Неправедность для русского человека – залог святости. Истязай себя грехами, пока не утомишься, и тогда обретешь душевный и телесный покой. На этом всегда стояла и стоять будет духовность земли русской.
– И вы грешите, являя своим прихожанам пример?
– И не стыжусь, ибо как же я буду исповедовать петуха, коли не знаю, что он чувствует?
– Вы исповедуете птиц? Разве такое возможно?
– Я про петуха толкую, так блатные опущенных зовут. Понял?
– Нет.
– Господи! Ну козел шерстяной, курица, гребень. Ясно?
– Вы что, еще и животных исповедуете?
– Герр офицер! Объясните ему!
– Да ты не серчай, батюшко. Он нашу молву не разумеет. Нехристь!
– Так, Ганс, у них называют гомосексуалистов. Понял теперь?
– Кошмар! Вы что, тоже этим занимаетесь?
– Просто на своем примере знаю, что это.
– И что же это?
– Возможность ощутить себя и женщиной и мужчиной одновременно. Понимаешь, ты чувствуешь, как тебя имеют, и одновременно имеешь себя: двойное удовольствие в одном флаконе. Я одновременно и сношающий, и сношаемый. При совокуплении я чувствую проникновение постороннего в меня и в то же время продолжаю удовлетворять себя. Очень сложный букет чувств. Это как превзойти человеческую природу, испытав себя животным и богом сразу.
– Вы утверждаете, что стали сверхчеловеком, занимаясь таким непотребством? Я решительно отказываюсь это понимать.
– Ах, молодой человек, не спешите делать скороспелых выводов. Фюрер тоже отменил для немцев моральные и этические запреты, попытался раздвинуть границы, найти верхнюю точку, где человек превращается в Бога. Мы, русские, у себя на зоне попытались перейти иную черту – что обычно отделяет человека от скотины, презрев заложенные в нас инстинкты. И что же выяснилось?
– Да, и что же?
– Линия движения к обожению или озверению имеет одну точку схода. Человек, перестав быть человеком, немедленно превращается в падаль. Понимаете? Движение вверх или вниз приводит к одинаковому итогу.
– По-твоему, поп, мы ничем не отличаемся от вас, недочеловеков? Раз мы отвергаем вашу мораль, а вы – привычные для нас нормы поведения?
– Разница одна: вы наши палачи, а мы ваши жертвы. В остальном же Бог сотворил нас одинаковыми, ибо все люди братья. Представь: ты женился на русской девушке, она родила тебе детей. И разве ты будешь любить их меньше, чем если бы их матерью была немка?
– Именно поэтому мы отличаемся друг от друга уже тем, что вы всё еще мыслите категориями семьи, а мы – народа. У немцев нет отцов и матерей. Мы – братья по крови, объединенные одной волей и одной целью. Половое рабство в Рейхе отменено, понимаешь? Нам не нужны больше заниматься столь непотребным делом для размножения, как совокупляться с женщиной.
– Разве не для каждого и не на все времена апостол сказал: «Брак у всех честен и ложе непорочно». По священным канонам Церкви мы отлучаем всех, кто гнушается браком или считает нечистыми супружеские отношения! У нас нет запрета на плотские утехи: мы не грешим, а следуем своей природе. Как говорится, без kaifu нету laifu.
– А если все-таки воздерживаться и подавать пример русским? Ты ведь должен их учить их доброте, воспитывать в чистоте.
– Это вы-то, немец, говорите мне такое! И вы толкуете мне про добродетель? Право, удивительно! Вы сами в отношении русских отказались от понятий Добра и Зла, приняв взамен доктрину целесообразности. Что выгодно – то и верно. Моя задача как пастыря – сохранить в народе хотя бы остатки человеческого и выучить его грамоте. А еще, само собой, – привить страх и веру в незыблемость власти Рейха. Таков наш с вами договор. На большее церковь не подвизалась. Ибо мы сознаем, что за грехи свои оказались в новом плену вавилонском. Наш народ должен страдать за свою гордыню.
– Но вы ведь живете как животные!
– Для вас мы и есть животные – рабочий скот на рудниках и заводах. Не забывайте об этом. Герр офицер! Объясните своему юному другу, что для Рейха важно не как мы живем, а сколько людей регулярно поставляем. Если парни прекратят покрывать девок, некому будет работать на ваших заводах.
– Правда, Ганс, хватит идиотских вопросов. Ты из-за иллюзий своего воспитания так наивен в отношении половых вопросов. Совершенно не понимаешь реалий жизни. Не ставь нас в дурацкое положение.
– Но я пытаюсь разобраться в том, что вижу. Лучше спросить, чем понять неверно.
– Ну, тогда спрашивай, но не советуй, как кому поступать.
– Хорошо. Скажи, поп, вот вы с женой – семья, правильно?
– Правильно. Как сказано в Писании, «оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут двое одной плотью».
– Каково это – быть семьей? Вы получаете удовольствие друг от друга? Или вы семья потому, что вам нужны дети?
– Семья – дело ответственное, герр Мюллер. К удовольствию она отношения не имеет. Удовольствие мужики получают промеж собой: ходят вдвоем в баню и ebut друг друга до usrachki, пока zhopa не заболит. А у нас баб заводят, как конезаводчик лошадей: только для размножения. Главное для женщины – хорошие зубы, крепкое тело и нестроптивый характер. Как у моей матушки Авдотьи. Конечно, можно и строптивую взять, но тогда ее все время нужно учить – вожжами по спине. Муторно очень.
– Верно говоришь, батюшко. Жена должна бояться мужа. И плодовитой быть, как крольчиха. Вот я тебе пятнадцать родила, из них семерых выходила. Чем не образцовая жена?
– Верно, матушка. Ты у меня лучшая. Я ведь ее из борделя взял, герр Мюллер. Из блудниц получаются самые верные жены.
– А помнишь, батюшко, до того как тебя рукоположили, какую развеселую жизнь мы вели?
– Ох, помню, матушка. Полихачили вволю.
Прибыла в Одессу банда из Ростова,
В банде были urki, шулера.
Банда занималась темными делами,
И за ней следило ГубЧК.
Эх, bljaha-муха, жисть была лихая.
Грабежами жили,
Казаков мочили,
Молодость беспутная моя.
Да, bezbaschennyi я тогда был.
– Зато, батюшко, когда ты к Богу обратился, всё переменилось.
– Верно, верно. Кто под пулями ходит, всегда в Бога верит. Правда же, герр офицер?
– Так ты, поп, тоже из разбойников? У вас что, здесь все криминальные элементы, нормальных бюргеров совсем нет?
– Бюргеры все за Уралом, а здесь Сибирь-матушка, родина лихих людей.
– Да ты на себя, батюшко, не наговаривай понапрасну. Разве ты лихой? Ты теперь человек божий.
– И то верно, матушка. Когда блаженный старец Порфирий открыл мне истину, жисть моя совершенно переменилась.
– Это ваш учитель?
– Бери больше – духовный отец. Увидел я его однажды. Бродил Порфирий промеж бывших зон и лагерных поселков в одних трусах и веригах, босиком. Призывал нас покаяться за то, что мы, как евреи, второй раз Христа распяли. Увидел его – так сразу и понял, что это не человек, а пророк божий.
– Простите, а что такое «вериги»? Верхняя одежда?
– Какая одежда! Я же сказал, герр Мюллер, что он в одних трусах проповедовал.
– Но я не понимать, не знать, что есть «вериги».
– Вериги – это цепи в пуда два с крестом.
– Что есть «пуда два»?
– Пуд – это мера веса. В русском пуде шестнадцать немецких килограммов. Понимаешь? Он на себе добровольно носил цепи железные с крестом – тридцать два кило они весили. Ходил почти голый на морозе. Такое под силу только праведнику.
– А зачем носить на себе тяжелый цепь на голый тело, в одних траузах? Он, наверное, быль очень глупый? Нет, неправильно: сумасшедший человек?
– Наоборот, он был боговдохновенным, следовательно, абсолютно прозорливым и духоносным старцем. Я как его увидел, сразу понял, что он и есть та сила, что изменит мою жизнь. Порфирий предложил мне всё бросить, раздеться и с ним пойти проповедовать – как двум свидетелям божьим по пророчеству Иоанна, пророчествовать 1260 дней. И будем, говорил, мы, как две маслины и два светильника, стоящие пред Богом пред концом света.
– Ты веришь в конец света? Но это же глупость. Das ist не может быть. Универс вечен. Наука это точно знать.
– Наука ничего не может знать, ибо она есть злобесие. Вся мудрость в человеке от Бога, как в старце Порфирии: он уверовал, и слово его преобразило, дало ему силы нечеловеческие. Жалко, что он умер.
– Отчего?
– Замерз nahuj.
– Что значит nahuj?
– То и значит, что до смерти. Напился в жопу и замерз.
– Как можно пить через заднепроходное отверстие? Это нельзя быть! Можно только какать.
– Господи, ну какой ты непонятливый, фриц. Это я образно выразился: «напиться в жопу» у нас означает «до беспамятства», до полной otkljuchki.
– Я не есть Фриц, мой имя Ганс.
– Да ты ему растолкуй, батюшко, что мы всех басурман немецких так кличем, а то он не понимает.
– Мы, господин Ганс, зовем всех немцев фрицами. Как вы нас кличете иванами. Все русские для вас иваны, ваньки, а все немцы для нас фрицы. Понятно?
– Я verstehen, über все равно не понимать.
– Не всё, Ганс, можно понять, особенно в этой стране. Поверь, я это тебе как немец говорю.
– Ясно, геноссе Цинобер. Опять нелепый русский язык. Ну хорошо, русиши поп, для тебя пример, как жить, биль папа Порфири. И ты тоже стал ходить в траузах и цепях? Я пытаться понять, зачем это тебе. Ведь другой жизни здесь нет и не будет. Мы есть только сейчас. Мы есть то, что мы есть.
– Мы есть то, во что мы верим. Вы верите в Рейх и фюрера, а я – в Бога и пророчества. Нельзя быть сильным, как Бог, а не то сломаешься. Мне жалко людей и самого себя, ибо я тоже человек: я то же govno, что и все, я тоже грешен, ведь хочу, как все, удовольствия и еще раз удовольствия. Но они бывают телесные и духовные: телесные ограничены возможностями тела, а духовные не имеют границ. Следовательно, духовные удовольствия предпочтительней, так как ими не пресыщаются. А теперь я скажу вам, что больше всего меня восхищает в жизни.
– И что же?
– Целеполагание.
– Не есть понять, поп. Поясни.
– Любая жизнь бессмысленна без цели. Например, вам, немцам, ваш фюрер поставил цель – навести мировой порядок. Поэтому ваше поведение во имя достижения этой цели оправдано. Ведь так?
– Jawohl, так и есть.
– Но если подорвать вашу уверенность в правильности цели бытия, то вся жизнь развалится на противоречивые куски, никак не связанные друг с другом. Вместо героев вы, немцы, окажетесь банальными негодяями. А идея вседозволенности вам как сверхлюдям – лишь способ избавиться от ответственности перед совестью за зло, что вы творите. Разве не так?
– Вот видишь, Ганс, я тебе то же самое сказал. Мы лишены ответственности за свои поступки – за всё отвечает фюрер.
– И что, разве это плохо?
– Но тогда вы оказываетесь марионеткой в его руках – в руках обычного, смертного человека, – становитесь заложниками его решений.
– Все люди так или иначе зависят друг от друга. Я не видеть в этом плохое.
– Тогда я спрошу иначе: а в чем цель вашей жизни, помимо служения фюреру и немецкому Рейху?
– Циле? Глупый фраге, я никогда не думать так. Ну, допустим, я хочу быть великий немец, чтобы меня помнили века. Да, пожалуй, что так. Alzo, и что дальше?
– Чтобы помнили хорошо или плохо?
– Конечно, хорошо.
– То есть вы хотите сделать что-то великое для всех людей?
– Нет, не для людей. Только для нас, немцев. Вы не есть для нас люди, вы есть для нас слуги, рабы. Sklave.
– И что же великого вы хотите сделать для немецкого народа?
– Например, истребить всех евреев на земле. Да: захватить Соединенные Штаты Америка и уничтожить всех евреев. Хороший циле, правда?
– И чего евреи вам так сдались? Зачем вам их истреблять? Жиды тоже люди, хотя и плохие. Как сказал апостол Павел, «Отныне нет ни еврея, ни эллина, потому что один Господь у всех. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вы бы, герр Мюллер, о спасении души подумали. Вот главная цель, во имя которой стоит жить.
– Спасение? От чего?
– От смерти.
– От смерти не можно спастись. Всё живое умирает. Das ist die Gesetz. Закон наша Natura..
– То есть вы живете, чтобы умереть?
– Вы опять меня пропаганда в ваша вера? Я живу для того, чтобы жить. Это циле.
– Но разве жизнь не есть страдание? Боль? Много боли?
– Боль есть привилегия живых. Когда умираешь, страдания прекращаются.
– Но это не так, герр Мюллер, вовсе не так. После смерти мы продолжаем страдать, ведь мы не знаем, когда на самом деле кончается жизнь. Боль заменяет нам то, что мы принимаем за реальность.
– Я не бояться боли, как есть гитлерюнге. Наш фюрер учить, что молодежь должна быть равнодушна к боли. Мы не чувствуем ни слабости, ни нежности.
– А вам когда-нибудь было очень больно?
– Очень сильно?
– Да, сильно. Только не говорите, что уколы в попу – это больно.
– Ну, вообще-то больно. А еще зубы болеть. Но я всегда терплю. Когда мне сверлят их без анестезии. Вы впечатлены?
– Нет.
– Почему?
– Если бы вам, герр Мюллер, кто-нибудь пару раз врезал ногой по яйцам, тогда бы вы начали понимать, что такое настоящая боль.
Очнувшись от забытья, Гроссман обнаруживает, что сидит за столом перед листком бумаги, на котором его рукой выведено: «Тогда бы вы начали понимать, что такое настоящая боль». Опять та же проклятая комната, куда его выносит каждый раз, как он засыпает. Он уже не рад, что научился, на свою беду, пробираться в мир к демиургу.
«Зачем мне все это, – в отчаянии недоумевает он, – я же решил бросить писать. Хватит, баста! Я хочу выздороветь. Не думать, перестать себя слушать. Лучше почитать что-нибудь чужое».
Он берет дневник Колосова и, пролистав его до конца, на предпоследней странице читает:
«25 января 1994 года. В наше время быть пессимистом – самое легкое. Куда уж трудней сохранить в себе веру в собственные силы и уверенность в завтрашнем дне. Наша жизнь приобретает все больше и больше черты вселенского парадокса – всем все не нравится и все всем довольны, все считают, что этот мир неправильный, развивается по неправильным законам и в неправильном направлении, и при этом каждый из нас стремится содействовать этому – вот к чему приводят личные амбиции. Желание «попасть в историю» (по Достоевскому). В моей личной жизни не произошло пока никаких – и слава Богу – изменений. Визу я продлил, как это ни странно, без всяких трудностей, еще на год, но остро встал опять вопрос с жильем. Повторяется вновь ситуация, как в заколдованном круге, 1992 года, когда мы (еще тогда мы) стояли перед дилеммой, где жить, и при этом имели время в запасе реализовать свои силы на новом поприще – Stadele. С 18 января по 24-е был в Лондоне, где прошло жюри нашего проекта «Дом для диких кошек» для Франкфуртского зоопарка. По-новому открылся для меня Piter Cook, он оказался таким говном, каких я мало на своем веку видел. Особенно шокировало меня его отношение к Gotz Stockman-у, когда он попросил Piter-а оставить его в Stadele. Он на него просто положил с прибором, да так некрасиво, откровенно. Фу, гадкая, противная скотина, с жидовским душком. Даже вспоминать неприятно этот разговор в Soho между ним и Gotz-ем в нашем присутствии. Gotz – просто душка. Он просто под конец дня нажрался и излил душу на Piter-а, который в ней и захлебнулся.
Лондон, с одной стороны, оставил гнетущее впечатление. Город очень дорогой и выглядит, как базар: не имеет стройного и единого вида. С другой стороны, Лондон все же столица, и деньги, если они у тебя есть, можно потратить с пребольшим удовольствием. Но все равно жизнь из него уходит. Лучшее его время, как мне кажется, проходит, и хорошо, пусть это время станет нашим, русским. Помимо этого в школе произошли свои перемены – Мираллес получил большой fuck of от Кемница (Карл-Маркс-Штадт) и обещал выгнать всех, включая и нас, если студенты не будут работать. Так типично для него, что уже не удивляешься. Поживем – увидим, чем это кончится. Во всяком случае, в политическом плане кое-что изменилось. Появилось объявление, что Enric хочет встретиться сегодня со всем архитектурным классом, не только со своей группой. Этакий званый вечер для незваных гостей в духе испанских мистерий, а я, как всегда, в роли Дон Кихота, а Хуан Карлос – в роли Санчо Пансы.
3 мая 1994 года. Франкфурт-на-Майне.
Жизнь проходит… со скоростью литерного, мерно постукивая колесами по стыкам рельсов и укачивая бешеных пассажиров в летаргический сон самоуспокоения устроенности. Боже, я становлюсь все старее и старее, а так ничего, абсолютно ничего стоящего не сделал. У меня ничего и никого нет, я один-одинешенек, у меня нет даже Родины, так как я ее не люблю, не люблю – ну что тут поделать – эту немытую Россию. Не вызывает она у меня ничего, кроме раздражения и зависти к другим странам. Я одинок и непреклонен, сгибаюсь только под натиском внешних обстоятельств и искренней веры в Господа Бога. Может быть, хоть он мне поможет в этой жизни найти верный путь, даст путеводную звезду и «сладкую жинку» с полной хатой в придачу. С течением времени я становлюсь все более и более глупым и неинтересным, я это просто физически чувствую, для чужих людей. Возможно, это и называется «безродный космополитизм». Возможно.
Мой день рождения прошел на редкость незаметно и без особых излишеств. Я проработал полный день в Бюро, и даже никто меня не поздравил. И ладно. Это же моя частная, сугубо личная жизнь. Одиночество – страшная все же вещь, самая лучшая дисциплина духа».
Гроссман кладет дневник обратно, плохо понимая, что же ему теперь делать: и чужое читать не хочется, и писать – тоже. Как вернуться к нормальной жизни, избавившись от умственной лихорадки, мучающей его, вот вопрос из вопросов. «А если покончить с собой?» – мелькает у него в голове шальная мысль, но даже думать об этом страшно. Ему невыносимо хочется жить, ему хочется любить и быть любимым, но он совершенно на это не способен: внутри пустота, которая делает его жизнь отчаянно легкой и пустой. Подойдя к кокону, он крестится и ныряет в него вперед головой.









































