Текст книги "Поездка в ни-куда"
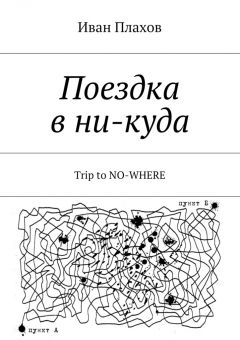
Автор книги: Иван Плахов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Глава третья
Немецкая речь
«Ну, вот я и в Сибири. С ума сойти, насколько всё нереально: еще пять часов назад я завтракал в приюте, а школьный оберфюрер Вайс мне давал последние инструкции… И вот я здесь, среди снегов и льда, – еду по тундре в один из поселков, где проживают русские. Говорят, тут зимой так холодно, что слезы превращаются в ледышки, а воздух, когда выдыхаешь, тут же становится снегом. Б-р-р! Страшно представить, как здесь морозно. Слава богу, что я приехал в марте. Хотя до сих пор вокруг лежит снег и дует студеный ветер. Мне кажется, что если ад и существует, то он должен располагаться где то здесь: тут большую часть года темно и холодно. Данте, помещая своего Люцифера в центр земли, думал, что это самое страшное место в мире. Как же он ошибался, сидя в своей теплой Италии, предполагая, что подобного места не может быть на поверхности земли. Вот она – страна вечного льда и горя, где всё живое обречено на страдания. Как прозорливо фюрер поместил славян именно сюда, в земной ад, в наказанье за строптивость и за то, что они так долго мешали нам двигаться на восток».
– Геноссе оберлейтенант, как долго вы здесь служите?
– Что, парень, страшно? Ничего, не бойся. Пока я рядом, бояться нечего. Небось окружной комиссар наговорил тебе немало страшилок про местных? Теперь сидишь и думаешь, как бы побыстрей отсюда ноги унести, а?
– Да ничего я не боюсь. Мне, конечно, приятно, ведь вы лучший егерь округа. Приятно, что именно вы сопровождаете меня в поездке. Но я, в отличие от других ребят в моем классе, знаю язык славян и могу на нем говорить! И не боюсь. Просто я хотел заметить, геноссе Цинобер, что эта местность сильно смахивает на преисподнюю в моем представлении. Здесь, наверное, всегда темно и страшно холодно?
– Не то слово. Зимой – сущий ад: мороз пробирает до костей, ни дня без пурги, а ветра столь сильные, что кажется, будто с тебя живьем кожу сдирают. Знаешь, как местные прозвали здешние горы?
– И как же?
Русская речь
– Они их называют Норильские горы. А знаешь, почему?
– Почему?
– Говорят, что здесь, куда ни пойди, ветер всегда на рыло дует.
– Что значит «рыло»?
– Они так свои лица называют.
– Как странно! Я этого слова не слышал. Я знаю, что у русских есть глагол «рыть». Его форма в среднем роде в прошедшем времени будет звучать как «рыло». Можно сказать: «оно рыло», «нечто рыло». Слово «рыть» – синоним «копать», не так ли?
Немецкая речь
– А ты неплохо знаешь русский язык, в отличие от других парней, что нам сюда присылают. Сразу тебе скажу: если не знать языка, то совершенно невозможно понять ни мотивы их поведения, ни самих недолюдей. Порой язык народа говорит о нем больше, чем вся его история.
– Точно, геноссе оберлейтенант! Просто диву даешься, как они сумели изобрести столь чудной язык. Странная грамматика и синтаксис, никакого порядка в построении предложений! Не то что немецкий…
– Ну ты, парень! Не путай язык, на котором говорил Гёте, и язык недочеловеков. Как-никак, а они все-таки недолюди, отсюда и беспорядок в их варварском наречии. Никакой гармонии и четких правил построения. Одно и то же предложение может быть и повествовательным, и вопросительным – всё зависит от интонации.
– Может быть, поэтому они не умеют самостоятельно жить? Эмоции их постоянно захлестывают, не позволяя принимать обдуманных решений. Я читал, какие чудовищные были правители у славян до их европеизации царем Петром. Наши историки пишут, что всех царей до Петра это дикое племя почитает как святых. Славяне молятся им, как главным заступникам, совершенно не замечая, что те к ним, простым людям, относились, как к скотам. Возможно ли такое?
– Да у них, парень, всё возможно. Скажу тебе по секрету: каждый русский думает, что именно он – Господь Бог, а все остальные вокруг – антихристы. Это, если хочешь знать, их национальная идея. Вообще, религия – их пунктик. Они повернуты на вере.
– Это как? Они что, очень религиозны?
– Да я бы не сказал. Я славян наблюдаю уже пять лет, как меня сюда перевели с Кавказа. И должен сказать, что более нечестивого и в то же время суеверного народа я еще в жизни не видел. Они исповедуют какую-то странную веру, в которой грех – главный побудительный мотив.
– Что это значит?
– Славяне все поголовно утверждают, что если не согрешишь, то и не покаешься. А покаяние, по их глубокому убеждению, – единственный путь к Богу. Поэтому они постоянно грешат, нарушая все мыслимые и немыслимые запреты своей церкви. Потом славяне идут к попам, каются в совершённом непотребстве, те им отпускают грехи, а они с чистым сердцем идут вновь грешить. Вот такая у них вера.
– Геноссе Цинобер. Я национал-социалист и не верю в бога, но кое-что знаю о христианстве. По-моему, эта вера не имеет с ним ничего общего. Ведь христианство призвано делать человека лучше, освобождая его от рабства плоти и совершенствуя душу. Единственный путь к Богу – это добрые дела. Если бы не преданность идеям фюрера, то я бы хотел быть христианином, чтобы вести безупречный образ жизни.
– Ха, геноссе Мюллер, ты рассуждаешь, как добропорядочный немец. Для нас христианство – это работа, где заказчиком выступает сам Господь Бог. Если ты ее сделал хорошо, то тебе за нее хорошо заплатят. Но славяне же недочеловеки, следовательно, они верят не в Бога, а в спасение. Понимаешь, парень – в спасение!
– Разве спасение и вера не одно и то же? Разве обрести спасение – это не соединиться с Богом?
– Для нас, арийцев – да, для них, славян – нет. Их Бог – это ужас, перед которым не устоит ни один из смертных. Бог – тот же древний царь, жестокий и непредсказуемый. С ним нельзя договориться, от него можно только спастись. Понимаешь, парень – спастись! Неважно, какую жизнь ты вел до того, как с ним встретился, понимаешь, совершенно неважно. Главное – спастись.
– Через покаяние?
– Именно, парень, именно. Все они пытаются купить спасение, а не заслужить. Может, это следствие ужасной судьбы, что постигла их государство после разгрома в Великой войне.
– Вы это так произнесли сейчас, будто им сочувствуете. Разве они не заслужили поражение безумием своего большевистского правительства и его политики?
– Никто не знает, как бы сложилась та война. Гудериан мог не захватить с ходу Москву. Славянские маршалы могли не поднять мятеж против большевиков. Поэтому мы могли проиграть Великую войну. Нам просто чертовски повезло.
– Геноссе оберлейтенант, неужели вы не верите в гений нашего фюрера?
– Милый мой, я с тобой сейчас разговариваю, как солдат с молодым наивным мальчишкой, который впервые покинул стены дома и оказался на территории проживания наших естественных врагов. Я воевал и знаю, как много в войне значит удача. Да-да, простое глупое везение. Оно для солдата намного важнее, чем хорошо продуманный план боя или уверенность в том, что идеи нашего гребаного фюрера всегда верны. Фюрер был всего лишь везучим сукиным сыном. Ему повезло, он выиграл у русских, теперь его боготворят. А если бы фюрер проиграл, то большевики и американцы объявили бы его величайшим мерзавцем всех времен и народов и повесили вверх ногами в назидание выжившим после разгрома немцам.
– Но ведь он выиграл. Победителей не судят.
– Это точно. Поэтому мы с тобой, парень, сейчас едем к русским творить над ними расправу, а не наоборот. Русское государство оказалось несостоятельным в исторической перспективе, не создав ничего ценного.
– Так же, как и русский народ. Он не способен на самостоятельную жизнь и роль в истории. Правда же?
– Ясное дело! Это даже не требуется обсуждать.
– Тогда почему вы все-таки жалеете славян? Ведь я прав – вы им сочувствуете? Признайтесь, оберлейтенант, вы им сочувствуете?
– Отчасти. Легко смеяться над страной, в которой всё плохо, не замечая, что твоя собственная жизнь – полное дерьмо. Нас, немцев, вынудили стать палачами всех эрзац-народов, которым яйцеголовые доктора-антропологи из Германии не разрешили существовать. А быть палачом лично мне не нравится. Мерзко убивать ни в чем не повинных недочеловеков только для того, чтобы запугать остальных. Да и бесполезно: они всё равно восстают и восстают. А мы их убиваем и убиваем. Плохо это, парень, плохо.
– Но вы же кадровый офицер. Это ваша профессия.
– Моя профессия – воевать, а не истреблять местных туземцев только за то, что они не хотят жить по законам, которые мы им навязали. Немцы всё больше и больше становятся похожими на сумасшедших. Вымазались с головы до пят своим дерьмом и утверждают, что они боги.
– Что вы подразумеваете под словом «дерьмо», оберлейтенант?
– Дерьмо и подразумеваю, парень. Мы все сошли с ума, парень, мы все сумасшедшие. Я не знаю, как ты, но мне в мои сорок лет незачем жить: нет цели. Нельзя же, в конце концов, считать целью очередное звание или поездку в отпуск к теплому морю. И уж тем более пропагандистские лозунги Розенберга и Геббельса, эту устаревшую нацистскую галиматью. Интеллектуальное дерьмо, обернутое в мистические слова вроде «вечная полярность», «первичный феномен» или «самобытное германское мышление». Мышление, которого нет!
– Как это нет? Мы изучали его на истории и прикладной евгенике.
– Эх, парень, парень. Мышление у всех – у французов, англичан, итальянцев – одно и то же. Оно есть у всех людей, умеющих говорить и различать чужую речь. Даже у русских, хотим мы этого или нет. Я лично презираю нацизм за то, что он обрек Германию на интеллектуальную нищету.
– Вы что же, геноссе оберлейтенант, противник существующего режима? Получается, германский народ сам по себе, партия сама по себе, а фюрер сам по себе? А как же наши достижения в науке и искусстве?
– Какие достижения? Чего мы добились в искусстве? Или в философии? В литературе? Кто из наших партийных писателей создал значительный труд, который можно поставить на одну полку с Гёте или Шиллером? Читать роман Ханса Гримма «Народ без пространства» может только министр пропаганды или глава Имперской палаты литературы, но никак не просвещенный немец. С идейками в нем жидковато, как и во всей нашей нынешней литературе.
– Вы просто завидуете писателям. Они создали образы солдат и рабочих и стали известными.
– Я завидую не им, а образцовым арийцам с «самобытным германским мышлением», которые не отличают пропаганду от искусства. Эти дураки могут потреблять дерьмо в неограниченном количестве. Национальную идею заменили спорт и культ красивого тела. К сожалению, я лишен этого са́мого специфического «германского мышления» и потому страдаю, ведь искусства в нашей стране нет. Если бы не контрабандные фильмы и музыка, повесился бы от скуки – интеллектуальной скуки. Назвать искусством дерьмо, которым нас каждый день пичкают по радио и телевидению, совершенно нельзя.
– А мне нравятся германские патриотические фильмы. И вообще, я с вами не согласен. По мне, ваш Гёте – пустомеля какой-то, а его Фауст – вообще дегенерат. Лучше читать «Песнь о Нибелунгах» и слушать Вагнера, нежели восторгаться Шиллером и танцевать под музыку Штрауса. Это всё хорошо для девчонок, но не для нас, настоящих немецких парней. Надо восхищаться героем, а не анализировать его.
– Ладно, парень, забудем об этом. У каждого свое восприятие жизни. Сегодня у тебя будет повод доказать, что ты герой.
Поставив точку, Гроссман удовлетворенно вздохнул и, сладко потянувшись, выдохнул:
– Ну что, съел, су-у-ука-а-а? Чем я не Господь Бог, тоже могу людей лепить из любого говна, что под руки попалось. Теперь можно и передохнуть.
Он аккуратно складывает новые и старые листы в стопку, отложив ее в сторону, берет тетрадь с дневниками хозяина и вновь с жадным любопытством листает ее, выискивая записи, которые он еще не прочел. Тут же натыкается на следующую:
«В октябре 1992-го мы съездили еще раз в Москву, где все время провели в Дубне, зализывая наши раны, полученные неспокойным концом лета 1992-го, а затем вернулись в уже новую квартиру во Франкфурте, которую мы получили взамен нашей конурки под крышей, где под конец дня температура была такой же, как в духовке, когда тушат рождественского гуся. Новая квартира была маленькая и очень шумная. Напротив располагается пожарная часть, и каждые полчаса с ревом и воем сирен уносятся прочь пожарные машины. Вообще, нужно отметить, немцы любят шуметь, когда им это разрешено. И вообще, очень шумная сама улица, с оживленным движением транспорта, так что я мог спать только до 8 утра, но со всеми удобствами, с холодильником, с кухней, кабельным телевидением и, конечно же, ванной с туалетом (чего не было в нашей предыдущей квартире).
Как основной проект мы получили Osthafen. То же, что делал Мираллес для «DAM» прошедшим летом. До католического Рождества проект шел ни шатко, ни валко, а так себе. Основная новость была, что Мираллес получил professorship и резко изменил свое отношение ко всем студентам, показав нам свои волчьи зубы (в прямом смысле этого слова). Он так завернул гайки, что все только пискнули и расстались с этим сладким словом «свобода».
На Рождество мы последний раз ездили вместе с Оксаной в Совок. За последний год наши отношения все более и более обострялись, пока не закончились форменным разрывом. Мы продолжали жить в одной квартире, но в разных комнатах, и стали окончательно чужими друг другу. Я полностью убедился, что ни с моральной, ни с тем более физической точки зрения мы не подходим друг другу, что нам нечего делить и нечего делать вместе. Я видел, что она стала искать кого-либо другого, к кому можно «присосаться», порой в прямом смысле слова, и висеть на нем так долго, как возможно, и не препятствовал этому. Я получил от нее физический и моральный эксперимент близости с человеком другого пола и другого образа мышления. Теперь я знаю, что женщина – это довольно грязное животное, которое заботится только о своей промежности, которое постоянно подмывается и часто потеет, любит деньги и удовольствия и не хочет работать, тратя свое время в постели: «Я так устала, у меня нет сил, я слабая, хочу спать». Теперь перед любой физической близостью я могу представить, что будет после и каким на следующее утро станет любое (пусть самое привлекательное) лицо – заспанным и некрасивым, а изо рта будет пахнуть нечищеными зубами. Что во время менструации от женщины пахнет похлеще, чем от помойки, и в сексе она хочет удовлетворить только саму себя, не особо волнуясь о партнере. Это все было довольно-таки удивительно: оставаясь с кем-либо наедине, ощущать себя абсолютно одиноким и никем не понимаемым.
Тем не менее, этот этап был пройден, и после поездки в Барселону – перед Рождеством – мы расстались. Визит Оксаниной мамы в феврале поставил все точки над i, ибо Оксана, я так думаю, получила негласное благословение от матери на то, что собиралась сделать. Она нашла себе Питера – один английский архитектор, с которым она познакомилась в процессе работы в офисе Braun-Vogt, – и вполне удовлетворилась. Растительная жизнь ее продолжилась с другим, на радость папе с мамой.
Помимо других новостей, больших и маленьких, ничего особенного в моей жизни не произошло. Я так и не собрался с духом и не нашел времени написать трактат о Боге: работал каждый день в школе. Год был на редкость неудачным, не принес ни одного приза или награды. Я сделал два конкурса, каждый из которых был продуман и до деталей разработан (общественный туалет и мост), но так ничего и не выиграл. Через Фауста, бывшего нашего шефа в НРР, я познакомился с одной немецкой семьей, жена главы которой русская. Я получил заказ на крыльцо (обычный навес из стекла), который до сих пор и пытаюсь делать. Все, как говорится, в процессе. А процесс «пошел… и углубился». Ее имя Ольга, сама она родом из Москвы, вышла лет 15 назад замуж за немца из Западного Берлина. Эмигрировала: сначала в Америку, где работала вместе с мужем, а затем в Германию, где родила двух детей. Они купили дом, у них две машины: Volkswagen-disel и Mercedes-Benz, живут они в маленьком поселке под Франкфуртом. Обычная, среднестатистическая немецкая семья, если не считать, что она сама родом из России и что Веймар – муж – чувствует свое моральное над ней превосходство, все время давая ей понять, что он ее осчастливил, женившись на ней.
Я работал все зимние каникулы в офисе Braun-Vogt, где местные старожилы метко окрестили архитектурный процесс как «way of losing opportunity»: учился играть на пианино с помощью молотка. В какой-то мере мне это удалось, ибо под конец я прославился как чуть ли не самый способный архитектор в офисе. Как это ни странно, с коммерческим у меня получается много лучше, чем с концептуальным. Дело в том, что ситуация в школе обострилась до предела (контакты между Мираллесом и студентами) и закончилась взрывом. Сначала студенты были недовольны, что он не приезжает часто и абсолютно не учит, используя пребывание в школе для обделывания своих делишек. На собрании они выработали документ, в котором говорилось, что они хотят создать альтернативный Мираллесу класс. Прошло собрание вместе с директором школы Каспаром Кенигом и сами Мираллесом, где эта программа обсуждалась. Под конец Мираллес обвинил нас всех, студентов, в том, что мы плохие, и пообещал отомстить на финальном жюри.
На жюри он обосрал все проекты и отобрал только несколько человек, кто механически копировал его и с кем у него были хорошие отношения. Под конец Мираллес сказал, что тех, кого он не отобрал (80% студентов), он надеется посмотреть снова в октябре, и если мы что-либо сделаем, т. е. улучшим проект, то он нас примет обратно. Заведомая ложь: на следующий день после жюри студенты получили факс, где говорилось, что жюри было лишь формальной игрой, что жюри не обсуждало проекты. После всего этого напрашивается только один вопрос: «А что обсуждало жюри, если не архитектуру?» Я разговаривал с Кэтрин (ассистентом Мираллеса) и с Питером Куком, и они мне заявили: это не недоразумение, а нежелание Мираллеса видеть меня в этой школе: он не хочет иметь студентов из «сраной России». Что ж, опять повторилась история с Орхусом, когда мне показали мое место, которое, как известно, у…
Я работал в этом году больше, чем другие, и пытался учиться, учиться, все время думая и пытаясь улучшить и развить свою архитектуру. Под конец я обнаружил, что это никому не нужно. В моей ситуации, как, впрочем, и в положении остальных студентов, повторился сюжет типичного американского вестерна о чикагских бандитах. Нас убили еще до жюри, т. е. до решения о нашей смерти, решение приняли заранее, за месяц, и мы уже были обречены, как обречен какой-либо персонаж, например наемный убийца, который уже сделал свое дело и от которого боссы решили избавиться. Он может жить, но пуля уже сидит в его сердце. Но мне было интересно смотреть на реакцию людей, кто не принимал решения, но знал о том, кого решили убить, смотреть на их поведение и общаться с ними. Как они и что они чувствовали все это время, умудряясь порой, не мигая, смотреть и лгать в глаза обреченному на смерть. Это было самым интересным и самым глубоким чувством, которое я испытал. У нас так пока не умеют. Теперь-то я уж знаю, кто и как перешагивает через трупы. И если сейчас или в будущем меня спросят: «Кто такой Энрик Мираллес?» и «Кто такой Питер Кук?», то я отвечу без колебаний и сомнений: это архитектурная мафия, насквозь продажные люди, которые заботятся только о собственных интересах. Спекулянты от архитектуры и спекулянты архитектурой. А просто с человеческой точки зрения они обычные человеческие подонки, говнюки и бездушные, бессовестные люди. Здесь, в Städelschule, я понял, что происходит в современной архитектуре и в каком направлении. Архитектура повторяет судьбу изобразительного искусства, превращаясь в средство спекуляции и фальсификации имен. Произошел реальный разрыв между потребителем (прошу прощения за такое утилитарное выражение), когда реальную архитектуру, так называемую «пластиковую архитектуру», архитектуру офисов и бюро, для банков и контор, массовое жилье делают большие компании, а «концептуальную архитектуру» делают журналы и критики, спекулируя на именах и сочиняя заумные теории, «создавая новые имена и новые направления». Достаточно иметь хорошие связи с издателями, нанять талантливого критика – и дело в шляпе.
А как живут все эти «имена» и с чего? А просто они учат, учат: работают как профессора. Обучение в большинстве своем платное, студенты, чтобы затем работать в «реальной архитектуре», должны получить диплом, т. е. выучиться, вот они и платят для содержания профессоров, кующих кадры для «реальной архитектуры». Здесь также надо задействовать тщеславие, когда люди хотят стать известными, они идут на любые жертвы. Из этих впоследствии и образуется материал, из которого путем направленной селекции критиков и издателей и возникают новые имена. То есть им платят, надеясь в будущем стать одними из них. Прям как в «Докторе Фаусте» – советы Мефистофеля чудаку человеческой породы, прозванному в насмешку ученым. В этом предложении слишком много слов с буквой «и», исключая только одно – «человеческое». Импровизируя на тему Ницше, можно сказать: «Бесчеловеческие уроки человеческой цивилизации – чем дольше живешь, тем меньше хочется жить».
Снова 22 июля 1993 года. Жизнь сделала большой круг и вернулась на прежнее место. Все те же, все те же декорации, только номер акта нашей пьесы уже на порядок больше. Ружье должно выстрелить, и оно выстрелит, хотим мы этого или нет. Время меняет нас и меняется само, хотя мы этого и не замечаем. Именно поэтому я снова решаюсь приступить к трактату как попытке определить себя и свое место в этом мире. И как говорится, «С Богом, дорогие товарищи, с Новым Богом».
Отложив тетрадь в сторону, Гроссман самодовольно улыбнулся:
«Ну теперь-то я все знаю о тебе, срань Господня, объявившая себя демиургом. Неудачник, обыкновенный неудачник. Только и всего. И как я до этого сам не додумался. Я, конечно же, не баловень судьбы, но я хотя бы пытаюсь, в отличие от него, состояться в этой жизни. И я состоюсь, черт побери, даже вопреки проискам этого засранца. Да, я состоюсь. Опубликую свой роман-разоблачение – и меня заметят. Только нужно будет еще забористей писать, побольше гадостей да посмачней. Так победим, да, так победим – пробьемся».
Гроссман встал и прошелся по комнате, чтоб слегка размяться после долгого сидения за столом.
«Интересно, то, что мне снится, это реальность или галлюцинация моего ума? Вообще, как такое возможно – во сне писать роман как будто бы о реальной жизни? Смогу ли я его восстановить в реальной жизни после того, как окончательно проснусь? Но с другой стороны, даже если то, что сейчас происходит, это лишь моя галлюцинация, то память о ней неизбежно должна оставаться в моем мозгу, и я всегда смогу ее извлечь и зафиксировать на бумаге. Интересно, что будет дальше? Реален ли сам этот демиург, в комнате которого я нахожусь? Или же он – плод моего воображения, внутри которого нахожусь я сам? Слишком много вопросов, на которые не ответить. Пора отсюда валить».
Гроссман ныряет внутрь войлочного кокона и оказывается в кромешной темноте. «Эта тьма на самом деле или она снится мне?» – мелькает в его голове какая-то совсем уж нелепая мысль, и он засыпает. Снится, что перед глазами мелькают разноцветные огни: из черноты выстреливают вспышки белого и голубого цвета, которые рвутся и складываются в причудливые видения, но они меняются столь быстро, что совершенно невозможно понять, что они собой представляют. Проваливаешься сквозь них, как будто летишь через мириады созвездий где-то в бесконечности. Все быстрее и быстрее все меняется перед глазами. Наконец ты оказываешься где-то (кажется, что это тело кота), где тебя охватывает такая эйфория, что душа вылетает из тела, повиснув созвездием, гроздью атомов, каким-то золотистым дымком. Становится так страшно, что ты ее потеряешь, что хочется проснуться, а не можешь. От страха пытаешься выскочить из сна, просыпаешься в испуге, который отдает горечью упущенного восторга, а затем снова ныряешь в сон, но уже никакой: пустой, как рутинные будни. Снова голос в голове, рассказывающий о чем-то, что ты сегодня делал, делал, делал. Господи, когда он перестанет говорить. Ты бежишь своего мозга, который требует к себе внимания. Надо как-то его отключить. Бессонница-а-а-а-а-а-а…









































