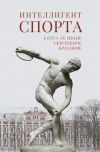Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Майя Кучерская
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Москва
Ты была совсем другой
1.
Мобильник булькнул и щекотнул бедро, когда Рощин заходил в лифт.
Пока кое-как выуживал телефон из обтягивающего кармана джинсов одной рукой, другая держала пакет с продуктами, жал вслепую на экран, эсэмэска открылась, сама.
«Ты была совсем другой. Как прикажете понимать?»
Рощин поморщился, достал уже этот спам, глянул, от кого.
Эсэмэска была от отца.
Лифт рокотнул, остановился и выпустил его наружу. Ответить не хватало руки.
Он повесил угластый, с торчащими коробками молока и печенья пакет на крепкий крючок, им же заботливо недавно вбитый. Дашка долго уговаривала и уговорила – сделал ко дню рождения ей сюрприз, вкрутил! Два дня его трудовой подвиг оставался не замеченным, пока сам не выдержал, не подвел к крючку. «Так это ты? – изумилась жена. – Я-то думала, сосед, обрадовалась…»
Стоя перед дверью, быстренько набрал: «Отец?»
Тут же прилетел бодрый ответ: «Ошибка!»
Только после этого Рощин вмял кнопку звонка. И сейчас же глухо загрохотал за двойной дверной преградой приветственный лай Кулибина, забился сладкий юлькин писк, дверь распахнулась, он сделал шаг вперед. Дальше пробиться Рощин уже не смог – Кулек, не дожидаясь, пока он войдет, начал лизаться, Даша подхватила пакет, Юлька, бесцеремонно отпихивая собаку, недовольно ткнулась в живот лбом, чуть подвывая: почему, ну, почему меня всегда обгоняют! – морок растаял.
После ужина, возни с дочкой на ковре и очередной серии любимой Дашкиной жвачки о средневековых страстях, Рощин глядел за компанию, но тоже оторваться не мог, уже лежа в кровати, снова открыл сообщения. С невозможной надеждой: там ничего нет. Никто ему не писал, глюк! Или ладно, писал, но с незнакомого номера. Новый вид телефонного мошенничества, интересно только, в чем засада. Снова ткнул мизинцем в белый пузырь сообщений.
«Ты была совсем другой…», пославший сообщение контакт сверху: «ОТЕЦ».
Через два месяца, в конце декабря, отцу исполнялось 80. Рощин был поздним ребенком.
Ты была совсем другой! Какое отличное – ритмичное, жесткое – начало рэпа. Можно спеть. Хорей собственно.
Кому было это письмо? Разве не ясно.
2.
Дашка лежала рядом, читала очередной детективчик-на-ночь, с обычной своей непосредственностью – хмыкала, хихикала, в страшных местах тихо ойкала; Рощин стирал накопившиеся сообщения, одно за одним, все подряд, и предпоследнее тоже. Нет, нет, это не первое было сообщение, не первый сигнал сигнал, звучали они и раньше.
…Тысячу лет назад, например, когда пошел первый снег. Он учился тогда классе в шестом, кажется. Стоял конец октября, вечерами воздух из холодного превращался в морозный, хрусткий, но по-прежнему бесснежный… и вдруг. Утром мама разбудила его словами: знаешь? Первый снег! Он тут же вскочил, легко, спать сразу расхотелось, мама пошла на кухню, он скакнул к окну, и, ослепленный, снова метнулся к постели, набросил на плечи одеяло, раскрыл балконную дверь, шагнул в холод. Снег аккуратно покрасил белым узкие темно-рыжие листки ясеня, кружевного и удивленного, лег на все еще зеленую липу, на пожухлые желтые листочки берез, покрыл тонкой шалью пурпурные кусты вдоль детской площадки, припорошил горку, песочницу и узорчатый теремок.
Становилось зябко, но он, минутный король этого снежного королевства, закутался в свою мантию поплотней, и не уходил, глядел – на далекую, словно зажмурившуюся рябинку в детском саду напротив, на крышу сада, сейчас она была не металлической серой, а белоснежной, мягкой, и кирпичный сад оказался вдруг цвета его любимой команды. Снизу поддувало, ноги мерзли, но он упрямо стоял и вдыхал свежий влажный воздух, пока не закоченел совсем. Наконец, двинулся назад, в комнату, задел свисавшим одеялом дверцу балконного шкафчика. Дверца раскрылась. Он уже потянулся ее захлопнуть, и не успел, зацепившись глазом за странность – что-то розовое.
На верхней полке прямо на отмытых литровых банках лежала коробка.
Плоская, кремовая, в рельефных темно-розовых тюльпанах, перевязанная алой ленточкой. Рощин глядел и понять не мог: как она попала сюда? В банки… Что это? Конфеты?
На пороге комнаты вырос отец. Еще утренний, в одних трусах, запыхавшийся после своих упражнений – каждый день он делал с гантелями зарядку.
– Ты б еще голым на улицу вышел! Воспаление легких хочешь получить?
Рощин, загораживая дверцу собой, пнул ее попой, вошел в комнату, застывшими пальцами повернул ручку балкона.
Отец надвигался на него.
– Ты что там делал? Зачем выходил? Яйца хочешь себе отморозить?
– Я? снег первый, пап… – запинался Рощин, но отец уже склонился над ним и врезал ему крепкий подзатыльник.
В гневе он часто кричал на него, но руку обычно не поднимал. И не говорил грубых слов…
«Снег», повторял Рощин, уже сквозь всхлип – оплеуха была не страшной, но обидной: за что? Отец не слушал, он был уже на кухне, громко говорил маме, что не удивится теперь ничему, и если этот идиот подхватит воспаление легких…
– А я-то думаю, откуда дует?! Лежу на ковре, по спине так и несет. Моржом скоро станет, – отец не унимался.
Даже свою зарядку в то утро доделать забыл.
Почему он так разозлился? За здоровьем сына никогда он особенно не следил, этим, как почти и всем, что было связано с ним, Кириллом (отец называл его только полным именем, никаких Кирюш!), занималась мама.
Теперь Рощин не сомневался: да из-за коробки же. Отец вряд ли уловил, что сын ее обнаружил, но ощутил дыханье опасности, нутром, вот и прискакал из соседней комнаты в два прыжка, жилистый, мускулистый, такой спортивный! – защищать свою тайну. Что это его тайна, Рощин и тогда, двадцать лет назад, догадывался, но и тогда, несмотря на нежный возраст, знал: неожиданную находку не стоит ни с кем обсуждать. Никогда.
В тот день, вернувшись домой, пунцовый, распаренный игрой в снежки на пустыре за школой, он сразу же, не скинув избитую вражескими комками куртку, прямо в ботинках протопал к балкону.
Коробка лежала на месте.
Там, где он и засек ее утром, на верхней полке, такая же нездешняя, чуть капризная, заметно презирающая унылые, прозрачно-правильные банки. Видно, она приехала из Франции, из Марселя, отец только что там побывал, на конференции, привез между прочим и ему отличный набор для рисования – смирился к тому времени с его рисунками. А маме коробку… День ее рождения отметили в конце лета, до восьмого марта было еще далеко, значит, на Новый год.
Что же пряталось там, внутри? Рощин осторожно поднял ее обеими ладонями, коробочка оказалась невесомой! Нет, это не конфеты. Вернулся в комнату, сел за свой тесный письменный стол, потянул шелковую ленточку, узелок распался. Снял крышку. Из коробки дохнуло ароматом новой дорогой вещи и чего-то еще, весеннего… ландышей? Будто надушили духами.
Он потянул носом еще, но из распахнутой двери балкона подуло мокрым холодом, аромат стал почти неуловим.
Сквозь папиросную бумагу ванильного цвета просвечивало что-то лазурное. Рощин сунул пальцы внутрь – подушечки ткнулись в гладкое, тонкое. Он подцепил и вытянул ткань – тонкую, почти прозрачную, бирюзовую, в мелких темно-голубых загогулинах, потащил и вытянул краешек, аккуратно обстроченный такой же сияющей бирюзовой нитью. Шейный платок? шарф? Из шелка?
Рощин почувствовал, что ладони у него покрываются потом, пальцы дрожат, что непонятная, тревожная дрожь захватывает и душу и обещает близкую радость, счастье – почему? откуда? – но не найдя исхода, вспыхивает яростью.
Внезапно захотелось достать этот платок и смять, изорвать к чертовой матери! В клочки, мелкие обрывки. Сжечь прямо на балконе пахучую коробку, собрать в горсть пепел и развеять по зимнему сырому дню, пусть летит, куда подальше! Он вжал ногти в ладони и зарычал, от бессилия, от непонимания, что с ним, почему эта коробка так его разозлила?
Какая-то часть его угадывала только, что это был дар, чудесный дар для женщины, ослепительной, красивой, наверняка красивее, чем мама, ускользающей и милой, но такой же, как мама, беззащитной, и потому несчастной – вот что он ощущал в этот миг, сам не заметив, как отделил маму от той, кому предназначался этот тонкий летучий шелк. Женственность и горькая тайна – вот что сочилось из розового душистого нутра. Он едва помнил, как завернул бумагу, постаравшись придать подарку нетронутый вид, завязал на боку красный бантик и вернул чужестранку на место.
На следующий день после школы он снова побрел к балкону, правда уже раздевшись, сняв куртку и ботинки в прихожей, и… точно на первое свидание шел, волнуясь, желая и не желая встречи, собирался только еще немного ее понюхать, раскрыл дверцу.
Ровно и пусто поблескивали банки. Коробки в шкафчике не было.
Стоит ли говорить, что и бирюзового шарфика в крапинку он никогда больше не видел.
3.
Жалость к матери протыкала внезапно. Вовсе не когда отец обижал ее, кричал, хотя при нем это случалось не так уж часто, по-настоящему мать начала признаваться в нескончаемых обидах на отца лишь в последнее время, возможно, сочла, наконец, что Рощин вырос – нет, без предупреждения, без ясного повода.
В лагере, куда она приехала с набитыми снедью сумками, шла от станции три километра пешком, а в лагере – оп, карантин, родителей не пускают, им позволили по милости парня из первого отряда, стоявшего на воротах, все-таки пообщаться 15 минут, присесть на полянке возле самых ворот, он хотел рассказать ей, как они играли вчера в «Эрудит», и он выиграл, но никак не успевал – мать засовывала в него персики, куски нарезанной еще дома дыни, яблок, и он уже не мог это есть, но ел, потому что она ехала, везла, шла три километра, а завтра уже все испортится… Ел, и жалость шпарила его изнутри, тогда, может, впервые она его и накрыла.
Но и теперь, уже взрослым дядей, отцом семейства, когда он сидел на знакомой до последней выщерблинки родительской кухне, жевал испеченные матерью сырники, уминал приготовленные специально к его приходу его любимые котлеты, Дашка так все-таки не умела, стоило только поднять глаза. Мать сидела напротив и смотрела на него – молча, словно боясь помешать бушевавшему сыновьему аппетиту, которому вообще-то мало что могло помешать (любовь Рощина к жирной и неполезной пище, плотный животик, появившийся у него к тридцати был предметом вечных насмешек отца). Мать никогда не осуждала его за аппетит, только радовалась. И этот взгляд ее он помнил, знал с самых ранних лет: всю жизнь она смотрела на него так, и не только в лагере, но и когда он был младенцем и глотал кашу, и в школе, и теперь. Накормить досыта ребенка – это и было самое важное. Здоровье – главное. И о чем бы он не заговаривал с ней, о работе, своих успехах – о том, что его статья вышла в большом русско-немецком каталоге об авангарде, и пособие для студентов обещали, наконец, выпустить в конце месяца, или там про Юльку, которая начала ходить на спортивные танцы, пока получается не очень, но смешно, о чем бы… разговор все равно сворачивал на его, Кирюшино здоровье – как его коленка, он сломал ногу еще в ранней юности, неудачно свалившись с велика, с тех пор коленка болела в сырые осенние дни, почему он себя не бережет и столько работает, разве так можно? Ничего важнее здоровья нет, так что питаться надо регулярно. Пить побольше.
«Носи с собой всюду воду, и на лекции, бутылочки сейчас везде продаются, хочешь куплю тебе запас на год?»
Тут-то и поднималась жалость, почему?
Никогда об этом не думал, просто фиксировал ее и пережидал.
И сейчас, пока Рощин методично стирал эсэмэски – из банка, из Спортмастера, деловитые и ласковые от Дашки, краткие от коллеги, Сени Мороза, с которым ходили между лекциями на ланч, жалость продырявила снова. Но теперь подобие ответа шевельнулось: да вот же, вот поэтому. Мать была несчастна с отцом.
И как он отодвигал от себя это столько лет? Почему даже смотреть туда не хотел? на длящуюся годами, на глазах, ее боль. Почему уходил в свою комнату, едва отец начинал. Как тут поможешь потому что… Поэтому, да?
Отец кричал – мать молчала, отец командовал, мать подчинялась, однажды, еще мальчиком, Рощин спросил у живой тогда бабушки, отцовой тетки – нашел у кого! – а папа любит маму? И бабушка, железная женщина, не дрогнув, отчеканила: «Любит. Иначе б давно развелся». Не развелись, развелся! Мать в расчет не бралась.
Он поверил тогда бабушке, он этим заслонялся: иначе б… Но если бы не встретил Дашу, думал бы, что так, как у отца с матерью – у всех, не бывает по-другому.
Еще в детстве он дал себе зарок: ни за что, никогда не кричать на жену. Но едва женившись, зарок нарушил. Было это еще в самую раннюю их с Дашкой пору. Они страшно торопились тогда, в театр, только открывшийся тогда Фоменко, Дашка очень хотела. И никак они не могли в этот вечер выйти из дома, и ясно было, что точно опоздают, даже если такси, но она все еще не была одета, душилась, красилась, Рощин уже минут десять томился в коридоре в теплом пальто, и извелся, и повысил голос… Она сейчас же выскользнула из комнаты, с недокрашенным глазом, подошла к нему, обняла. Сказала отрывисто, низко и неожиданно нежно: «прости», «я копуша», «сейчас». Рощин растерялся. У них так было не принято. Полагалось окаменеть и начать суетиться, ронять предметы, почти дрожать. Замкнуться. Чем громче отец орал, тем безмолвней делалась мама. В безжалостном торжестве отца окончательно заледеневая. Но вот же, как надо было! Вот. Обнять. Не спорить, но и не уступать. И приласкать, чтоб не злился. Объяснить, что сейчас, сейчас все будет хорошо. Так и пошло, даже в редкие минуты поднимавшегося в нем гнева, Дашка никогда не давала ему разгореться, успевала раньше или на всходе, и заземляла, гасила, он сам не понимал до конца, как. Поэтому и маме вряд ли смог бы все это объяснить.
Да она и заговорила с ним как со взрослым всего несколько лет назад, уже после рождения Юльки, словно признав в нем наконец равного, чуть отмерла, и жаловалась ему на отца последнее время уже постоянно, точно наверстывая за все годы. А может, невозможно уже было не жаловаться, особенно в этот, предъюбилейный год, когда отец начал не просто стареть – осыпаться.
4.
Все хуже слышал и включал телевизор на максимальный звук – мама пряталась от грома в кухне, плотно закрывала обе двери, и отцовскую, и кухонную, но в минуту рекламы, когда отец ставил на беззвучный режим, нет-нет, да и решалась заглянуть с четким, громким посланием: когда ты купишь себе, наконец, слуховой аппарат? Отец не желал слухового аппарата, говорил, все, что ему надо, слышит, а что не надо – того даже даром слышать не желает, не то что в дорогой аппарат. Он вообще часто шутил, но мама его шуткам не улыбалась.
Ухудшалось и зрение, отец и это не желал признавать, и скрывал, особенно от Рощина. Рощина в первую очередь. На территории расползающейся отцовской дряхлости, Рощин был частью враждебного мира, мира, в представлениях отца, по-прежнему пребывающего в иллюзии, будто Владимир Петрович Рощин (по прозвищу ВПР) несокрушим. Как обычно, как всегда. Эту иллюзию надо было длить и поддерживать. Да ведь так и есть: стены укреплены, пушки протерты и смазаны, ядра высятся аккуратной чугунной горой, и вздыблены над крепостными рвами мосты. Боевая готовность – полная. Ум, память, глаза, слух Владимира Петровича включены на полную мощность. Работают все радиостанции Советского Союза.
Среди внутренних врагов был и любимый институт, давным-давно переименованный в университет, а в прошлом году объединенный с другим вузом, помельче. Отец преподавал там уже около полувека. Автор множества учебных пособий с упражнениями, а главное, внятного и до сих пор не устаревшего учебника по теоретической механике, пережившего с десяток переизданий, лауреат правительственной премии уже послеперестроечной поры – отец был почти национальным достоянием. И когда один ректор сменял другого, даже когда произошло это слияние, и многие остались за бортом – на фигуре отца начальники неизменно сходились: пусть, пусть еще потрудится ВПР, законы механики не стареют.
И два раза в неделю профессор Рощин облачался в наглаженную мамой рубашку, обязательно голубую! Любимый цвет – и в шкафу висело штук двадцать рубашек всех оттенков голубого, от почти синего до размытого осеннего неба в солнечный ноябрьский день, затем надевал серый или, на смену, темно-серый костюмный пиджак, а изредка, когда был кураж, обычно случалось это уже весной, наряжался «по-молодежному», в джинсы и пиджак вельветовый, бежевый… В особенные дни, на защиты и институтские праздники, отец доставал из лаковой шкатулки с мягким багровым нутром любимые запонки, прямоугольные изумрудные или круглые черные в золотых ободках. Были и другие, но он предпочитал эти две пары, щелкал ими с удовольствием, любовался вспыхивающим в солнце золотистыми колечками, завязывал начищенные до блеска ботинки, подхватывал портфель, во дворе заводил любимый вишневый Опель. Мама смотрела ему вслед, с их четвертого этажа.
Выходил на кафедру, чтобы – в который, господи, раз? – восьмисотый! трехтысячный! говорить будущим инженерам-строителям о силе действия равной противодействию, равновесии тела и законе сохранения энергии. Без бумажек и конспектов, разумеется – все формулировки и формулы крепко сидели в памяти, которая обнаруживала одну пробоину за другой, во всех областях, кроме этой. Отец говорил ясно, весело и… неукротимо, Рощин бывал на его лекциях – его действительно трудно было не слушать. Сухощавый, подтянутый и неизменно увлеченный, ВПР так и впечатывал в головы определения, приводил примеры, и разные, и всегда живые, красочные «представьте себе, что вы прыгаете с парашютом…» – словом, несся на всех парусах, задорно поглядывая на студенток, сурово – на молодых людей, свободно, действительно почти не стареющей походкой расхаживал по аудитории, черкал синим маркером формулы и стрелки на белой доске…
В детстве Рощин гордился им, листал «папин учебник» со своей фамилией сначала на скромной черной обложке, затем на нарядной зеленой, потом и на малиновой, с золотым тиснением. Основные законы механики были выделены жирным шрифтом, а в одном из последних изданий появились специальные рамочки с указующим на них голубым перстом. Кое-что из слов в рамочках Рощин до сих пор помнил наизусть: «Тело находится в равновесии, если оно покоится или движется равномерно и прямолинейно относительно выбранной инерциальной системы отсчёта». Отец двигался равномерно вот уже десятки лет. И окружавшая система отсчета все еще не смела ему противоречить.
Впрочем, когда извергавший гром телевизор окончательно добивал ее, мать вскидывалась:
– Не понимаю, как ты преподаешь? Или ты там, как в вакууме? Задают тебе студенты вопросы? Что ты там слышишь?
В этом месте отец даже выключал звук. На такие обвинения нельзя было не откликнуться.
– Задают, – с достоинством ронял он. – И на каждый! я отвечаю. Даже на самые… наивные, – отец всегда был корректен по отношению к студентам. – И вопросов после лекции всегда немало. Главное – заинтересовать.
Как же он их слышал? Студенты кричали, верещали, спрашивали в микрофон? Но однажды во время очередной стычки отец проговорился, добавив для убедительности – «целая куча на столе к концу лекции собирается». Куча? Мать торжествовала! Пересказывала потом Рощину: вопросы-то отцу писали на бумажке, а не произносили вслух – отсылали в записочках, вот что!
И все же допустить, что глухота и слепота отца оставалась незамеченной, было невозможно. Но его по-прежнему не трогали. Во всяком случае пока. Тем надежней надо укреплять крепостные ворота, задвигать засовы и молчать, никому не сообщать о своих походах в поликлинику, как на работу, и прятать подальше новый контейнер для лекарств – огромный, потому что прежний стал мал.
«Кириллу не говори», – вот что чаще всего слышала мать.
Отец и не догадывался: в крепости завелся перебежчик, и все хранимые за семью засовами секреты Кириллу становились известны первому. Рощин был отлично осведомлен, когда отец проходит курс уколов, и как он подействовал на левый, особенно стремительно теряющий зрение глаз, и что, несмотря на это, отец все еще садится за руль.
– Вчера жизнь нам буквально спасла, под грузовик поехал, – рассказывала во время очередного телефонного разговора мать. – Он не то, что не видел, какой свет, а горел красный, он вообще не видел, что там светофор. Слева, а у него левый практически нулевой. В итоге? Ну, отделались легким испугом, на бордюр въехали, бампер о цветочную клумбу бетонную помяли. К тому же скажу тебе по секрету, только ты уж меня не выдавай, – это мать приговаривала почти после каждого признания, – с прошлой недели китайца начал посещать, колет его за безумные доллары, месячный курс – это уже для слуха.
И Рощин обмирал: отец действительно видел и слышал все хуже. За последние полтора года на счету его появилось уже две аварии, обстоятельств которых отец не разглашал, к счастью, оба раза ударили его – и оба раза с последствиями только для автомобиля. После этой встречи с клумбой, «Опель» снова, к великому маминому облегчению, переехал в техцентр и уже две недели ждал очереди.
Дашка, оторвавшись от книжки, кажется, сказала ему что-то – про специи, кофе, а, да, полочку на кухне прибить, на которой они всегда стояли. Он сказал: обязательно. Отец научил его держать в руках молоток и рубанок, спасибо! Научил, а сам…
5.
Нынешней весной на даче, куда родители по-прежнему ездили, Рощин взялся чинить с отцом душ, дверцы просели, понадобилась крестовая отвертка, трешка, отец направился в сарай.
– Давай я, пап? – крикнул Рощин уже ему в спину.
– Не найдешь, – бросил через плечо отец.
И пропал. Работа застопорилась, Рощин подождал, подождал да и отправился следом – сарай стоял на другом конце участка, обогнул мамину теплицу с яркими росточками будущих огурцов, сиренево-розовую клумбу, плещущую неведомыми ему цветами, подошел к их старенькому, заслуженному сараю с инструментами, поднялся на каменную ступень. Сквозь высокое, единственное здесь окошко, пробитое под самым потолком, наверху, сочился рассеянный белый свет – отец, явно вслепую, тихо ощупывал в этом светлом полусумраке отвертки, выстроившиеся в три ряда на стене. Его появления отец не заметил, не расслышал, и не спеша все трогал и трогал одну за одной отверточные ручки, точно играл на неведомом музыкальном инструменте, касался пальцами гладких шишечек – верхний, средний, нижний ряд.
В сарае царил идеальный порядок: отвертки торчали на узкой специально для этого сделанной полочке с отверстиями, верхний этаж занимали плоские, средний – крестовые, третий – разные, нужная отвертка аккуратно сидела в своем гнезде, третьем слева, Рощин это ясно видел, но отчего-то отец ее узнать не мог, и раз за разом не в состоянии был разобрать: какая же из них та? И почему-то не зажигал свет, хотя в конце прошлого года провел его сюда, наконец – четыре повисшие под потолком лампы сияли ярче тысячи солнц! Рощин дернулся, хотя бы включить свет, но сдержался: отец не звал на помощь, значит, помощи не желал. Он упрямо двинулся уже на четвертый круг, что-то невнятно бормоча, кажется, подсчитывая, где именно находится нужная.
В сарай влетела крупная нарядная бабочка, шоколадница, чуть слышно треща крыльями, метнулась к оконному свечению вверху, сделала круг под потолком и улетела, вернулась назад, к настоящему солнцу, но все успела расколдовать. Отец чуть заметно улыбнулся и кивнул сам себе – нашел! Рощин спрыгнул вниз и поспешил к душу, а через несколько мгновений явился и папа. С нужной отверткой.
– Свет-то работает у тебя, в мастерской? – бросил Рощин как бы между прочим уже за обильным дачным обедом – как всегда из четырех блюд, мать стряпала все утро.
– Свет? – отец изумился, ложка с борщом застыла на полпути.
– Ну, ты же осенью еще провел. В этом году не включал пока?
Он задумался, все-таки проглотил борщ. Одна реальность, давняя, выдержанная, надежная, плотно забила новую, зыбкую, но отец нащупал ее кое-как, как отвертку, вспомнил! и через паузу произнес.
– Да, чего-то не включал, надо бы, конечно, ты прав.
Все новые и новые бабочки-лазутчицы, свидетельствующие, что разрушительные силы ведут тайный, да какой там тайный! явный, наглый подкоп, влетали в нынешнее лето одна за одной. То эта история с предохранителем бензопилы, механизм которого отец (инженер! механик!) не мог постичь, даже несколько раз прочитав инструкцию, то бессмысленная ссора с дачным соседом, который ни в чем был не виноват, но отец его не так расслышал.
И когда уже в конце лета они чинили вдвоем водопровод, не в состоянии был разобраться, что перекрыть нужно другой, другой кран, той водопроводной трубы, что соединяла колодец и бочку, а не бочку и раковину на кухне – этим самостоятельно созданным водопроводом отец гордился долгие годы, пока не забыл, как он действует. И когда Рощин, чуть раздраженно, повторил ему: «другой!», вскинул взгляд – напряженный, готовый к бешенству и отпору, но внезапно та же тихая, уже знакомая Рощину потерянность поднялась точно помимо отцовской воли из полуслепых глаз, мелькнула и растворилась в лице, задавленная прежним сердитым упрямством. Отец потянулся к неправильному крану, словно назло.
– Пап! – произнес Рощин почти капризно, слабея от отчаяния, – не этот, говорю тебе, другой! Сейчас сломаешь все на хрен.
И точно разбуженный резким словом, отец замер, подумал чуть, усмехнулся:
– А пожалуй, ты прав. Даром, что культуролух.
Воспоминания захватили Рощина, он так и лежал, уставясь в давно погасший мобильный, Дашка, кажется, ему что-то снова проговорила. Он не откликнулся, пока она не ущипнула его за плечо и тут же сказала, нарочно громко: любимый, ты погасишь ли когда-нибудь свет, мы к вам обращаемся, ау! спишь?
Он сейчас же нажал на выключатель, расположенный с его стороны кровати, комната погрузилась в тьму, уютную и домашнюю, чуть подсвеченную сиянием уличных фонарей.
Рощину захотелось рассказать Даше про эту странную отцовскую эсэмэску и про недавнюю историю с грузовиком и неувиденным светофором, жуткую, в сущности, историю, нельзя было больше отцу водить! Но он не понимал, как, какими словами, и пока думал – раздалось ровное сопение его жены. У нее тоже был тяжелый день. Дашкино посапывание его утешило, в конце концов существовала и другая жизнь, вот такая, в которой рядом спит любимая женщина, она же жена, а за стеной – раскинувшись, беззвучно дышит, обняв зайку, самая лучшая девочка на свете, вчера закачался передний зуб. Зимой, на каникулах, обязательно поедут втроем в снежную рождественскую Прагу, давно собирались, надо только списаться с Ваней Симоновым, бывшим однокурсником. Ваня давно жил в Чехии и возил на экскурсии русских туристов, он знает, в каком месте лучше поселиться, а там – фильтрованное и нет, замки, черепичные крыши, таверны… да просто Европа… нормальная спокойная жизнь.
6.
Чтение папиного учебника не сделало из Рощина физика, он оказался «фантазером», как говорил отец. Все рисовал что-то несусветное, красные крендельки, сыпавшиеся из фиолетовых амфор, зеленые треугольники раскинувших узорчатые крылья птиц, зажавших в лапах оранжевые кружки – «волшебный геометрический бал», пояснял семилетний Рощин, и дорисовывал летающих рядом собак и замки с голубыми стрекозами в окнах… Недаром, наверное, потом он так полюбил абстракционистстов, ими потом и начал заниматься, диссер написал о Мондриане. «Не мог выбрать безусловное, Рафаэля, хоть Рембрандта! Кого-то нормального», – снова сокрушался отец. И так всегда. Сколько Рощин помнил себя – отец никогда не доверял его привязанностям и любовям: что такое растет из тебя? К чему? Вот что читалось в жестком отцовском взгляде. А уж когда Рощин увлекся уже в старших классах ролевыми играми, и стал пропадать в парках, деревянный меч и доспехи пришлось прятать. Особенно тщательно после того, как не за день, не за два тщательно собранную коллекцию оружия отец в ответ на его очередную двойку по геометрии, выкинул с балкона («я тебе устрою геометрический бал!»). Рощин потом бегал по двору, собирал и плакал тайно: щит не выдержал падения и раскололся от удара напополам.
Когда Рощин повзрослел, и отец, словно утратил последние иллюзии, отношения их сделались ровнее, но еще суше.
Только пятилетняя Юлька знала к нему подход, как-то умела размягчить, даже разговорить деда. С внучкой суровой ВПР делался неузнаваемым – принимал от нее «телячьи нежности», давал себя целовать и сам целовал ее в щечку, подолгу с ней говорил – болтала, конечно, в основном Юлька, дедушка только умиленно внимал. И, похоже, разбирал каждое слово. Без слухового аппарата.
За что он так полюбил ее? Рощин и сам не понимал. Ну, не за нежности же ее девчончьей только, нет. И не от того одного, что деды вообще неравнодушны к внучкам – может быть, почуял в Юльке свою породу? Напор бешеный, энергию без оглядки, готовность добиваться поставленной цели, свободно перепрыгивая или просто прошибая препятствия, если понадобится, собой.
Рощин был другим – медлительным, бесконфликтным, предпочитал обогнуть, не бить насквозь, хотя выбор свой отстоял, и искусствоведом все-таки стал, сильнее правда хотел художником, но на это все же не решился. Даже искусствоведение потребовало такого противодействия! Отец долго еще не мог смириться, скрывал это от знакомых, своих приятелей, бывших советских инженеров. Не говорил, где учится сын, всегда кратко отрезал: в РГГУ, только если уж очень наседали, цедил: «гуманитарий».
Хотя в чем-то и Рощин пошел по его стопам, тоже вскоре после университета начал преподавать в одном новорожденном и быстро растущем вузе, читал лекции и вел семинары по истории искусства ХХ века, объяснял особенности живописи Кандинского и Поллока. Не раз прямо на лекциях рассказывал студентам поразивший его эпизод из собственной студенческой юности. Самый древний и знающий их преподаватель, седенький и чуть шепелявивший Илья Матвеевич, читая им лекцию про голландцев, вдруг признался: «Поймите, мы писали свои монографии по репродукциям – вы можете все увидеть все собственными глазами, – Илья Матвеевич даже снял и тут же снова надел очки. – Когда три года назад я впервые и, по-видимому, последний раз в жизни попал в Рейксмузеум в Амстердаме, я был потрясен, совершенно иная гамма, которой никакая фотография этого не передаст, и значит, все, что я писал, было неточно». Это был конец 1990-х, когда европейский музей давно мог посетить каждый житель бывшего СССР. Так Рощин пытался объяснить студентам ценность похода на выставку, в музей, но они все равно ленились. Он придумывал разные другие хитрые способы их увлечь, и даже получалось…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.